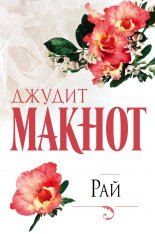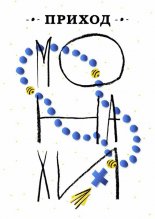Бросок на Прагу (сборник) Поволяев Валерий
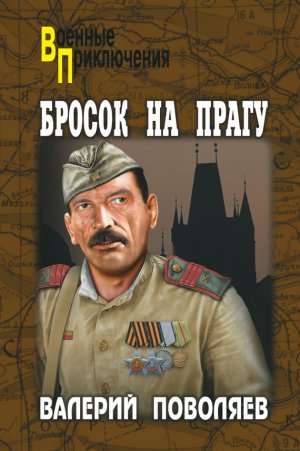
— Пошли, пошли! — не унимался старший. — Говорит, что часовщик, а на самом деле враг. Ну! — Он повысил голос. — Так оно, наверное, и есть!
Понял Борисов, что мирные уговоры не пройдут и его принимают не за того, кто он есть на самом деле.
— Ну и ну, — пробормотал он обескураженно.
— На прошлой неделе один такой культурный уже прилаживался к этой доске. — Младший аккуратно покашлял в рукавицу.
— A ну, встать! — выкрикнул старший, лицо его сделалось бледным, губы потемнели и вспухли, будто у негра, рукавицей он провел по рту, и Борисов понял, что старший милицейского наряда болен.
Делать было нечего, Борисов встал.
— По дорожке — прямо, а потом направо, — приказал старший, хлопнул рукой по кобуре нагана и добавил: — Если будешь ловчить и дернуть намылишься — подстрелю, как куропатку, понял?
Чего же так угрюмы, недоверчивы и злы стали земляки, тихие интеллигентные питерцы, что же с ними сделала война? Борисову показалось, что серые горбушки сугробов начали сиренево светиться и этот печальный свет лился неспроста: кто-то из великих прощался в эту минуту с жизнью — умрет он, вместе с ним умрет и день, и прольется такой же печальный свет…
— Иди, не виляй! — подтолкнул Борисова усатый конвоир, он, похоже, все-таки был уверен, что задержал диверсанта либо государственного вредителя и положена теперь ему законная награда, медаль или буханка хлеба сверх того, то он получает — старший шел за Борисовым, раздираемый кашлем, сплевывал розовую слюну на снег. Попав в сиреневое цветотье, розовый сгусток делался обжигающе-красным.
Странный сиреневой свет рождал щемящую горечь, бередил, заставлял тосковать, вспоминать людей, которые нечасто приходят на память, — хотя бы тех, с кем Борисов вместе воевал. Многие из них были великими, печать незаурядности, гениальности лежала на их лицах, но они умерли, не успев стать великими. Слишком мало вместе с ними пробыл Борисов, и худо то, что он не сохранил их в голове: осколок хоть и не сумел выбить его из жизни, но память все-таки отшиб, эти люди и подают о себе знать печальным сиреневым светом, отдав ему все, что имели, всю силу и чувства, все до конца. Борисову сделалось обидно, колючий комок родился у него в горле, вырос, превратился в моток проволоки и застрял — тьфу, моток проволоки в глотке!
— Иди, иди! — продолжал подгонять его усатый. Будь его воля, он вообще бы шлепнул Борисова из нагана. Младший же не верил, что Борисов диверсант — скорее всего, обычный вор, который околел от холода и решил стащить доску на растопку. Слишком уж лакомый кусок для буржуйки эта доска. На прошлой неделе один такой тоже хотел слямзить щиток — больше он никогда ничего уже не слямзит!
В милиции перед Борисовым извинились, и тот же хмурый усатый конвоир, корчась от кашля и ломоты, вывел его на улицу:
— Ты не обижайся, браток… Война!
Обращаться на «вы» он так и не научился. Борисов, вспомнив собственные рассуждения на этот счет, усатого обругал. Поздно усатому учиться вежливости.
— И учти, браток, возле часов мы установим пост, охранять будем, если тебя снова задержат, скажи, что ты — Борисов и все будет в порядке, — сказал на прощание усатый.
За домами Борисов увидел людей, но среагировал на них запоздало — думал о часах. Конечно, и без его часов люди могут прожить, есть, наверное, такие, что исправно заводят ходики, накручивают головки ручных «молний» и карманных луковиц, следят за будильниками и старыми дворянскими инструментами, обладающими золотым боем, по бумажным тарелкам радиотрансляции звучит не только метроном, предупреждающий о начале снарядных налетов или отмене тревоги, — сообщают и время, но часы есть часы. Должны же хотя бы одни часы в городе ходить! Пусть даже если эти часы — солнечные.
В сером плоском пространстве между домами, которое, казалось, не имело никакого продолжения, по-прежнему перемещались люди — темные вялые фигуры, подмятые голодом, таких фигур обычно бывает много у булочных — выстаивают, чтобы получать долгожданные сто двадцать пять граммов тяжелого и холодного, как глина, хлеба, но в этих домах булочной не было.
Он свернул налево, к домам, — ноги сами по себе понесли его, словно коня, решившего презреть кнут кучера, — действительно странное скопление народа, будто выставили прилавки и разложили пайки хлеба — подходи и бери без всяких карточек.
По узкой заснеженной улице, сжатой с двух сторон отвалам, вели пленных. Колонна была длинной, скрывалась за поворотом, на котором стоял высокий облупленный дом с выбитыми стеклами. По обочинам улицы выстроились питерцы.
Как не похожи были розовые, без голодной синюшности и горьких старушечьих морщин лица пленных на светящиеся худые лица питерцев! Пленные шли вразвалку, руки засунуты в карманы, мороз их, кажется, совсем не трогал, глаза насмешливые — пленные были уверены в себе. Но питерцы, хотя и не задевали пленных, тоже были уверены в себе. Лица землистые, тяжелые, голодные, глаза проваленные, будто всосанные в черепа — дырки в костяках, обтянутых восковым пергаментом, щек нет, тощие шеи укутаны бабьими платками, шарфами, кусками материи, отхваченными от низа пальто. Впрочем, бабьих платков хватало и у немцев, но все равно они выглядели иначе, чем блокадники, над ними не витал дух страдания, изможденности, тлена, и призраков среди них не виделось, хотя они и были пленными, а блокадники еле стояли на ногах. Иной готов был рухнуть под тяжестью одежды, натянутой на тело, но не падал, держался из последних сил — негоже было валиться перед фрицами, и люди держалась, твердо сжав рты и костенея скулами, смотрели на немцев с ненавистью, но не трогали.
Не принято в России трогать пленных. Да и охрана не даст — усталые пожилые люди в шинелях и простеньких, подбитых ватой шапках с опущенными ушами.
Борисов протиснулся в шеренгу питерцев. Слева от него стоял угрюмый дед с вылезшей сивой бородой, одетый в старую телогрейку, справа — пацаненок с пустым чайником в руке.
Встретился глазами с одним немцем — высоким, дородным, взгляд немца не заискивал и не ускользал в сторону, будто намыленный, полные щеки встряхивались в такт шагам. Борисов невольно повел плечами — уж очень насмешливый был взгляд немца. И одновременно жалеющим — этот закончивший войну фронтовик жалел голодных, обессиленных людей, Борисов повертел шеей в тесном обжиме воротника, погасил в себе недовольство. Он так же, как и все, ненавидел немцев. И тех, кто растянулся в длинной неуправляемой колонне — всех до единого, и этого конкретного фрица с трясущимися брыльями и холодным фанерным взглядом: попадись ему Борисов по ту сторону фронта, немец с него бы семь шкур содрал, так почему же Борисов не спускает с него семь шкур, не раздевает взглядом, а?
Немец подмигнул Борисову.
— Сволочь! — сипло напрягся старик в телогрейке. — Еще подмаргивает, а? — Вздернул вверх костлявый слабенький кулак, погрозил: — Ноги переломаю!
— Не переломаешь, старик, — неожиданно по-русски произнес немец, — из себя вылезешь, а не переломаешь. — Он довольно сносно говорил по-русски, только окраска слов была иной, чем, допустим, у Борисова или у старика, — лишенной полутонов, безразличных для уха иностранца оттенков, теплоты и живости, одушевленной неправильности, сопровождающей почти всякую живую речь, Борисов удивился: где же он так сумел наловчиться по-русски? В России, что ли, жил? Или из белых, которые в Гражданскую откатились на запад и стали французами, немцами, голландцами?
— Св-волочь! — покрутил головой старик, просквоженный голос его дрогнул, появилось в нем что-то слезное: а ведь он действительно не мог переломать немцу ноги, даже если бы конвоиры отдали ему этого брыластого, осознание собственной слабости подмяло старика, он сжался, вбираясь в телогрейку чуть ли не с головой, немцу, наверное, было странно видеть: как это так телогрейка держится на пустых ватных брюках, заправленных в высокие, с разрезанными голенищами валенки?
— Вам же сдаваться надо, вы все дохляки, все умрете! — выкрикнул немец. К нему поспешил конвоир, но немцу конвоир не был страшен. — Вас через Красный Крест подкармливать надо! — продолжал митинговать немец. — Дохляки!
— Ничего, скоро сам дохляком станешь, — прозвучал из пустой телогрейки стиснутый голос старика.
— Не стану, — на розовом неголодном лице пленного возникла издевательская улыбка, — мы-то в Сибири отъедимся и живы останемся, а ты, старик? Сколько еще протянешь? День, два, три? — Пленный хмыкнул и скомандовал сам себе, печатая по снегу шаг: — Айн, цвай, драй! Айн, цвай, драй! — На прощание он оглянулся на старика, вылезшего из телогрейки, — рот у деда обиженно распахнулся, сыпался туда всякий снежный сор, а рот дедок никак не мог закрыть — подрубили обида, глумление, чистая бездушная речь сытого немца — видать, офицера: шинель на нем хоть и без погон была, содрали витые серебряные бобошки, а добротная, из хорошего сукна. Пленный снова издевательски подмигнул. — Счастливой смерти тебе, старик!
— Св-волочь! — всхлипнул старик, прихлопнул рукою рот, просипел сквозь варежку: — И куда же вы, люди добрые, смотрите? — Голос у него задрожал и угас.
— Погоди, отец, придет пора. — Борисов подхватил рукав телогрейки, почувствовал, что костей у старика совсем нет, невесомо птичье тельце довольствуется ссохшимися отвердевшими мышцами, обходится без костяной основы. — Обязательно придет…
Но что значил шепот в сравнении со зримой очевидностью фактов? На старика он никак не подействовал, тот, нырнув в телогрейку, как в подвал, уже больше из нее не выныривал.
В это время из боковой улочки вышла нестройная группа девчонок в шинелях и холодных скрипучих сапожках. На плечах девчонки несли трубы — с какого-то ответственного боевого задания возвращался военный девчоночий оркестр. Хоть и голодны были девчонки и слабы и секущий крепкий ветер прихватывал коленки, обтянутые холодными нитяными чулками, а сразу сообразили, в чем дело, по команде «И-и р-раз!» притиснули к губам заиндевелые мундштуки музыкальных инструментов, — отдирать теперь придется только с кровью, железо мертво припаялось к живой ткани, — и по новой команде «И-и д-два» вспороли шаркающий топоток колонны веселой громкой музыкой. Над улицей грянул радостный марш.
Немцы скисли — марш подействовал хуже, извините, мордобоя: если бы сейчас эта голодная синюшная толпа кинулась мять их, давить, считать позвонки на спинах, потерь было бы меньше, а марш пришиб их.
Старик высунул голову из телогрейки. Маленькие, выцветшие до бели глаза его поблескивали влажно и победно…
— Вот и хозяин явился, — приветствовал кто-то Борисова из кухни.
Вчерашний морячок!
Над домом прогудел тяжелый снаряд, ушел в центр города, черная бумажная тарелка репродуктора всхлипнула, раздался неземной трескучий голос: «Говорит штаб местной противовоздушной обороны. Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение на улицах прекратить, населению укрыться», — и медленные размеренные звуки метронома участили свои удары.
— Ну что, будем укрываться или нет? — прокричал морячок.
— Нет, — также громко отозвался Борисов, пошаркал ногами о старую, сделавшуюся от времени жестяной тряпку, брошенную у порога.
— Не положено?
— Обойдемся без бомбоубежищ, — сказал Борисов.
— И мы обойдемся!
Борисов остановился в кухонном проеме — на столе лежали продукты, которых он давно не видел: тушенка в высокой, смазанной тавотом банке, облепленной, чтобы не пачкать руки, разлинованными циркулярами, увесистый ломоть нежного розового сала, кружок колбасы с шелушащейся коричнево-подпеченной шкуркой, два куска колотого сизоватого сахара и истыканный крупными порами-крапинами сыр.
— Откуда все это? — спросил Борисов шепотом.
— Паек полкового разведчика, — бодро отозвался морячок, оправил на себе шерстистую темную форменку, натянутую на бумажный серый свитер, встал. На груди у него звякнули две медали, обе на квадратных плоских колодочках, обтянутых красной материей. На одной колодке ткань была уже вытерта, засалилась и потемнела, на другой дразнила взгляд своей яркостью — видать, морячок время даром не терял, исправно зарабатывал награды.
Да что награда! Самая главная награда, которая достается фронтовику, — это жизнь. Если жив, то никакого ордена не надо, ничто не сравнится с жизнью по ценности своей, в ощущении, что ты видишь белый свет, дышишь, можешь ходить и топить печку, писать книги, вспарывать ножом говяжью тушенку, грызть сахар и запивать его крутым фыркающим кипятком, любить женщин и небо… Г-господи! Борисов чуть не задохнулся от мысли, что все это в один миг может оборваться, превратиться в пустоту, в гниль, сглотнул слюну, застрявшую в горле, и сделал шаг навстречу моряку.
Краем глаза заметил, что вид у Светланы какой-то ошеломленный, даже блеклость и худоба вроде бы исчезли, в глазах появилась жизнь.
— Какое богатство, вот спасибо! — проговорил Борисов, сделав еще один шаг к моряку, обнял его и чуть не застонал от ответного крепкого сжима, ему показалось, что сердце сейчас выскользнет у него из грудной клетки, открыл рот — пропал воздух, нечем было дышать, кости захрустели.
— Меня зовут… да, в общем, и не важно, как зовут, — простецки заявил морячок, продолжая держать Борисова на весу, он был прям и бесхитростен, этот человек. — Фамилия моя — Яковлев. Свободный человек, родился в старом купеческом городе Липецке в одна тыща девятьсот двадцать четвертом году. Смею заметить — при советской власти! Не участвовал, не воевал, не выступал, не имел, не крал, был идейно убежденным…
Борисов уперся руками в грудь морячка:
— П-пусти!
Морячок что-то обескураженно пробормотал и отпустил Борисова.
— Не рассчитал я, извини!
Захватив ртом побольше воздуха, Борисов закрыл глаза, покачнулся от того, что пол поплыл в сторону, и прижал руку к костлявому холодному лбу!
— Худо мне чего-то!
— Это от голода, это пройдет, — засуетился морячок, — сейчас позавтракаешь, и все пройдет!
— Сердце останавливается, — пожаловался Борисов, хотел добавить, что его будто бы полуторка переехала, — по району ходила такая автомашина, подбирала трупы, но смолчал — ведь морячок не хотел причинить ему боль, выдохнул: — Ничего… Пройдет! Уже проходит!
— Я сейчас, я сейчас, — продолжал суетится морячок. — Вас-то как зовут?
— Борисов!
— Это фамилия. А имя?
— Просто Борисов, и все. Так удобнее.
— Обиделся? — огорченно спросил морячок.
— Нет.
— Обиделся. — Морячок вздохнул. — Прости меня дурака, пожалуйста, — попросил он.
— Ничего, все уже прошло. — Борисов попытался улыбнуться, но вялые влажные губы плохо слушались его. Оглядел кухню, обжегся о блестящие глаза Светланы, и что-то тревожное сжало ему сердце.
Неподалеку тряхнуло землю, с потолка полетела серая пыль. Когда снаряд уходит в задымленное пространство, он всегда бывает слышен — голоса у снарядов разные, у одних гундосые, с прононсом, у других повизгивающие, у третьих истеричные, у четвертых грубые, напористые, у пятых тонкие, по-бабьи жалостливые — словом, что ни чушка, то своя песня; когда чушка бултыхается в воздухе, то она хорошо слышна, а эта прошла беззвучно. Значит, была «своя».
— Метров четыреста отсюда, — по звуку разрыва определил морячок. — Следующим может накрыть нас.
— Не накроет. — Борисов опять попробовал губами воздух, он не захватывал его. Неужели морячок что-то повредил у него?
— Раз не накроет, тогда будем завтракать. — Морячок подмигнул Борисову. — Мы только тебя ждали! — Морячок был невысок, но крепок, уверен в себе, плечи крутые, грудная клетка тугая, накачанная. — Завтракать будем с чаем. С настоящим чаем.
Оказалось, и чайник уже заварен. Не сладкой вонькой землей разбитых Бадаевских складов, которую ела половина Ленинграда, не сушеной травой и листьями, от которых кроме вяжущей горечи и поносов ничего не бывает, не морковной смесью, а настоящим, давно забытым чаем. Борисов, вдохнув этого запаха, размяк, стеснение в груди ослабло, он неверяще улыбнулся.
Над домом снова прогудел тяжелый снаряд: «Не наш», — определил Борисов. Через минуту под ногами встряхнуло пол. Для морячка же эти звуки войны не существовали — он к ним привык.
— Мать письмо прислала, — суетился он, мастерски нарезая ножом тонкие прозрачные дольки сала, как на подбор одинаковой величины, — пишет, что на город ни одной бомбы пока не упало, самолеты проходят мимо, на Воронеж, а Липецк для них словно заговоренный. — Морячок качал головой в такт движениям ножа, твердо, будто дробь, прокатывал слова. — Ни один самолет не свалился на крыло, вот загадка.
— Ничего загадочного, — вздохнув, проговорил Борисов, вздохнул поглубже, проверил себя. Легкие работали. — Немцы собираются взять этот город целым.
— Вполне возможно. Там металлургический завод, он им, думаю, во как нужен! — Морячок провел себя пальцем по горлу. — Война требует железа, свинца и пороха…
— И людей, — добавил Борисов.
— И людей, — согласился морячок.
Странное дело: кухня всегда была громоздкой, пустой и холодной, как пещера, ее никогда не могли заполнить люди, в ней обязательно существовали провалы, белые пятна; даже если ее целиком заставить мебелью, она все равно будет таращиться печальными пустотам, давить, но вот появился морячок, и пространство преобразилось, пустоты исчезли, голая обшарпанная кухня, с которой Борисов никогда, даже в лучшую сытую пору, не мог совладать, оказалась заполненной. Видимо, не от предметов это зависит. Все, что было здесь нелепым, чужим, неожиданно встало на свои места, приобрело смысл.
— Липецк — город знаменитый, — продолжил морячок, — в Гражданскую войну объявил себя республикой, Петр Первый начинал в нем корабли свои строить…
— А какая, собственно, связь? — спросил Борисов.
— Просто я говорю о начале начал. А потом принято рассказывать о том, что хорошо, о плохом — умалчивать. Законно? Дома купеческие стоят у нас на горках, горки мы называем спусками. В честь Петра Первого, он спускал корабли с горок. Один такой спуск в центре назвали Петровым, выходит он прямо к реке. В домах всегда были самовары. Это закон. Десятка по два. Все нафабренные, стреляют солнечными лучами и, смею заметить, — морячок вздернул указательный палец, пошевелил им, — у каждого самовара свой вкус, двух одинаковых чаев не бывало. Из артельного, на полтора ведра самовара — один чай, из тульского, обмедаленного — другой, из самовара с глубоким серебрением — третий, из латунного — четвертый, из медного, красного — пятый, из шаровидного — шестой, из походного, разбирающегося, офицерского — седьмой, из холостяцкого самовара — восьмой, из бронзового — девятый…
— Холостяцкий? — удивилась Светлана. — Никогда не слышала о таком самоваре.
— Не самовар, а целая машина, смесь примуса с керосинкой. У него два отделения: в одном холостяк кипятит чай, в другом варит суп.
У Борисова от вида еды сперло дыхание, он не думал, что нормальная довоенная еда может так одуряюще действовать, в глотке вновь скаталась в моток проволока, вызвала неудобство, на лбу, подбородке и губах выступил пот. Отчего же так слабы, уязвимы люди, отчего не могут держать себя в руках?
В воздухе вновь тяжело прошелестел снаряд, расшевелил пространство, звук у него был водянистым, бултыхающим. Борисов и к этому снаряду отнесся равнодушно — чужой!
Если сидишь в окопах или кукуешь где-нибудь среди болотных кочек, как это было с Борисовым, то многое угадываешь наперед, солдат просто учит этому себя, это перво-наперво, а все остальное потом — любое движение камышинки или далекое звяканье выдаст того, кто сидит по ту сторону незримой линии, — примет таких сотни, тысячи, возникают они из взаимоотношений живой земли и человека, а вот в городе этого нет. Живые взаимоотношения между асфальтом и человеком не возникают — у асфальта нет души, нет тепла, плоть его глуха — ничего никогда не подскажет человеку — и не предскажет тоже. Ни беды, ни радости.
Но вот ведь — к мертвому камню привыкаешь так же, как и к живой земле, — все одинаково, ведь асфальт, камень и земля — защита от пули, и плевать, что камень не может предупредить об опасности.
— Светлана, Светланочка, прошу к столу! — Морячок согнул локоть углом, подскочил к Светлане.
У Борисова что-то заныло в груди.
— Причина великих войн очень часто ничтожна, предельно мала — под микроскопом надо разглядывать. Как и великих природных перемен, — неожиданно проговорил он.
— К чему все это? — озадаченно спросил морячок.
Борисов смутился, острые скулы его заполыхали.
— Фраза без конкретной привязки, хотя с конкретной мыслью.
Морячок сунул руку в карман клешей, достал что-то. Вытянул руку, не разжимая кулака.
— Угадайте, что здесь у меня?
— У меня никогда это не получалось, — сказал Борисов, — с самого детства: сколько ни пробовал угадать — никогда не угадывал.
— Сахар, — сказала Светлана.
— Мимо. Сахар на столе. — Морячок шмыгнул носом. — Два раза сахар у одного человека — слишком много. Это вы еще не пробовали. — Он разжал кулак.
На ладони лежали три маленьких кубика, завернутые в промасленную розовую бумагу. Борисов недружелюбно покосился на моряка.
— Какао, — морячок снова сжал пальцы, пряча кубики, — любимый напиток деловых людей Америки. Сам я еще не пробовал. Попробуем все вместе и решим, чем пенька отличается от сизальского каната.
Светлана улыбнулась, и Борисов подумал, что загадочнее женщины нет ничего на свете, все меркнет, стирается перед ней: великие мудрецы пробовали распознать женский характер, вывести формулу женщины и остались ни с чем — нет такой формулы!
Еще вчера его существование было пустым, он барахтался в пространстве, как козявка, оглушенный, слабый, никто не приходил к нему на помощь, да и не мог прийти, потому что не видел его, а немощный клекоток — зов, вырывающийся из груди, просто-напросто не был слышен, сегодня же оказалось, что прошлое сомкнулось с будущим и существование его скрашено не только солнечными часами.
Он никогда не думал, что может ревновать, ощущать нытье в сердце, тревожиться… Оказывается, может.
Потянулся подрагивающей холодной рукой к ломтику сала. Морячок подбодрил:
— Смелее! — И Борисов словно бы переломил что-то в себе.
Одна писательница занесла в свой дневник следующие слова: «Какое проклятие наложено на женщин — их привлекательность! Это мешает всему серьезному и настоящему в их жизни».
Женщина обычно идет на всякие уловки, чтобы оставаться привлекательной, свежей, но процесс старения неостановим, спелый фрукт часто превращается в нечто сохлое, морщинистое, жухлое, едва годящееся для компота. Борисов скосил глаза в сторону, отер пальцами скулы — ему стало неприятно, что он об этом думает. Довольно равнодушно съел ломтик сала, машинально отметил, что сало почти не имеет вкуса.
— Давай, давай, наворачивай, — подогнал его морячок. Борисов поморщился: морячок был слеплен из другого тестa, чем он, и помол муки более грубый, и замес покруче. Сглотнул слюну, снова заполыхал скулами — услышал громкий звук собственного глотка. — Сейчас надо много есть, — сказал морячок и засмеялся. — Ощущаешь хоть, чем отличается украинское сало от горчичных чибриков?
— Нет.
— И я не ощущаю, — тихо проговорила Светлана, — хотя горчичные оладьи мне, наверное, всю оставшуюся жизнь будут во сне сниться, — она сделала вялое движение рукой, — мы с мамой много раз их пекли. Мама у меня была терпеливая, куда терпеливее меня, — глаза у Светланы сделались темным, ничего в них уже нельзя было разглядеть, — пока не умерла. Так вот, она умудрилась достать сорок пачек горчицы. Горчица была такая, — Светлана потерла пальцами, — сухая, очень сухая, в коричневых обертках, похожая на пачки махорки. Мама вымачивала горчицу три дня, потом меняла воду, добавляла чуть муки и пекла, как оладьи, на машинном масле. Это были очень горькие чибрики, — Светлана употребила выражение морячка. Слово «чибрики» было липецким — не питерским либо орловским, крестьянским, по-своему звучным. — Я не могла их есть. Не потому, что они были горькие, а от неожиданности. Слишком долго ждала их. Они не мучные и, как порошок, рассыпаются во рту.
— Да-а… — тихо и печально протянул морячок. — На фронте есть, конечно, страсти, но не такие.
— На фронте на карту ставится жизнь, — Борисов усмехнулся, — а здесь — желудок.
— Здесь тоже на карту ставится жизнь, — убежденно проговорил морячок, улыбка сошла с его лица. — Кстати, о часах… Я тут на трамвае ехал, — медленно и глухо проговорил он, — бортовой номер пятнадцать…
Хотел добавить то, что все уже знали, — это был единственный трамвай в Питере, который получал электроэнергию и ходил на фронт, возил туда боеприпасы, людей, обратно доставлял раненых, окопники звали его «Жди меня, и я вернусь», остальные трамваи застыли кто где — каждый в своем месте, там, где захватила смерть: энергию вырубили, и трамваи умерли, некоторые вообще целиком ушли под снег, будто под грязный саван, некоторые высовывают свои красные макушки из сугробов, надеются еще на жизнь.
— И что же? — Борисову было интересно, что там морячок скажет о часах.
— На Московском проспекте есть институт, там часы ходят. На башне.
— Знаю. Бывшая Палата мер и весов, которой когда-то руководил Дмитрий Иванович Менделеев. Он, к слову, установил первые электрические часы в Питере.
— Часы идут. И снаряды им нипочем, и энергия не нужна.
— Эти часы обычные, не электрические. Заводные, как ходики. Вместо гири — два ведра, набитые чугунными отрезками. Раньше ведра поднимал моторчик, а сейчас — два старика. Одного из них на работу принимал еще Менделеев. Федотов, кажется, его фамилия… А может, я ошибаюсь, может, не Федотов.
— Не суть важно. Все равно русский человек, не немец, раз Федотов. Тоже блюдет время! — Моряк поцокал языком.
— Поднимаются два качающихся дистрофика на башню и вручную крутят ворот, тянут ведра с обрезками вверх. Один из них — тот, которого Менделеев принимал на работу, кстати, сказал: «Не хватало еще, чтобы немец нам время остановил». Напротив фугаска грохнула, башня в дырках, циферблат проколот, а часы все идут. Снаряд попал, стекло вдребезги, в циферблате снова рвань, от стрелок одни обрезки, а часы все равно идут…
— И будут идти, раз такие люди… — Моряк сжал руку в кулак и ударил по столу. Взял скибку сала, разжевал. — Вот потому немцы нас никогда не одолеют!
— Не только потому.
— И поэтому тоже. — Морячок был упрям, и в этом крылась некая высшая правота, Борисов понимал ее, но вместе с тем у него была своя правота, он тоже был упрям… Когда сшибаются два характера — искры летят. — Немцы нас никогда не одолеют. — Морячок склонил голову к плечу, поглядел в окно, поймал глазами серый жидкий свет. — Горелым пахнет!
— Печка барахлит, — пожаловался Борисов. — Ненадежная конструкция, скоротечная, выпущена по решению Ленсовета. — Он развел руки в стороны и снял с буржуйки чайник. — Хотя при чем тут Ленсовет?
Морячок оживился:
— Сейчас американское какао будем пить, — с теплом посмотрел на Светлану, Борисов засек этот взгляд. — После войны, Лана, я приглашу вас вместе, — говоря о Борисове, он даже не посмотрел на него, — к себе в Липецк на чай из наших знаменитых самоваров, — он развернул кубик какао, отделил промасленную одежку, приоткрыл дверцу буржуйки и швырнул обертку в полыхающее нутро, — и будем мы вспоминать нынешний день, сидение в этой вот кухне и заморское какао…
— Если останемся живы.
— Останемся, — убежденно произнес моряк — он был оптимистом. Медали на его груди звякнули.
Борисов подумал, что загадывать нельзя, но в эту лютую зиму надо сохранить хоть пятнышко, хоть маленький комочек тепла в себе самом — то самое, что потом может продлить жизнь, — главное сейчас — устоять на ногах. А если не удастся устоять? Борисов отметил, что не за себя он боится — в этот миг он боялся за Светлану. И моряк-спаситель тоже за нее боится. Но моряку он соперником не будет — уступит. Рот у Борисова неожиданно задергался. Человек никогда не ходит прямым путем, хотя знает, что прямая — это кратчайшее расстояние между двумя точками, часто он движется к цели кривым маршрутом, шарахается из одной стороны в другую, возвращается назад, потом снова кидается в крайность и, наконец, с большими муками достигает финиша. А иногда и вообще не достигает.
Ну почему бы моряку не сказать Борисову, что ему дорога эта худая изможденная женщина с крупными темными глазами и нежным обвядшим лицом? Сказал бы — и все! А вместо этого он к себе на чай в какой-то далекий, может быть, вовсе не существующий Липецк зовет.
— Приедете ко мне в Липецк? — спросил морячок.
— Приедем, — кивнул Борисов.
Моряк отвернул рукав форменки, поглядел на часы. Часы у него были диковинные, кажется, немецкие, с косой частой решеточкой, схожей с автомобильными спицами. В промежутках между спицами посвечивали черной синевой цифры.
— Вот и кончен бал, — сказал морячок, — кому чины, кому блины, а кому и клины.
— Когда заедете в следующий раз?
— Про это, думаю, даже мой командир не знает. Здесь, в Питере, я… я… — морячок замялся, порубил рукою воздух, делая из него сечку, — в общем, по делу. На три дня. Сегодня последний мой день, третий. — Он скребнул пальцем по решетке часов.
Сделалось слышно — даже сквозь каменные стены проникал этот назойливо-острый звук, — как на улице заводил свою пронзительную песню ветер, подхватывал со снеговых горбов жесткую крупку, горстями швырял в окна, чистил, скоблил стены домов, нападал на молчаливые деревья — стволы кренились, скрипели, роняли наземь ветки и выпрямлялись снова. Ветер злился, свистел, похохатывал, скулил по-собачьи, затихал на несколько минут и вновь принимался за старое.
Моряк натянул на себя ватный бушлат, невольно поежился — легкая все-таки одежда для нынешних морозов, на голову надел кубанку, ярко сверкнувшую рубиновой звездочкой, подержал несколько секунд ладони над буржуйкой, потом осторожно и как-то неловко, боком, подошел к Светлане, наклонил голову. Светлана быстро поднялась, ткнулась лбом в грудь моряка.
— Спасибо, — сказала она.
Борисов обнялся с моряком, ощутил, какой тот крепкий, прочно сбитый, устыдился того, что завидует, и похлопал его по спине:
— Береги себя, брат!
Морячок приложил руку к кубанке:
— Ждите! При первой же возможности буду снова, — резко повернулся и вышел.
Борисов не поспел за ним. Гулко стукнула входная дверь, следом за стуком раздалась частая дробь — россыпь бега.
В кухне стоял вкусный дух еды. Борисов сглотнул слюну — за месяцы блокады отвык от еды, и хотя она часто снилась ему по ночам, он ворочался в постели, захлебывался собственной слюной, уже перестал принимать еду за еду — что-то закоротило в нем, отказало, явь смешалась с одурью, и Борисов никак не мог разобраться в этой каше.
Сердце у него заколотилось часто, сухость во рту пропала, а горечь сделалась сильнее, будто он сжевал стручок перца.
— Это что, слезы? — спросила Светлана.
Он помотал головой, про себя подумал: а ведь раскис он…
— Нет, — тихо ответил он.
— Тогда почему так блестят глаза?
— Слезы унизительны для мужчины.
— Высокий штиль, а на деле — фраза. И не более.
— Каждый по-своему смотрит на одни и те же вещи. — Борисов усмехнулся через силу. — По-своему смотрит на день и по-своему смотрит на ночь, по-своему на добро и по-своему на зло, на черное и белое, на боль и радость — на все у каждого свой взгляд. Тысяча человек — и тысяча разных взглядов.
— Мне кажется, это неверно.
— Еще как верно! И вместе с тем все одинаково любят, когда им делают добро, и не переносят, если кто-то пытается над ними пошутить, преклоняются перед светом и делаются угрюмыми перед ночью. Слаб человек!
— Может быть, в слабости — сила человека?
— Только у женщин!
— Мерки девятнадцатого века.
— А кто знает, где точная граница между девятнадцатым веком и двадцатым? Есть только барьер, придуманный людьми для людей, и все. Простая цифирь: вот столько-то в веке должно быть лет, месяцев, дней, часов, минут, отсчитал свое — и проваливай! А барьеры — это события. Революция — событие.
— Война — тоже событие.
— Война — это беда! Хотя другое верно: война — это барьер. Пройдет война, и люди, которые выживут, будут говорить: это было до войны, это было в войну, а это после войны.
— Будут, — согласно кивнула Светлана, и Борисов замолчал: то, что еще минуту назад было для него важным, сейчас сделалось никчемным. Все эти рассуждения про разность взглядов — сущая чепуха, они ничего не значат перед обычным куском хлеба, перед тем, что они со Светланой живы.
Человек в войну бывает жив настоящим — особенно там, где опасно, тут действует закон настоящего, краткого мига, и только он, других законов нет, и прошлое блекнет перед настоящим, и будущее. И что значит вся бывшая боль перед болью настоящей?
Хотя существует память боли, которая, говорят, вообще не вытравливается из организма. Борисов поморщился — ему было больно: болели пальцы, отбитые в детстве, и совсем не болели пробитые осколком легкие.
Морячок появился через две недели — стремительный, напористый, хотя и усталый, с притемненными висками — их будто покрыло пороховым налетом.
— Отпущен на шесть часов в Ленинград! — доложил он. — Как вы живете здесь без меня?
— Как в шахматах: «е-два — е-два», — Борисов прикорнул к моряку, обнял. От моряка пахло морозом и почему-то свежей капустой. Это был запах снега. С каких это пор ленинградский снег пахнет капустой? В довоенную пору он пахнул яблоками, сейчас — извините за выражение, мочой, золой и мусором, но никак не капустой.
— Едва-едва — это ни к черту не годится. — Моряк покрутил головой: — А Светлана где?
— Домой ушла.
— Ушла? — Моряк неожиданно растерялся. Он сегодня не был морячком, был именно моряком.
— Скоро будет, — успокоил его Борисов, произнес, оправдываясь: — Жизнь ныне ведь какая — народ старается друг друга держаться, если один — шанс пропасть увеличивается.
— Правильно! A у меня — сюрприз! Сейчас объявить или позже?
Не дожидаясь ответа, моряк вытащил из кардана бушлата три ровные бумажные дольки глинисто-желтого цвета.
— Вот!
— Что вот?
— Три билета в театр!
Единственным театром, который работал в блокадном Питере, — это Театр музыкальной комедии. Некоторое время еще, правда, держался ТЮЗ, но большинство его актеров ушло в ополчение, и Театр юного зрителя вынужден был снять свои афиши — играть было некому. А Музкомедия держалась — и как держалась! Каждый вечер на спектакли привозили с фронта красноармейцев и краснофлотцев. «Марица», «Летучая мышь», «Сильва» — безмятежные, легкие, вызывающие пьянящее ощущение, со счастливым концом оперетты, далекие от того, что сейчас происходило в Питере, от холода и дистрофии, синюшных лиц и трупов, лежащих на улицах, потому что у родственников не хватало сил хоронить их… Оперетта с ее весельем и карнавальными шутками — что-то нереальное, далекое, чужое, вызывающее чувство тоски и боли.
До войны Борисов ходил в Театр музкомедии, любил его, любил сутолоку и нарядных людей, расхаживающих по фойе, чинно-благородных старушек в гардеробе, каждую минуту, каждую секунду помнящих о том, что театр начинается с вешалки, запах масляной краски, осетрины, пива и старого бархата, неизменно присутствующий в зале, натертый паркет, сухо поскрипывающий под ногам, длинные ряды кресел и неизменный интерес к тому, кто сядет рядом — всегда ждешь чуда, неожиданности, того, что рядом окажется юная леди с одухотворенным лицом и благородными манерами. Хотя «Наш паровоз, вперед лети!» — время было такое, что юную леди с благородными манерами могли запросто поставить к стенке. И ни манеры, ни чистый английский и французский с характерным прононсом не спасали — мировому капитализму была объявлена война. Но что общего имела юная одухотворенная леди — любительница театра с мировым капитализмом, с Чемберленом и лордом Керзоном?..
— Три билета… — смято пробормотал Борисов.
— «Летучая мышь». Композитор — товарищ Штpayc. Наш взвод разведки идет целиком. — Морячок отогнул рукав бушлата, посмотрел на зарешеченные часы. — Время есть, но не то чтобы очень…
— Сейчас Светлана придет. — Борисов пропустил мимо ушей слова насчет товарища Штрауса, недовольно оглядел себя; в чем, собственно, идти в театр? В тряпье, натянутом на тело по принципу: чем больше, тем лучше, а чем лучше — тем теплее? Он выразительно посмотрел на морячка.
Тот махнул рукой:
— Сойдешь и такой, — заметив сомнение в глазах Борисова и выразительные тени во впалых, будто бы всосанных внутрь подскульях, улыбнулся: — Действительно сойдешь! В театр народ знаешь, какой ходит? Кто во что одет. И сидят в рядах не то, что до войны, когда каждый зритель — шик и блеск, ныне сидят, не раздеваясь. В общем, считай — выглядишь на четыре балла, как хорошист в школе. — Моряк сунул руку в карман, на лбу его появилась досадливые морщинки. — Чуть не забыл!
Вытащил из кармана небольшой холщовый кулек, похожий на кисет, перетянутый суровой ниткой.
Рывком сдернув нитку с кулька, распахнул его. На дне кулька лежали два небольших синеватых сахарных скола и крохотный бумажный пакетик.
— А в бумаге что? — спросил Борисов.
— Чай, — быстро отозвался моряк, — не какой-нибудь морковный или из дубового корья, а настоящий чай.
— Надо воду поставить, Светлану чаем угостим… Успеем?
— Успеем!
Борисов поставил чайник на буржуйку, ощутил в груди, в самом низу, сосущую боль — голод брал свое, моряк подержал кулек на ладони, потом бережно положил его на подоконник. Посмотрел в обмахренное густым инеем стекло, за которым ничего не было видно.
— Лютая зима ныне, — произнес он.
Борисов промолчал.
Светлана появилась, когда времени почти не оставалось, надо было бежать в театр.
Воздух на улице был жестким, мял ноздри, щеки. Снег под ногами скрипел так, что на зубах появлялась неприятная ломота. Моряк шел посредине, держа Светлану под руку с одной стороны, а Борисова с другой, шумно дышал на ходу и двигался словно катер-толкач.
— Больше не могу, — скоро взмолилась Светлана.
— Еще чуть-чуть, еще немного, — попросил моряк, на ходу оголил запястье с часами, попытался рассмотреть, где застряла минутная стрелка, среди спиц защитной решетки не разглядел и еще упрямее заспешил к театру, таща с собою Светлану и Борисова.
Когда пришли к Театру музкомедии — серому, заваленному снегом, неприметному зданию, оказалось — пришли рано. Светлана хотела опуститься на снег, отдохнуть, но моряк удержал ее.
— Нельзя, — сказал он ей, будто ребенку. — Терпение надо иметь… Нельзя!