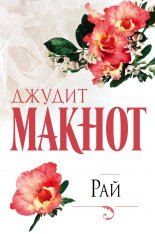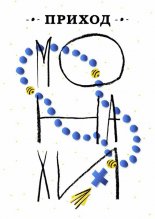Бросок на Прагу (сборник) Поволяев Валерий
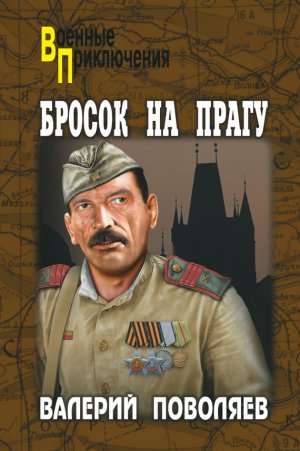
У входа патруль — трое людей в шинелях, в шапках с опущенными ушами, с автоматами, повешенными на плечо, — задержали человека, худого, почти бескостного — от длительного голода, бывает, человек превращается в нечто бескостное, мягкое, и Борисов был таким же — с серым провалившимся ртом. На две пайки хлеба, завернутые в жесткую остистую бумагу, этот человек пытался выменять билет на спектакль. Один из тех, кто задерживал, ухватил бескостного за локоть, проговорил жестко:
— Мародер! Чужим хлебом распоряжаешься? С-сука! Зрелищ захотел? — покачал головой, угрожающе проговорил свистящим шепотом: — У кого хлеб отнял, сказывай!
— Ни у кого. — Владелец хлеба притиснул руку к горлу, на лице его появилось что-то неуступчивое, злое. — Ни у кого, ясно?
— М-мы-ы, — старший наряда сжал глаза в щелки, покрутил головой — то ли собственная боль допекала, то ли контузия, то ли досада, что все происходило на людях, — м-мы-ы… — снова замычал он. — Д-докум-менты!
— Благодарю вас, что хоть соизволили попросить документы, — неожиданно церемонно проговорил бескостный, достал сложенную в несколько раз бумажку. — Пожалуйста!
Старший наряда осторожно взял бумагу в руки, словно бы прикасался к чему-то зараженному, развернул. Подышал на руки.
— Надо еще посмотреть, что это за документ, — пробурчал он недовольно, — бумагу нарисовать можно самому, — снова подышал на пальцы, — и не одну…
Но такую бумагу нарисовать было нельзя, и у того, кто мог бы это сделать, просто рука не поднялась — это была справка дистрофика. Ослабший, забитый голодом до того, что он уже не хотел есть, человек менял собственный хлеб на театральные билеты.
— Извини, товарищ, — глухим, лишенным красок голосом проговорил старший наряда, аккуратно сложил справку. — Извини, ошибся!
Дистрофик, гибко, почти бестелесно качнувшись в воздухе, поднял над головой две ржаные пайки, завернутые в плохую бумагу.
— Меняю хлеб на входной билет! Кто имеет лишний билет?
Голос у него был слабым, дистрофик понимал, что с таким голосом даже до самого себя докричаться трудно.
— Если бы я на месте фрицев увидел это, немедленно бы отступил от Ленинграда, — сказал моряк. — Такие люди нужны, даже когда за ними закрывается дверь. Пошли! — Он снова взял Борисова за руку, оглянулся на дистрофика, который пытался выменять свое богатство на театральные билеты, сплюнул на снег. — Ну хоть свои собственные входные отдавай!
Дистрофик услышал последние слова моряка, остановил на нем блестящие, будто бы изнутри высвеченные голодом глаза:
— А, гражданин моряк? А? Ну, пожалуйста, — протянул моряку хлеб.
Моряк поморщился, словно ему больно сдавили грудь:
— Не могу я, понимаешь? Не один я! Был бы один — обязательно отдал бы… Без всякого хлеба. Не могу!
Они вошли в холодный подъезд театра, почти физически ощущая на себе умоляющий взгляд дистрофика. Моряк крутил головой, будто воротник бушлата был слишком тесным и сжимал ему шею.
— Ну, силен мужик, — тихо, чтобы не слышал дистрофик, говорил он, — ну и силен!
Борисов тоже испытывал к дистрофику жалость, симпатию, уважение и еще что-то сложное, будто владелец хлеба был близким ему человеком, он также был готов отдать свой билет без всяких паек, просто так, даром, но боялся, что моряк может обидеться на него.
— Норму двух дней отдает, надо же! Два дня не есть, чтобы сходить в театр, — это только подумать, а! — Моряк сжал руку в кулак, потыкал кулаком в воздух. — Ну, братки, таких людей надо на фронт для поднятия духа вывозить.
В вестибюле толпилась публика. И хотя театр начинался с вешалки, никто в гардероб своих вещей не сдавал, люди молча, без суеты, заполнявшие зал, были в шинелях, в полушубках, в ушанках, поеживались зябко, оттирали щеки. Они еще не отошли от того, что видели полтора часа назад в окопах. Борисову было понятно их состояние. Он и сам, наверное, находился бы в таком состоянии. Человек — существо, живущее настоящим, он под это настоящее непременно подделывается: аристократ, попадающий в конюхи, начинает жить интересами конюшни, — словно он родился в стойле вместе с лошадьми; пастух, угодивший в генеральскую спальню, обязательно натягивает на плечи расшитый золотом парадный мундир: как говорится, по-волчьи жить — по-волчьи выть; находясь в овечьем стаде — быть овцой, таков удел и никуда человеку от него не уйти; угодив в землю, в окоп, он привыкает к этой земле, прошлое делается для него крошечным, призрачным, уходит куда-то далеко, для него существует только настоящее, а настоящее — это земля, это траншея, окоп стрелковой роты, вырытый в полный профиль, который при случае становится и домом, и могилой, к окопу он привыкает. Поэтому нелегок бывает переход из земляного дома в театральную прихожую — вон как посверкивают глаза у низенького плечистого паренька, одетого в полушубок с широким черным воротом, в глазах и испуг, и любопытство одновременно, и еще что-то далекое, пришибленное и в ту же пору загадочное, смесь ожидания со страхом, такое выражение бывает, наверное, у человека, которого кладут в больницу на операцию.
А сколько здесь таких пареньков? Поди, Борисов, пересчитай.
В зале было холоднее, чем в вестибюле. В вестибюле — движение, шарканье подошв, теплое дыхание людей, толкотня, а здесь как прикипел к креслу, так и не смей двигаться — человек словно бы мертво примерзает к нему. Да и двигаться почти нельзя: перемерзлая мебель оглушающе скрипит, пол под ногами тоже скрипит, дыхание со свистом вырывается из глотки, мешает слушать и смотреть, а послушать и посмотреть тут есть что: декорации на сцене кажутся неземными, они ярки и безмятежны, никак не соответствуют тому, что есть в Ленинграде, чем заняты люди, в них даже нет намека ни на голод, ни на холод. Холода достаточно в самом зале, холод — понятие прежде всего физическое и уж потом — нравственное.
Грянула музыка — веселая, праздничная, в такт ей где-то недалеко хлопнул снарядный разрыв, пол под ногами тряхнуло, но никто не обратил на это внимания — всех заняла сцена, то, что люди видели, — веселые, кажущиеся такими несерьезными, будто не из жизни, а из сказки перипетии жизни Розалинды и Генриха, Альфреда, Адели, Фалька, графа Орловского; люди, похоже, даже сомневались в том, что такая жизнь может быть в действительности: сплошные балы, переодевания, обязательные ухлестыванья — хозяин волочится за горничной, друг хозяина — за его незабвенной второй половиной и так далее.
Вроде бы несерьезно все, но вот какая штука — человек, видя это, оттаивает, переключается, с ним происходит превращение — исчезает боль, голодная истома — изматывающее сосущее чувство, лишающее бойца последних сил, — тоже исчезает.
Театр все снимает, человек словно рождается заново, забывает то, что было час назад, он живет только тем, что видит на сцене. Как иногда мало надо человеку, чтобы он возродился заново. Борисов втянул сквозь зубы воздух — привычка, от которой теперь, наверное, не избавиться, всю жизнь он будет бояться обварить стылым воздухом рот и будет втягивать его в себя сквозь зубы, — закрыл глаза. Его, будто на волне, качнуло, понесло куда-то. Сделалось тепло.
Но ощущение тепла было минутным, оно тут же исчезло. В скрипучем, промороженном зале воздух казался вязким, обволакивал людей в невидимую ткань. Если на улице спасало движение, то здесь нет. И нужно бы пошевелиться, перевести дыхание, а нельзя, боязно, скрип собьет худенькую, тщательно загримированную Адель — лукавую служанку Розалинды, стремившуюся стать актрисой, она, глядишь, забудет музыку и текст, грохнется в отчаянии на деревянный настил сцены — бойцу потом придется отвечать. Вот и сидит боец, по самую макушку вдавившись в шинель, млеет, ежится под натиском холода и потом вдруг соображает, что актерам на сцене гораздо холодней, чем ему — на нем вон сколько всего намотано: и шинель, и шарф, хоть и дырчатый, как все самовязы, и с примесью бумажной нити, а глотку и верх груди все-таки защищает, и гимнастерка, и свитер под гимнастеркой, под свитером исподнее — много чего накручено на бойце, а что имеется на той вон высокой актрисе, исполняющей роль Розалинды? Легкое светское платье с обнаженным лифом, и все.
Не по себе становится бойцу. Борисов скосил глаза, посмотрел на Светлану и моряка. Светлана вытянулась свечкой в своем тяжелом пальто, напряженное лицо ее странно изменилось, стало старым — то ли от холода, то ли от далекой, совершенно нереальной жизни, которая шла на сцене: неужели действительно были столь безмятежные времена, когда людей одолевала блажь, царствовала лень и семейная зыбкость — мужу ничего не стоило отвернуться от жены, жене от мужа, разбрестись по чужим очагам, а потом сойтись снова, на первом месте стояли флирт, бокал вина и вкусный пирог с грибами? Вернутся ли такие времена вновь? Борисов подумал — лучше не надо. Моряк сгорбился в своем кресле, поугрюмел — хоть он и тянул Борисова и Светлану на спектакль, а спектакль ему не нравился. Не нравился крутеж на сцене, шуры-муры, неестественно веселый маскарад, который совсем ни к чему охотнику Генриху — бедняге надо о спасении собственной шкуры думать, а не о маскараде; не нравился инфантильный Альфред — приятель Генриха, а потом имя Альфред очень уж напоминает Адольфа; и только тоненькая Адель, кажется, вызывала у моряка сочувствие.
Но музыка, музыка! Можно было, не глядя на сцену, закрыть глаза, сцепить на коленях руки, втянуться в одежду поглубже и слушать одну лишь музыку. Что только не делает она с человеком!
Где-то высоко над крышами с тяжелым паровозным гудом прошел снаряд. Он был слышен даже здесь, в зале, — оркестр на минуту умолк, образовалась пауза, и в этот провал ворвался густой недобрый гуд. Зал зашевелился, но снова грянула музыка, и зал, подчиняясь ей, опять завороженно застыл.
Дыхание дрожащим белесым маревом поднималось над людьми — марево дрожало, словно студень, слабый свет, истончаемый розовой Аделью, тоже дрожал, все дрожало, и руки, как ощутил Борисов, у него дрожали, и ноги, и лицо, и от того, что Адель так не защищена на сцене, так немощна и одинока, ему сделалось еще холоднее. Борисову показалось, что он сейчас не выдержит, но Борисов выдержал, а вот кто-то из бойцов — суровых фронтовиков, не вынес крапивного слепящего холода и Адель в нем и закричал пронзительно-тонко, по-детски:
— Да оденьте же вы ее во что-нибудь! — всхлипнул и добавил жалобно: — Замерзнет же!
Музыка сделалась громче, звуки, ширясь, взвились куда-то к потолку, чтобы обрушиться оттуда, но не обрушились обвально, махом, а вымерзнув до основания, тихо ссыпались на людей. Морячок пробормотал недовольным надтреснутым голосом:
— Во дают!
Спектакль продолжался. Прожитая минута в зале — это не движение, это остановка в движении: остановился человек, удержанный внезапной мыслью, посочувствовал бедной замерзающей актрисе и двинулся дальше. Через два часа все, кто сидит сейчас в зале, будут находиться на фронте. Борисов поискал глазами — нет ли среди присутствующих бескостного дистрофика? Не нашел. Да и мудрено найти — в зале народу битком, и свет не тот, все лица плоские, одно похоже на другое. Он ощутил досаду перед дистрофиком.
Спина у него затекла, крестец сделался свинцовым — чужим совершенно, Борисов зашевелился, кресло под ним заскрипело, сзади кто-то недовольно прогудел: «Да уймись же наконец, штатский!» — и Борисов застыл в скособоченном неудобном положении, ругая себя, и возвратился в старую позицию, лишь когда в зале снова раздался высокий надорванно-слезный крик:
— Да оденьте же вы ее! Холодно! А, люди!
Актеры на сцене задвигались в веселом танце, освобождая место, строй оркестрантов и хористов отступил назад, но в следующую минуту застыл — в черном ряду хористов образовался пробел — упал человек. Борисов, увидев это, захватил ртом побольше воздуха, обжегся, почувствовал, как рядом напряглась Светлана, ойкнула тихонько, а моряк еще больше сгорбился, подвинулся вперед и чуть не лег подбородком на плечо пехотинца, сидящего впереди.
— Что это с ним? — спросил он, ни к кому не обращаясь.
— Умер! — коротко ответил пехотинец и отодвинулся от моряка.
Показалось, что голоса сейчас смешаются, затихнут, спектакль оборвется, в параллельном ряду, отделенном от борисовского проходом, поднялась женщина с седым узлом волос на затылке и железной, окрашенной в защитный цвет шпалой в петлице — военврач, подошла к сцене, но голоса не смешались, строй певцов не дрогнул — он тут же сомкнулся, и провала как не бывало: действие веселой оперетты продолжалось. Из-за кулис выбежали двое рабочих в телогрейках, подхватили упавшего под мышки и поволокли за занавес[2].
Борисов закрыл глаза. Перед ним всколыхнулся розовый студенистый воздух, в холодце задвигались красные и черные червяки, разбухшие, будто пиявки. В горле скопились слезы, он сглотнул их, помотал головой, не соглашаясь с тем, что видел, ему хотелось спросить у собравшихся, почему спектакль продолжается, — человек умер, а веселый спектакль продолжается, но потом понял, что не задаст этого вопроса, сжался и не открывал глаз уже до самого конца представления.
Словно бы и не был на представлении «Летучей мыши», будто и не являлся свидетелем разных веселых обманов, происшедших на балу у графа Орловского.
Расходились молча, тихо, в чернильной темноте.
— В театре этом, говорят, имеется одно-единственное отапливаемое место — каморка за сценой, — сказал моряк на прощание.
— Откуда знаешь? — свистящим шепотом спросил Борисов.
— Рассказывали, наша часть дружит с театром. Они — шефы, мы — подшефные, вроде бы такой расклад.
Теперь понятно, откуда у моряка оказалось на руках сразу три билета.
— Об этом когда-нибудь напишут, — неожиданно для самого себя произнес Борисов.
— Около буржуйки стоит топчан. Если кто-нибудь говорит, что очень устал, холодно, надо немного отдохнуть, и идет на этот топчан, чтобы полежать, то с ним прощаются — он с топчана не встает.
— Не может быть, — прошептала Светлана.
— Никто с топчана еще не возвратился. Недавно в театре умер главный машинист сцены[3]. Шел спектакль, он почувствовал себя плохо. Поискал глазами кого-то, спросил, кому бы отдать монтировочный молоток, и умер. Проверили сердце — не бьется. Вот тебе и тыл! — Моряк покачал головой. — В тылу людей погибает не меньше, чем на фронте. Один актер повез на кладбище хоронить другого. На санках. Еле-еле дотащил до кладбища. Там фельдшер осмотрел мертвого, потом поглядел на живого и сказал: «Вас тоже можно хоронить», — и действительно — человека через несколько минут не стало.
— Откуда такие точные сведения? — не вытерпел Борисов.
— Все оттуда же, — сказал моряк и, подхватив Борисова и Светлану под руки, устремился вперед. — Из театра. Я вас до конца проводить не смогу, провожу чуть, ладно? А то мне возвращаться к своим. — Моряк обеспокоенно посмотрел назад, на темную молчаливую массу, вываливающуюся из подъезда и в ночной черноте невидимую. — Мне снова в расположение, — сказал он. — Без меня дойдете?
— Дойдем, — ответил Борисов.
— Ты это… ты это. — Моряк сбился, закашлялся, глотнув студеного воздуха. — Ты это, Борисов, ты Светлану береги. Понял?
На это «понял?» Борисов не ответил.
— Ничего ты, браток, не понял, — вдруг вздохнул моряк и в следующую минуту растворился в чернильной мгле ночи. Через несколько секунд прокричал из далекого далека, всколыхнув плотную непроглядную массу: — Береги Светлану, Борисов! И на всякий случай запомни мою полевую почту, — продиктовал номер почты, — а фамилию мою ты знаешь!
В темноте они двигались осторожно, стараясь не налететь на какой-нибудь выступ, угол здания или металлическую решетку изгороди. Земля слиплась с небом, снег никак не подсвечивал, хотя ночью он обыкновенно подсвечивает снизу, ничего не было видно — только темень да они. Борисов помнил, как после сентябрьских бомбежек в городе вырубилось электричество и люди, ослепшие, оглохшие, натыкались на столбы и друг друга, на мраморную и гранитную облицовку домов, ломали себе кости, ребра, падали без сознания, подмятые столкновениями, вышибали зубы и глаза.
Это уж потом додумались прицеплять на одежду фосфорные светящиеся пластинки — если в темени движется неживой гнилушечий огонек, значит, идет человек. Хорошо, что пластинок этих оказалось достаточно: до войны их было модно подкладывать под значки ворошиловских стрелков, и некий цех ширпотреба перевыполнил план, забил ими свои склады. Осенью сорок первого года этот лежалый товар здорово выручил питерцев.
Пластинка была нашита и на борисовском пальто, и на одежде Светланы. И отношение блокадников к фосфорной пластинке выработалось как к чему-то очень привычному, необходимому в туалете — ну как к пуговице, например.
И полет снарядов блокадники научились определять безошибочно — знали, когда идет наш снаряд, а когда немецкая чушка. Чушка обычно бултыхается в воздухе, скрипит ржаво, неприятно… У нашего снаряда — удаляющийся звук, у немецкого — приближающийся.
Бьют немцы по одиннадцать часов в сутки, кончают тютелька в тютельку, без переработок, если только какой-нибудь шальной фриц попадется либо слишком усердный, еще пару снарядов выпустит, а потом тоже затихнет, горожане уже перестали обращать внимание на эту пальбу — ну, бьют и бьют, и пусть себе бьют, подумаешь!
Хуже было с самолетами. Бывает, зависнет иногда один в небе, гудит тяжело, нагруженно — ясно, набит бомбами, как нерестовая плотва икрой, но бомбы не бросает, наматывает нервы на катушку, все уже в подвалах сидят, ждут, когда же эта собака точки над «i» ставить будет, а он все не ставит и не ставит — немцы проводили и такую обработку блокадников. Психологическую.
— Чего молчишь? — спросила Светлана.
— Думаю, — не сразу ответил Борисов.
— О «Летучей мыши»?
— О пирогах с капустой. — Борисов неожиданно рассмеялся.
— О чем, о чем?
— Главное, когда готовишь пироги с капустой, — иметь хороший гаечный ключ. Как еще называются такие пироги? Кулебяка?
— Кулебяка. А ключ зачем?
— Берешь пластину теста, накладываешь на нее горкой капусту, сверху также придавливаешь лепешкой теста. В углы ставишь болты и стягиваешь гайками. И в духовку!
— Интересно, интересно, — слабым голосом проговорила Светлана. — Чего еще вкусного есть в отечественной кухне?
— Пирожки с горчицей — тоже отменная вещь. Называются — «Ленинградские». И бутерброды, которые пьющий питерский люд называл до войны бутыльбродами.
— Безмятежная и щедрая пора! Вернется ли она когда-нибудь?
— Безмятежная и щедрая пора — была ли она вообще? — Борисов споткнулся о невидимую снеговую кочку, попавшую под ноги, слабо мотнул рукою в воздухе.
— Бутыльброд! — усмехнулась Светлана.
— Даже профессора с дворянской родословной и те употребляли бутыльброды. Милое это дело: кусок черного хлеба, желательно поджаренный с двух сторон, намазывается маслом, сверху на масло надо положить тонкий ломтик мармелада, сверху — кусочек селедки, селедку намазать хреном и сверху снова тонкий ломтик мармелада. Что еще нужно просвещенному русскому человеку под стопочку водки?
Светлана приняла игру Борисова.
— Слишком простой бутерброд, — сказала она, — категория сложности не достигает даже единицы. На ломтик мармелада надо еще положить ломтик сыра, сыр сверху намазать творогом, желательно свежим, творог полить сметаной, в сметану сунуть кусочек трески жареной, посыпать ее перцем, сверху пристроить две шоколадные конфетки и горчицей нарисовать вензеля. Вот тогда будет бутерброд первой категории сложности. Есть бутерброд еще сложнее.
— Нерусская еда для русского мужика.
— Есть хочется. — Голос Светланы сошел на шепот.
Борисов замолчал — не тот они затеяли разговор.
— Ты изменился, — заметила как-то Светлана.
Борисов сидел за столом — он начал писать книгу. В голодном холодном Питере, в этих условиях — и книга! Вместо тех, которые он сжег. Но Борисов понимал, что только так он может заткнуть дыру, неожиданно образовавшуюся в нем. Он не знал, нужна ли эта книга, дойдет ли до издательства и до читателя — Борисов может умереть, не завершив ее, и исписанные мелким, сильно заваливающимся вправо почерком листки попадут в чью-нибудь жоркую топку, минут на десять обогреют человека, и все, — но Борисов об этом старался не думать. Он работал. Работа спасала его.
— Я изменился? — спросил он у Светланы.
— Вот уж этого я не знаю. А то, что стал другим, — факт. Со стороны ведь всегда виднее.
— Никогда этого не замечал.
— Естественно. Когда глядишь из самого себя, ничего не замечаешь.
— Так уж и ничего, — хмыкнул Борисов, оторвавшись от книги. Он еще находился в тексте и не обрел себя. Поднялся, глянул в окно.
Окно было густо залеплено слоем инея, иней махрился, посверкивал иглами, дышал холодом. Борисов смотрел в окно и ничего не видел в нем. Сколупнул пальцем махристый комок, взял его в ладонь. Комок небольшим шерстистым паучком лежал в ладони и не таял, словно Борисов был мертвым. И ладони от этого паучка не было холодно — кожа ничего не чувствовала.
— Ко мне, по-моему, начал хуже относиться, — сказала Светлана.
— К тебе? — Борисов выпрямился и так в прямой стойке, будто в позвоночник ему гвоздь загнали. — Да ты что!
— Говорю, что вижу.
— Первая семейная сцена. — Борисов усмехнулся.
— Для того чтобы эти сцены стали семейными, мне надо выйти за тебя замуж.
— Нет, — быстро произнес Борисов.
— Что-о… Боишься?
— Нет, не боюсь, — Борисов качнул головой, на лице у него появилось горькое выражение, — совсем другое. Есть порядочность, есть чистота отношений, есть вообще вещи, которые ни в одном кондуите не записаны, но которые знают все. Не будь их — и человек скатится вниз. У него вырастет хвост, шерстью покроются руки. Надо быть чистым не только по отношению к женщине, которая тебе нравится, а и по отношению к мужчине, которого нет, но которого ты ценишь.
— Все ясно. Речь идет о моряке. Но вы оба у меня спросили, чего я хочу и кто мне дорог? А?
— Прости, пожалуйста, — виновато пробормотал Борисов. Что-то концы с концами не сходились. Светлана сделалась ему дорога, это нежное, чуть посвежевшее и оттаявшее в последнее время лицо стало ему близко — ближе ничего и никого нет.
— Вот и спасибо, вот и спасибо, — прошептала Светлана, глаза у нее заблестели влажно, набухли слезами, Светлана изо всех сил старалась их удержать, лицо ее напряглось, — не удержала, и слезы пролились на щеки. Она медленно пошла к двери.
— Светлана! — потерянно выкрикнул Борисов, но Светлана на его окрик даже не обернулась. — Света!
Гулко хлопнула входная дверь. Борисов с колотящимся сердцем опустился на пол: от голода ему было плохо, в желудке родился колючий ком, горло сдавило, во рту по-прежнему было горько и сухо. Отдышавшись, он поднялся, натянул на себя пальто и, пошатываясь, горбясь, выбрался на улицу, двинулся по замусоренной скользкой тропке, пробитой в высоких отвалах, к солнечным часам.
Но к часам не свернул, он даже не посмотрел в их сторону, прошел дальше.
От ходьбы и напряжения щеки у него совсем вобрались в подскулья, лоб туго обтянулся кожей и покостлявел, глаза утонули в глазницах. Борисов всегда помнил про свою внешность, знал, как он выглядит, и страдал, когда приходилось думать об этом. Но все это сантименты, манная каша с изюмом, сейчас было не до сантиментов — он шел медленно, устало, оглядывал сугробы, снежные норы и закоулки, тропы, уводящие в сторону, и смотрел — не лежит ли где-нибудь человек?
В одном месте увидел — лежит, уже наполовину засыпанный, с плотно подтянутыми к грудной клетке ногами — в последний миг хотел согреться, прижал коленки к груди и затих, осчастливленный внезапным открытием: мороз отпустил, сделалось тепло, представилась возможность хотя бы чуть отдохнуть, перемочь слабость и потом пойти дальше, и эту возможность нельзя ни в коем разе упускать…
— С-светлана, — задрожавшим тихим голосом позвал Борисов. Отвернулся в сторону, сморгнул слезы — он боялся взглянуть в лицо лежащему человеку: а вдруг это действительно Светлана?
Около головы упавшего была наметена горка снега, лицо целиком скрылось в ней. Борисов прижал руку к приплясывающим непослушными губам, сел на корточки, свободной рукой отгреб снег от лица мертвого, затем сделал еще несколько мелких гребков, окончательно очищая лицо, из снега проступил желтовато-пергаментный крупный нос и кусок щеки, поросшей серой щетиной. Борисов с облегчением откинулся назад, завалился на боковину сугроба — нет, это не Светлана!
Отдохнув немного, с трудом поднялся, двинулся дальше.
По дороге отмечал — вон пустой дом, вот в том доме никто не живет, и в том тоже никто не живет — все обитатели переместились на новые квартиры — на пустырь, где заложено еще одно кладбище, вон чистенький барский особняк без единого стекла — вынесло взрывной волной, стоит по-сиротски печальный, одинокий, дух человеческий из него выветрился уже давным-давно — если были бы живы люди, вместо выбитых стекол обязательно вставили бы фанеру. С этими людьми ушел в никуда целый мир и вместе с ним — все недоделанное, недописанное, недоцелованное, недодуманное.
Верно говорят: незаменимых людей нет, есть люди неповторимые, двойников в природе — тех, которые бы целиком копировали друг друга, начиная, извините, с носа, кончая биографией и судьбой родителей, — увы, тоже нет. И никогда не будет. Даже слишком похожие друг на друга люди имеют огромную разницу.
Нужный дом он нашел сразу. Светлана жила на первом этаже. Когда-то дверь ее была обита войлоком, а поверху клеенкой, сейчас остались клочья под шляпками гвоздей: кто-то посчитал это добро своим, а Светлану с ее родственниками — раскассированными буржуями, вырезал ножом войлок вместе с клеенкой и сунул в жадную жестяную печушку, которую сегодня можно получить в любом жакте — на это есть постановление Ленсовета. Печушка горит охотно, но тепла не держит, бока у нее тонкие, прогибающиеся, случается — прогорают. Совсем не то, что знаменитые чугунные буржуйки времен Гражданской войны.
Не стучась, он толкнул дверь — уверен был, что дверь открыта, дверь была действительно открыта, Борисов очутился в стылой темной прихожей.
— Светлана, — позвал он тихо, — Света! — прислушался, не раздастся ли что в ответ.
Было тихо. Борисов шагнул в глубину квартиры, зацепил за какую-то жестянку — похоже, миску, из которой в прошлые времена кормили домашнюю кошку, провел рукою по стене, отдернул, словно бы укололся о что-то острое — стена насквозь промерзла, льдистая крупа, пристрявшая к ней, резала до крови.
В первой комнате было пусто — в ней отсутствовала даже мебель, хотя в прошлый раз посреди гулкой громоздкой комнаты стоял стул, сейчас его не было, во второй увидел Светлану. Она лежала навзничь на кровати.
— Светлана! — позвал он, стараясь услышать свой голос за грохотом сердца.
В ответ ничего не услышал.
— Тебе плохо? — Борисов опустился перед кроватью на колени.
— Я умираю, — неожиданно просто, ясным чистым шепотом произнесла Светлана.
— Как? — Более глупого вопроса он, конечно, не мог задать. Борисов испугался, схватил Светланину руку, поднес ко рту, подышал. — Ты это… Не делай глупостей, — зашептал он, давясь словами, — не вздумай делать глупости! Не умирай, а?! — Холодный воздух стиснул ему глотку, сбил последние слова в комок, сплющил, он покрутил головой, сопротивляясь, сглотнул что-то противное, стылое, проговорил, стараясь как можно четче произносить слова: — Ты это самое… Ты не умирай, а! Не делай глупостей, а! — Сморщился потерянно. Да какие же это глупости?
Каждый из нас чувствует свою смерть, старается увернуться от нее, найти укромный затененный уголок и скрыться в нем, но, увы, все попытки тщетны, и, понимая бесполезность их, мы почти всегда выходим на открытое место, подставляя себя разящей стреле — бейте, мол! И смерть бьет. Иногда поиграет, как кошка с мышкой, помедлит, что-нибудь изобразит, а иногда лупит наповал, с маху, не давая ни секунды отсрочки.
Неверно говорят лихие удачливые люди, что когда смерть придет — нас уже не будет. Эти слова — для успокоения. Будем мы, будем и обязательно посмотрим смерти в глазницы, глубокие, черные и удивимся нехорошо: надо же, глаз у костлявой нет, а все видит! Светлана, проделав быстрый переход от борисовского дома до своего, загнала себя. Так иногда люди загоняют послушных животных — те выкладываются целиком, а потом падают. Светлана — не животное, но организм, чей бы он ни был, живет по одним и тем же законам… И в этом виноват он, Борисов.
— Худо мне, — едва слышно произнесла Светлана, и Борисов, отзываясь, снова прижался губами к ее руке, ощутил мертвенный холод негнущихся тонких пальцев.
— Я тебя очень прошу… — прошептал он.
Но проси не проси — все едино… Борисов это понимал и одновременно не хотел понять. Можно ли хоть чем-то поменяться со Светланой, что бы она жила? Поменяться легкими, сердцем, хребтом — кости у Борисова явно прочнее, чем у Светланы, еще чем-нибудь? Борясь с металлическим звоном, натекающим в уши, он снова протестующе затряс головой:
— Не-ет!
— Борисо-ов! — шепотом позвала Светлана, и он готовно наклонился над ней. — От отца осталось хорошее пальто, — дыхание ее осеклось, говорить ей было трудно, — с воротником… С настоящим бобровым воротником. Возьми его себе. На рынке сможешь обменять на продукты.
— Хорошо, хорошо, — зачастил Борисов, приподнялся на коленях, подышал в лицо Светлане. — Не умирай, пожалуйста!
Но что значит его шепот, его мольба? Полупустой либо вообще пустой звук. В эту минуту в Ленинграде прощаются с жизнью десятки сотен людей. Может быть, даже десятки тысяч…
Надо было что-то делать. Борисов прошаркал подошвами в кухню, — ему казалось, что ботинки его прилипают к полу, и он с трудом отрывает их, нашел там котелок, на улице, проломив фанерно-плотную корку сугроба, набрал снега, вернувшись в дом, поставил на спинку буржуйки, молотком выломил деревянный подоконник на кухне, ловко расщепил его несколькими ударами и сам подивился этой ловкости — все-таки в блокаде он научился тому, чего никогда не умел делать. Растопил печушку.
— Ты потерпи, сейчас будет кипяток, — бормотал он, всякий раз взглядывая в комнату, где лежала Светлана. — Я сейчас!
Еды в этом доме не было, и у Борисова дома тоже не было никакой еды — все подчищено, подметены даже крошки, сусеки голые, от подарков моряка остались одни лишь пустые жестянки.
Когда вскипел котелок, он напоил Светлану — ее надо было поддержать хотя бы водой.
Но одной водой сыт не будешь, нужны были продукты. Достать их можно было только на рынке. Либо перехватить у соседей, если, конечно, у них что-то имеется в запасе, хотя вряд ли… Как вряд ли кто даст продукты в долг — на это надеяться нельзя. Он прислушался к дыханию Светланы, уловил тихий, почти неземной шепот:
— Что-о, Борисов?
Значит, держится Светлана, значит, живет. Борисов обрадовался.
— Соседи, Света, здесь есть? Может, одолжу что у них?
— Сосе-дей нет. Все умер-ли, — по слогам, едва слышно произнесла Светлана.
— Жди меня, я скоро! — Движения у Борисова стали суматошными. — Продержись немного, я скоро буду!
Выход имелся лишь один — рынок. Больше он нигде продукты не достанет — только на рынке.
Рынок представлял собой что-то жалкое, заваленное снегом, с редкой топаниной человеческих ног, но все-таки живое. Все, наверное, способно погибнуть, высшие ценности обратятся в прах, дух человеческий пошатнется, а «купля-продажа», вещевой обмен останутся. Неужели так убог человек и настолько он подчинил душу плоти, чтобы сберечь все это?
Около Борисова, вынырнув из-за желтоватого, забрызганного мочой снегового отвала, остановилась розовощекая усатая старуха с живым лукавым взглядом. От старухи почему-то пахло духами — новый запах в сложном наборе, наполнявшем базар.
— Что надо, сокол ясный? — утишенным, словно бы зажатым зубами голосом она. В руке старуха держала плотный тряпичный сверток. — Может, это надо? — Откинула полог свертка, под которым ярко блеснула новенькая алюминиевая миска. Приподняла миску. — Это?
В ноздри Борисову ударил густой мясной дух. Под первой миской была вторая, глубокая, эмалированная с бордовой кровянистой каемкой, эта глубокая миска была доверху наполнена котлетами. Небольшими, поджаристо-душистыми, с маслянистой блесткой корочкой.
— Может, возьмешь, сокол ясный?
— Нет, — сглотнул слюну Борисов. Котлеты ему не понравились — он и сам не понял, почему не понравились. Снова сглотнул — хотелось есть.
— Что меняешь, сокол ясный? — Старуха стрельнула глазами по фигуре Борисова. — Вроде бы ничего не принес?
— Хорошие серебряные часы с точным ходом, — одним духом выпалил Борисов, достал часы из внутреннего кармана пальто, показал.
— А что надо в обмен, сокол ясный? Может, помогу?
— Хлеб нужен, тетка. — Борисов решил, что на рынке ему надо держаться грубо; чем грубее — тем лучше, здесь словесный изюм и сладкая сметана речей не проходят, иначе эта же старуха и разденет догола.
Старуха подняла руку, собираясь что-то сказать, но Борисов решительно шагнул дальше. Не нужна ему эта ведьма с сочными прожаренными котлетами. Голова невольно закружилась, земля под ногами сдвинулась в сторону, и Борисов неожиданно засомневался: может, все-таки выменять часы на котлеты? Котлеты будут полезнее, чем хлеб. Поморщился: знать бы, из чего эти котлеты сделаны. Сколько все-таки силы и сколько слабости в человеке и как он зависит от обстоятельств; получив толчок с левой стороны, несется вправо, метелит руками по воздуху, следует толчок справа — и он несется влево, также крутя «мельницу». И то Борисову было охота купить, и се: продуктов-то в блокадном Питере, оказывается, много…
Следующим ему подвернулся бледнолицый молодой человек с вилком квашеной капусты. От вилка одуряюще вкусно остро пахло укропом, и Борисов невольно поджал губы: в мире, оказывается, есть не только запахи дыма, спаленного пороха и горячего железа — есть и те, что давным-давно уже забыты.
— Нет! — решительно мотнул он головой.
— Ну и дурак! — не замедлил высказаться владелец капустного вилка.
На рынке продавали даже вино — бутылку чернильного цвета, заткнутую пробкой и опечатанную сургучом, продавали сыр, нарезанный мелкими, солнечно просвечивающими насквозь скибочками, почему-то к сыру народ приценивался больше всего, и владелец его — высокий человек в пальто с шалевым меховым воротником и шапке-пирожке, невозмутимый, с дворянской внешностью, — спокойно и внушительно отвечал на вопросы. Главное — сыр очень полезен для дистрофиков, ничто так не полезно для исхудавших людей с подведенными животами, как несколько ломтиков сыра, — сыр и кровь восстанавливает, и мозги очищает, и сил дает столько, сколько не дают двенадцать паек хлеба.
— А откуда у вас, гражданин, сыр-то? — подле человека с дворянской внешностью неожиданно возникла котлетная старуха.
— С Большой земли, — с достоинством ответил тот.
— А как сюда попал?
— По воздуху. — Человек, торгующий сыром, чуть приметно усмехнулся.
— Это как же? — подозрительно сощурилась старуха.
— Сын — летчик. Привез из Москвы. Он этот сыр по авиационному пайку получает, понятно или нет?
— Лучше бы он тебе шоколаду привез, — хмыкнула старуха, — чем этот творог. По мне, котлеты голодному человеку полезнее, чем сыр. — Старуха взвыла высоким пронзительно-резким голосом: — Граждане хорошие, соколики ясные, покупайте котлеты! Настоящие мясные котлеты!
На часы владелец сыра свой товар не менял — только на ювелирные побрякушки. Складывал в карман сережки, цепочки, кольца, кулоны, прочие золотые безделицы. Борисову сделалось противно, он отвернулся от этого человека.
Неожиданно базар пришел в движение, скорость жизни убыстрилась, некоторые мастера купли-продажи, как, например, бледноликий молодой человек, предлагающий купить вилок капусты, вообще исчезли. Словно в сказке: был человек и вдруг — фьють! Пронесся ветер, поднял снежную пыль, накрыл человека с головой, а когда белая простынь опала — человека уже не было. Он словно бы сквозь землю проваливался. Борисов подивился неведомому явлению — жаль, что дело происходит в блокаду и о нем не знают ученые. Если бы происходило в другую пору да на глазах титулованных мужей с докторскими степенями и профессорскими званиями — непременно было бы сделано важное научное открытие.
На базаре появился патруль — трое с автоматами. Весь Питер в патрулях. У театра — патруль, у часов — патруль, здесь — патруль. Борисову показалось, что это те же самые люди, которые были около Театра музкомедии. Котлетная старуха, побледнев, прислонилась к сугробу, прижала к себе сверток с едой.
Патруль сделал круг и остановился подле старухи.
— Чего это у тебя, мамаша? — поинтересовался командир-сержант в длиннополой старой шинели с грубо заштопанным плечом: шинель просекла пуля, искусных женских рук рядом не оказалось, поэтому сержант заделал дырку сам — неумело, наспех, кривопало, светлыми нитками, которые, чтоб меньше выделялись, были затерты химическим карандашом.
— Как — что? — упавшим сиплым голосом поинтересовалась старуха, стрельнула глазами в сторону, будто хотела нырнуть в отвалы сугробов.
— В руках, спрашиваю, что?
— А-а. — Старуха тетешкнула сверток. — Как что? Имущество. Одежда.
— Покажи, — потребовал сержант.
— Это что ж такое делается, а? — взвизгнула старуха тонким детским голосом. — Родная советская власть советского же человека обижает! Что ж это делается? Вы лучше бы шпионов ловили!
— И шпионов поймаем, — пообещал старший наряда, — но то иных людей забота, а наша — базарная. Что за одежда?
— Обычная одежда! Капор! Старушья накидка, говном провоняла. Все ясно?
— Покажи. — Старший не отступал от старухи.
Борисов оглянулся, поискал высокого степенного интеллигента в шапке пирожком, который торговал сыром, привезенные сыном-летчиком с Большой земли, не нашел, усмехнулся горько, ощутил неожиданно симпатию к сержанту — дело вроде бы делает.
— А не стыдно бабьи вещи разглядывать? — визгливый старушечий голос пластал крутой морозный воздух, будто студень. — Глаза набок не свернутся?
— Не свернутся, — успокоил старуху сержант, двумя пальцами приподнял верх тряпки, под которым тусклым серым светом обозначился алюминиевый бок, понюхал. — Котлетками, значит, торгуем?
— Да! — Старуха дернулась, хотела сильнее вжаться в сугроб, но вжиматься было некуда. — Мясо из деревни доставили, котлет накрутила, на рынок принесла. Надо же как-то людей кормить и самой жить. Ведь я-то тоже человек!
— Это ты-то человек? — недобро усмехнулся сержант. — Мы тебя второй день ищем. Пошли!
— Куда? — затрепыхалась старуха. — Никуда, кроме собственного дома, я не пойду!
— Мы можем к тебе и домой заглянуть. Пошли!
— Вас я к себе не приглашаю.
— Жизнь у нас такая, что мы часто приходим без приглашения.
— Не имеете права!
— Как раз имеем, — сержант был терпелив, редкое качество — такое терпение, Борисов как некую одежду примерил его на себя — ни за что бы так долго не выдержал. — Давай-ка сюда свой груз. — Старший отобрал у котлетной старухи ее товар. Старуха вдруг резво оттолкнулась от сугроба, кинулась к старшему, но тот был проворен не менее старухи, успел передать товар напарнику.
— Отдайте, это мое! — запричитала старуха. — Мой товар!
— Вы арестованы! — жестким незнакомым голосом объявил сержант и будто бы гвоздем резиновый шарик проколол — из старухи словно весь воздух выпустили, она обвяла, сломалась, сделалась маленькой и несчастной.
— Так ей и надо! — произнес человек в ватнике, подошел к сугробу, где осталась вмятина от старушечьей спины, брезгливо поморщился, отодвинулся в сторону, зачерпнул рукой щепотку снега, кинул в рот.
— Почему «так и надо»? — поинтересовался Борисов.
— Наивный вы человек, — проговорил ватник, разжевал снег, сплюнул.
— А вы это… вы не простудитесь?
— Да хочь и простужусь. Лучше простудиться, чем тянуть такую жизнь. А старуха, она что… думаете, действительно мясо из деревни получала?
— Не знаю, — нерешительно пробормотал Борисов, — догадываюсь, что нет.
— «Не знаю, не знаю»… — передразнил Борисова человек в ватнике. Лицо у него было картонно-серым, сухим, тусклые глаза не пропускали в себя света. Поджал губы. Борисов недоумевающе посмотрел на него, тот снова зацепил щепоть снега и, кинув ее в рот, пояснил неохотно, брезгливо, будто дело имел с чем-то неопрятным: — Такого мяса немало на улицах валяется. Иногда в ботинках, иногда в пальто. — Слова он произносил жестко, чеканил их, словно металл.
Тут до Борисова дошло, о чем тот говорит, он согнулся пополам, притиснул руку к глотке, сдавливая ее — хорошо, что внутри ничего не было, иначе бы все вывернуло наружу.
— Ну вот, наконец-то понял, — удовлетворенно пробормотал человек в ватнике, — нехорошо иметь длинную шею — слишком долго мысля до черепушки плывет.