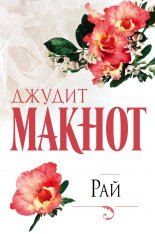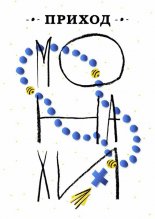Бросок на Прагу (сборник) Поволяев Валерий
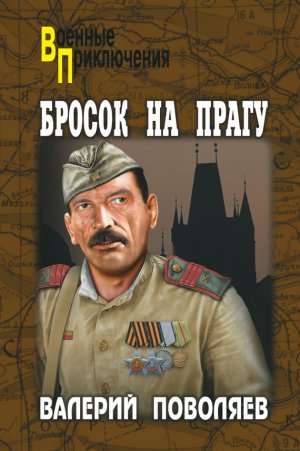
Так и сгинул бы Борисов между домом и собственным детищем — солнечными часами, если бы из снегового коридора не вынырнул моряк — круглоликий, круглоплечий, в круглой неформенной кубанке, к которой было пришпилено острозубое неровное пятнецо — рубиновая звездочка. Моряк затряс Борисова за плечи:
— Браток, ты что? А, брато-ок?
Борисов с трудом разлепил смерзший рот, промычал что-то немо, словно бы у него уже отмерз язык — а язык и верно плохо ворочался, он вспух во рту, сделался осклизлым, чужим — неувертливый комок мяса, обтянутый влажной шершавой кожей, качнул головой.
— Понятно, — оценил положение моряк, — все понятно! Ты это, браток, ты держись! — подсунулся одним плечом под Борисова, девушку ловко перехватил рукой — видать, не раз это делал, когда вытаскивал раненых товарищей из-под пуль, напрягся — моряк был силен и жилист, как конь, свеж, повертел обеспокоенно головой. — А куда двигаться, браток?
— Прямо, — нашел в себе силы прохрипеть Борисов, приподнял голову, но не удержался и обвис на плече моряка.
— Ага, понял, — обрадовался моряк, потащил Борисова и мертвую девушку в снежную теснину прохода. — Слышь, а невеста твоя не мертвая? — окутался он здоровым звонким паром, стрельнувшим чуть ли не до закраины огромного сугроба, по которому был прорезан коридор. — А?
— Н-нет, — прохрипел Борисов.
— И ладно, — неизвестно чему обрадовался моряк, и Борисов позавидовал ему: легкий общительный человек, всем сват и всем брат, светлого у него в жизни много больше, чем темного, не забивает голову никакими проблемами, да их, наверное, и нет у него — тех проблем, что каждый раз тяжелым, приносящим сосущую боль вопросом вспухают, например, перед Борисовым, точнее, в самом Борисове — где взять хлеба? Хотя бы еще одну пайку? Сто двадцать пять граммов черного, клейкого, схожего с хозяйственным мылом и жмыхом одновременно блокадного хлеба? Где взять чистой воды, топлива, как выжить? Но у моряка свои проблемы, свои вопросы — он воюет.
— Я тоже думаю, что живая. — Моряк снова окутался звонким здоровым паром, брызнувшим горячим веером верх, вспарившим над борисовской головой мелким серебряным султаном и тихо ссыпавшимся вниз. — Живая, — удовлетворенно пробормотал моряк, встряхнулся, удобнее подсовываясь под Борисова и приподнимая девушку, — тело гнется…
Он также подметил то, на что сразу обратил внимание и Борисов, — не может у мертвого человека гнуться тело, как только сердце делает последний удар и сникает, превращаясь в оболочку самого себя, кровь в жилах, мигом скиснув, обращается в творог, мышцы деревенеют, каждая мышца умирает сама по себе, дергается, мучается от боли, отслаиваясь от костей и от других мышц, человек превращается в обабок, в колоду, а пройдет еще немного времени — нальется чугунной тяжестью и сам чугуном сделается — ни согнуться, ни оторваться от земли. Хотя насчет чугунной тяжести — неверно. Какая может быть тяжесть у блокадного дистрофика, у которого от голода внутри все слиплось, скаталось в один ком, и непонятно, как этот слипшийся комок, приросший к хребтине, может держать человека на отметке жизни и смерти? Впрочем, кто ведает, будут блокадники жить или же загнутся на второй день после того, как им вволю отпустят хлеба?
У Борисова тоже был небольшой опыт по части живых и мертвых: осенью он принимал участие в боях — на фронт ушел с ополченцами Кировского завода, так через две недели его подцепил осколок — маленький, под микроскопом нужно рассматривать, с просяное зернышко, а сильный, с дальним боем, крутящийся, — просадил насквозь, пробил оба легких, вырвав кусок мышц и чуть не отправив на тот свет. Три месяца Борисов провалялся на больничной койке и вытянул-таки самого себя и зимой появился в своей холодной и пустой квартире.
Все его попытки доказать, что он еще может быть полезен фронту, армии, обернулись щемящей пустотой и болью: почему же те, кто сидит по ту сторону стола, не понимают простейшей, как алфавит, истины — он должен воевать. Обязан! Он молод, кое-что знает и умеет, у него еще есть силы — может приносить пользу, но увы…
Да в конце концов, он обвяжется гранатами и ринется под немецкий танк. Тем более что до передовой ходит трамвай, весь Питер этот трамвай знает — вагон номер пятнадцать.
Нет, не прошиб своим красноречием Борисов медиков, те равнодушно осмотрели его, отметили, что легкие ни к черту, сипят, словно дырявая гармошка, стоит только этому… как его? — председатель комиссии, близоруко щурясь, полез в бумагу прочитать фамилию больного, прочитал, сдвинул очки на лоб, — Борисову полежать пару часов в снегу, как все — его легкие на том снегу останутся уже навсегда, ничто не спасет.
«Вам понятно, батенька?» — пророкотал председатель комиссии и сдвинул очки на нос. «Нет», — твердо ответил Борисов. «Это почему же нет? — хмыкнув, поинтересовался председатель комиссии, снова посмотрел в медицинскую карточку, затоптался на одном месте. — Простите, простите, не вы ли тот самый Борисов, известный астроном? А?» «Тот», — с надеждой проговорил Борисов. «Тогда тем более не могу, — председатель комиссии приподнял очки, развел руки в стороны, — извините-с, батенька».
Через это самое «извините-с» Борисов переступить не смог — его списали подчистую. Он долго сидел дома, морщился недовольно, болезненно — ощущение было такое, словно в стужу угодил под холодный душ — сразу покрылся льдом, возможность уйти снова на фронт была равна нулю, Борисов подозревал, что вышел какой-то неведомый ему секретный приказ о сохранении кадров и он попал под этот приказ: представитель редкой профессии, ученый со степенями и званиями… Когда он думал об этом, то ему начинало сводить и жечь скулы, на щеках расцветали большие красные пятна, глаза светлели от обиды, чего-то сложного и горького.
Раньше он никогда не замечал за собою, что обида может так долго и плотно сидеть в нем, вызывать озноб и боль — все происходило быстро, оставалась только тень, но и тень через несколько дней выгорала, будто под сильным солнцем, ничто о ней не напоминало, дали были чисты и безмятежны, настроение — радостным, легкость в душе и в мыслях была необыкновенная, а сейчас все перевернулось с ног на голову, свет душевный истаял, уступил место угрюмости и темени — любой порез заживает долго, а то и вовсе не заживает, что ни делай, — продолжает сочиться розовой жижкой, сукровица проступает сквозь поры, свертывается в мелкие ртутные шарики, не дает покоя. То ли осколок, пробивший его насквозь, был тому виною, то ли жизнь в ополченском полку, заставившая Борисова думать о вещах, о которых он никогда раньше не думал, просто не имел возможности думать: он занимался небом, а надо было заниматься землею, не допускать ножниц и разрывов, то ли сам факт войны — Борисов понять пока не мог.
На войне человек становится иным, меняет характер. Что-то в нем надламывается, происходит линька — прежнее либо получает отставку, вырубается, словно сорный лес из благородной реликтовой чащи, либо тому, что было и осело в памяти, надо делать прививку, давать новый угол жизни, пропускать через фильтры, иначе даже храбрый человек на войне будет дрожать, как осиновый лист и клацать зубами: бесстрашие — это не черта характера, это состояние организма.
— А дальше, браток, куда? — Моряк остановился на темном вытоптанном пятачке, политом водою из чайника — кто-то оскользнулся, пролил добытое и, плача от досады, замерзая на ходу, поплелся назад, к Неве, к проруби восполнять потерянное. — Дальше куда? — Моряк встряхнул Борисова, возвращая из небытия в бытие. — Ты объясни!
Он был очень словоохотлив, этот моряк. В Борисове шевельнулось что-то доброе, он был благодарен моряку.
— Пр-рямо… — прохрипел он, — вон туда… в подъезд!
Тропка, ведущая к подъезду, сужалась, сугробы опадали, снег застревал у стволов деревьев, деревья были молодые, росли густо, частоколом, один ствол стоял почти вплотную к другому, и этого хватило, чтобы остановить мощную лаву серых сугробов, массу, которая, случается, сыпется невесть откуда — и сверху, и снизу, и с боков, скручивается в хвосты, отрывается от земли, накрывает голые черные сучья простынью, снова шлепается вниз — и все-таки деревья не пустили снег к дому. Здание, в котором жил Борисов, было обычным, строил его обыкновенный мужик, валдайский либо «пскобской» умелец, хваткий, твердо усвоивший одну истину: жить человеку надобно не в красоте, а в тепле и удобстве; в красоте, в стенах с вензелями, среди мраморных фигур и навощенного паркета пусть живут графья; от этого порога умелец и танцевал, соорудил дом неказистый, но теплый и удобный. Борисов был доволен, когда ему дали в этом доме квартиру.
Тропка истончилась, стала почти неприметной: видно было, что по ней ходят мало. Несколько жильцов умерло, Борисов видел, как из подъезда вывозили трупы — на самодельных санках с кривыми полозьями, которые одни на весь подъезд и имелись, а два раза, когда санки были заняты, — на фанере, дворник поддевал под труп фанеру, перехватил тело веревкой и волок куда подальше; часть жильцов находилась на фронте, часть сумела отбыть в эвакуацию, хотя эвакуация — вещь для Ленинграда редкая. Дом на три четверти был пустым.
Кряхтя и постанывая — тащить двоих и для него было не под силу, несмотря на здоровье и двойную фронтовую норму еды, — моряк дотащил Борисова и девушку до подъезда, вволок в стылую темень вначале Борисова, потом девушку.
Прислонившись спиной к стенке подъезда, моряк запрокинул голову и закрыл глаза. Лицо у него обвяло, рот ввалился, щеки сделались бледными, свечными, сквозь них, как сквозь промороженную ткань, казалось, просвечивали жилки.
— В-вам чего… в-вам плохо? — вяло справляясь с самим собою, сглатывая слюну и морщась от того, что все тело было разбито, ничего ему не подчиняется, руки-костяшки существуют отдельно, ноги-костяшки отдельно, просипел Борисов.
— Н-нет, — мотнул моряк головой. — Ранило меня недавно, отвалялся… Рана дает знать.
— У меня т-тоже… Оба легких пробиты. — Борисов скосил глаза вниз, на девушку, помял зубами нижнюю изгрызенную губу. — Он-на жива?
Обратил внимание, что сыпучее, стеклянно позванивающее облачко пара, раньше взметывавшееся над ним, уже не взметывается — настолько ослаб, вроде бы и мертвый человек и еще не мертвый, — шевелится, пластается по пространству, словно полое птичье перо, — остался только дух, плоти нет. Намерзь в углах глаз затеплилась, что-то в ней оттаяло, на поверхность проклюнулась крохотная теплая капелька, поползла вниз, и Борисов ощутил ее, прикипел к этой крохотной теплой капельке всей кожей, отозвался на ее движение — жив был Борисов, жи-ив! А вот девушка… она жива?
Моряк помотал головой, приходя в себя, разлепил глаза — образовалась щелочка, сквозь которую пробился живой блеск, переломил что-то в себе, отозвался далеким немощным голосом:
— Жива, жива, браток! — Раскрыл рот, глотая воздух, не боясь им опалить нутро, хотя в подъезде было все-таки поспокойней, чем на улице, там, стоит только чуть зазеваться, словить ворону, тут же в грудь через глотку всадится раскаленный железный шкворень, вывернет человека наизнанку. — Ты это, браток, ты иди… Донесешь подружку-то?
Борясь с самим собою — что-то в нем начало оттаивать, похрюкивать, оглушать болью — слабость слабостью, а живая ткань есть живая ткань, Борисов ответил:
— Донесу. А ты… ты как? — Он назвал моряка на «ты», издавна эта привычка выработалась: если его звали на «ты», то и он поступал также, на «вы» же соответственно выкал.
— Обо мне не беспокойся, браток. Я к тебе еще загляну… проверить, как ты тут… Какая квартира-то?
— Тринадцатая!
— Чертова дюжина. — Моряк усмехнулся чему-то своему, далекому, ему только и ведомому, пояснил: — Я до войны тоже в тринадцатой квартире жил.
Любой блокадник назвал бы Борисова тронутым, повертел бы пальцем у виска, показывая, кто он и что он, Борисов этот, — ведь надо же, к себе в квартиру по лестнице тянет труп, задыхается, кряхтит, садится на ступеньки, чтобы отдышаться и чуточку попридержать свое сердце, готовое, подобно цыпленку, выскочить из лукошка, окутывается стеклистым паром, выкачивает себя из усталости и одури и снова тащит окоченевшее тело вверх. Ну разве это нормальный человек?
Втянув девушку в пустую гулкую квартиру, Борисов зацепил рукой ведро, к дужке которого была привязана веревка и, повисая на перилах, припадая к ним, словно к спасительной тверди, спустился вниз, набрал в ведро снега. Он знал, что обмороженных надо оттирать снегом, но никогда сам этого не делал — обмороженных ему еще не приходилось спасать. Замерзших, с прозрачной синеватой кожей, туго обтянувшей лица — ну будто бы голова из парафина отлита, — видел, спасать их уже было ни к чему, эти люди не только замерзли, а и в камень обратились, а замерзающих, уже находящихся на том свете, но еще живых, не видел.
В том, что эта девушка была жива, Борисов теперь не сомневался. Иначе к чему вся эта маята, голодная одурь, сердобольный моряк и непосильный труд — ведь не мертвеца же он, в конце концов, вырубил из снега! Выдрал живую душу, живое тело, и он должен спасти эту душу… Борисов заторопился, засипел надорвано, навалившийся ветер пробовал смять его, он выламывал ведро из рук, стаскивал с головы шапку, но Борисов не давался, сопротивлялся ветру, выплевывал изо рта мерзлую мешанину, крутил головой. Наконец втянул себя в подъезд и повалился на ступеньку лестницы, чтобы отдышаться. Но отдышаться себе не дал — наоборот, выругал последними словами, потянулся по лестнице вверх — там человек погибает, а он прохлаждается, черт возьми!
Ему казалось, что он движется быстро, перекладины перил отскакивают назад, словно шпалы от вагонов скорого поезда, а на самом деле это только время летело быстро, сам же он тянулся медленно-медленно, с большим трудом, напрягаясь и сипя, выдергивал ноги из вязкой болотной плоти воздуха, сжимал зубы так, что они хрустели, — впрочем, может, хрустели не они, а лед, набившийся в рот; наклонял голову вперед, стараясь раздавить дымные плотные кольца, одно за другим возникающие перед ним, и нагонял на лицо твердые недовольные морщины, когда видел, что кольца, которые должны были бы остекленеть и рассыпаться, не рушатся, даже трещин-ломин на них нет, всасывал в себя обжигающий каленый воздух и снова волокся наверх.
Он не помнил, как добрался до двери, как нащупал руками медную, ярко надраенную ручку — довоенная роскошь, до сих пор не тускнеет — и ввалился в квартиру. Следом за собою с грохотом втянул ведро.
Опустился на пол, ощутил, как изнутри его что-то бьет, потряхивает, вызывает боль, обрадовался этой боли: раз больно — значит, живой. Мертвым, как известно, не больно. Длинные кольца перед глазами сгустились, сделались нестерпимо яркими, они угрожающе надвигались на Борисова, притискивали его к стенке, казалось, еще немного — и обожгут, но кольца не обжигали и уносились вверх, совершали там невидимый круг и вновь возникали перед Борисовым.
Девушка лежала на спине, запрокинув голову и выставив вверх острый подбородок. Борисов отметил, что природа справедлива и жалостлива, всякое горе старается обиходить, скрыть следы его, чтобы другим было легче, в женщине стремится сохранить женское, в мужчине — мужское, люди должны быть благодарны природе только за одно это. Борисов, в котором все донельзя обострилось, благодарно повел головой в сторону, не удержался — голова все-таки перевесила, и он завалился на бок. Хорошо, вовремя успел подставить руку, не упал окончательно. Поглядел на девушку. Он и раньше не сомневался, что она жива, а теперь тем более.
Застонал, подтянул к себе за веревку ведро. Снег серыми неряшливыми лепешками просыпался на пол. Борисов много раз уже задавался вопросом, как бы этот пол вырубить и засунуть в буржуйку, но выковыривать плотно подогнанные друг к другу паркетины не было сил, и Борисов доставал еду для буржуйки в других местах: успел ухватить часть заборчика, окружавшего их дом, две доски от сарая, стоявшего у них во дворе — от того сарая теперь даже следа не осталось, целиком ушел в дырявое мерзлое небо, пустил под топор мебель, которая у него была, кончилась мебель — с топором пошел по опустевшим соседским квартирам.
Проскребся по полу к девушке, таща за собою ведро. Зачерпнул рукою снега, налепил на лицо девушки бугром, растер. Хоть и напрягаться особо не надо было, растирать лицо — не то, что ходить по лестницам, да еще с грузом, а дыхание себе сбил, перед глазами снова начали плавать яркие кольца, глотку стиснуло холодом. Борисов обиженно застонал, закхекал, зацепил еще снега из ведра, уложил лепешкой на лице девушки.
Попробовал согнуть ей руку — не окостенела ли? Рука была живой, гнулась, и это еще больше обрадовало Борисова, худое голодное лицо его даже порозовело. Борисов сглотнул липкий комок, собравшийся во рту, засипел благодарно — он благодарил Бога, небо, случай, моряка за то, что среди многих смертей хоть одна душа будет жива, поморщился — если он, конечно, постарается, ототрет ее снегом, заставит дышать, не то ведь хоть тело и живое, и гнется, а девушка все-таки не дышит… Тогда чего же он медлит? Борисов снова зацепил снега в руку, навалил девушке на лицо, растер.
Хоть и было в доме стыло, пар звонким столбиком вспухал над головой, а все же не так холодно, как на улице — снег повлажнел, помягчел, утерял наждачную жестокость, не прикипал мертво к коже.
На улице, если захватишь снега рукой, то потом сдираешь его вместе с кожей, содранное место долго не заживает, покрывается зеленой мокрой коростой, из которой все время сочится противная едкая сукровица, тревожит человека, вызывает озноб, слезы и худые мысли о том, что это место никогда уже не затянется, — и действительно, случалось, что и не затягивалось, так человек и уходил в могилу с сочащейся коростой.
От голода не заживают царапины, порезы взбухают, обдаются нехорошей мертвенной плесенью, допекают ослабших людей. Борисов снова запустил руку в ведро и, бормоча смятые исковерканные слова, растер в очередной раз лицо, шею, руки девушки.
— Ну что же вы, а? Что-о-о? — проговорил он неожиданно громко, будто в студенческой аудитории.
Отзываясь на последнее, словно с донышка души поднятое «Что-о-о?», девушка неожиданно открыла глаза, и Борисов, почувствовав, как его прокололо холодом, в костлявых висках образовалась намерзь, зажмурился. Он не понял, что с ним происходит, — то ли он испугался, то ли силы кончились, и ему сделалось плохо, то ли еще что-то произошло, запыленные тусклые стены вздрогнули, как живые, сложились. Борисову показалось, что он сейчас услышит хруст собственных раздавливаемых костей, распахнул рот в немом крике, стены завалились на него, но не причинили боли, в следующую минуту Борисов очнулся от тихого подрагивающего голоса девушки.
— Где я? — спросила она, поскребла негнущимися пальцами по полу, пытаясь определить, что это — дерево, линолеум, снег, лед, железо, и, не определив ничего, снова закрыла глаза. Губы, до того неживые, прозрачно-бледные, чужие, налились розовиной, снова шевельнулись и с них сорвалось легкое, почти неслышимое, далекое: — Где?
Прикоснувшись пальцами к лицу, Борисов выковырнул остатки снега из глазниц, стер его с подбородка и с правой щеки, отряхнул волосы, и, чувствуя, что на него накатывает вал жалости, чего-то слезного, размягчающего, промычал невнятно, скомкано — что за слова это были, непонятно, но он услышал самого себя, понял, что надо говорить, и произнес четко, даже излишне четко, резковато:
— У меня в гостях!
В следующий миг сообразил, что это не ответ, заперхал горлом, раздражаясь на самого себя, хотел что-то добавить, но не успел: девушка заговорила снова:
— Как я сюда попала?
— Я нашел вас на улице, — грубовато объяснил Борисов.
— Почему на улице? — вспарил слабый парок над девушкой, губы ее снова начали терять живую розовину. — Я шла домой…
— Не дошли, видать. — Борисов невидяще поглядел куда-то в сторону, в угол своей неухоженной пустой квартиры, сощурил глаза, будто хотел что-то потщательнее рассмотреть там, но что можно увидеть в голом неприбранном углу? Если только сор? — Упали по дороге… Видать, силы кончились. Я вас нашел, когда вы лежали без сознания.
— Замерзла, — тихим стоном отозвалась девушка.
— Да. И что было страшно — в глазах у вас был набит снег — снег, снег, как у всех мертвых людей. — Борисов сглотнул липкую голодную слюну: не надо было говорить это девушке.
— Как же узнали, что я живая?
— Не узнал — догадался. Вычислил чутьем. Как собака, — добавил он.
— Спа-си-бо, — медленно проговорила девушка.
— За что спасибо-то? — Борисов снова скосил глаза в сторону, сощурился — он думал сейчас, где бы достать дров, в каком заборе выломать пару досок, какой шкаф раскурочить, но ни забора, ни шкафа не было и не должно было быть — все скормлено огню, при мысли о книгах у него по телу пошла пугливая дрожь — все что угодно, но только не книги! — За что спасибо-то? — пробормотал Борисов.
— За все, — отозвалась девушка, но Борисов этих слов не слышал, он думал, он боролся с самим собою, мучительно высчитывал какой-нибудь сохранившийся заборчик неподалеку от дома. Но такого заборчика не было, и нервный озноб вновь пробил Борисова — оставались только книги.
— Н-нет, — пробормотал он, сопротивляясь этой мысли.
— Что? — переспросила девушка, и Борисову сделалось стыдно и одновременно жарко — вот неожиданная вещь! — неужели он еще может сомневаться?
Может! Не будет книг — жизнь для него окажется пустой и потерянной. Если он и держался в эти голодные стылые дни, то не стадвадцатипятиграммовой пайкой хлеба, не жалким теплом буржуйки, от этого можно было только умереть — держался книгами. Его лицо снова сделалось отсутствующим, мученическим, будто у святого, глаза угасли, вобрались под череп, на щеках и подбородке появился пот. Лоб оставался сухим.
— Н-нет, — снова пробормотал он.
— Ничего не понимаю, — проговорила девушка.
— Я и сам ничего не понимаю, — виновато произнес он. — На меня, кажется, находит… Разная ерунда находит.
Он задом, костяно брякая коленями о пол, отполз от девушки, с трудом поднялся и, сгорбленный, старый — не по возрасту старый, а от осознания того, что делает, — приблизился к книжному стеллажу. Стеллаж он до войны делал по заказу: нанял мастера, тот нарезал ему металлических ребристых реек, — рейки он почему-то называл угольниками, в понятии Борисова угольником было нечто совсем иное, — просверлил в рейках дырки, прикрутил к стене, соорудил некую сетку, схожую со скульптурой конструктивиста — если бы Борисов был художником, то обязательно дал бы этому произведению конструктивистское имя, на перекладины «скульптуры» настелил деревянные полки. Когда книг не станет, деревянный настил тоже можно будет пустить на корм буржуйке, — пусть ест, пусть давится!
Он почувствовал, что по щеке у него ползет-скребется какой-то паучишко либо козявка, движется паучишко вниз медленно, кожу опаливает то ли огнем, то ли холодом — не поймешь, подумал: хорошо, что этих невольных слез не видит девушка. Хотел стереть слезу рукой, а рука не слушается, висит, словно отбитая. Потерся щекою о воротник, потянулся, привстал, насколько позволяет рост, вытащил несколько книг — руки опять начали работать. Названия читать не стал. Знал, что, если начнет читать, рука потом не подымется бросить их в топку. Уж лучше сделать это вслепую.
Самые ценные, самые необходимые, без которых свет кажется серым и холодным, немилым, книги находились у него на стеллаже справа, на трех нижних полках, такие же книги были выставлены по всему низу конструкции, вверху слева находились те, которыми он пользовался через раз, через два — не каждый день, и он мог ими пожертвовать. Но только не глядя. Прочитает название, в мозгу всплывает жалобное: там-то он этой книгой пользовался, там-то она пригодилась, и все — у него руки снова откажут. Шмыгнул по-мальчишески носом — ему надо было собраться, вернуться на исходную позицию, стать самим собой, ощутил, как тяжелы книги, которые он держит в руках. Невольно зажмурился. По щеке вновь пополз щекотный холодноногий паучишко, вызвал озноб. В следующий миг Борисов услышал далекое, тихое:
— Прости-те… по-жалуй-ста-а…
Притиснувшись щекой к плечу и сбив паучка на пол, Борисов отозвался:
— Что вы! Не за что!
Оживленная им девушка теряла сознание, и он заторопился, отметая прочь всякую жалость и сомнения — участь книг была решена, зацепился ногами за пол и чуть не грохнулся. Зачастил, ощущая, какие у него чужие, холодные, совершенно деревянные губы:
— Вы что же это, а? Вам плохо? Плохо, да?
Одна из книг вырвалась из пальцев Борисова, упала на пол, Борисов поднимать ее не стал, погнал себя к печушке-буржуйке с выведенной в форточку трубой, носком ботинка отбросил в сторону тонкую хлипкую дверцу и кинул в обнажившийся зев несколько книг.
— Вы подержитесь немного, а?! Подержитесь! Я сейчас, я сейчас. — Извлек из кармана фанерную щеточку спичек — блокадных, только в Питере, наверное, и выпускаемых — щеточкой, с одной спички подпалил книги. Никогда он раньше не гадал, не думал, что научится так ловко разжигать огонь, но нужда заставила.
Печушка разгорелась быстро — буржуйки вообще обладают способностью моментально разгораться, быстро съедать пищу, давать тепло и также моментально тухнуть, уступать место холоду. Борисов на карачках вернулся к девушке, тряхнул ее за плечи, свистяще спросил:
— Вы живы?
Он думал, что девушка уже не услышит его, тоненькая ниточка, привязывающая ее к этой жизни, оборвалась, но девушка оказалась живучей, вернулась в этот дом из далекого далека.
— Да! — шелестяще тихо отозвалась она.
— Потерпите еще немного, — засипел-зашептал Борисов, — сейчас разгорится печка, будет тепло.
По ее лицу проползла светлая вымерзшая тень, ресницы дрогнули, в уголках губ появилось что-то благодарное. Борисов неожиданно почувствовал, что сосущее, сделавшееся застаревшим чувство голода — такое ощущение, будто он с голодом и родился, — отступило, Борисов вдруг вернулся назад, в довоенную жизнь, заскользил по плоскости времени, словно на коньках по льду, в розовую ребячью пору, в детство, которое неубывно сидит в каждом из нас, сколько бы нам лет ни было.
Видимо, само провидение заставило Борисова остановиться около припорошенного снегом тела: столько раз проходил мимо лежащих, съежившихся от холода людей, в такой съеженной позе и окаменевших, и не останавливался — знал, что ничем уже им не поможет, для них осталась одна дорога, а тут задержался, потрогал зачем-то тело, понял, что человек, лежащий в мертвой позе, жив, и попытался его спасти. И спас.
Впрочем, что он! Спасибо моряку, который вовремя подвернулся. Не будь моряка — Борисов и ее бы не спас, и себя бы погубил. Он старался вспомнить, воссоздать в памяти лицо моряка — и не мог, получалось что-то нечеткое, размытое, Борисову делалось стыдно: не по-людски это — не помнить добрых людей. Ну хоть бы фамилию моряка записал! Борисов усмехнулся отчужденно, недобро. Ведь он между тем светом и светом этим болтался, свет для него сделался мерцающим, больным, непрочным, все время грозил угаснуть, где-то на шее тревожно билась незнакомая жилка, грозя порваться, в ней пока не застывала кровь, как она застывала в других жилах, в мышцах, в мозгу, тупой звон в ушах угасал, и наступала ватная глухая тишь, которая была страшнее звона.
Прежде чем спасенная девушка пришла в себя окончательно, Борисов спалил в буржуйке две с половиной полки книг, — бумага горела быстро, будто таяла. Чтобы она не горела так стремительно, он подкладывал в печушку земляной мусор, тряпье, подобранное на улице, остатки старого резинового коврика, разрубленную пополам жестяную банку с комком отвердевшей краски. Буржуйка фыркала, трещала, кряхтела, грозила все это выплюнуть обратно, но все-таки не выплевывала — Борисов придерживал дверцу книгой, отводил глаза в сторону, в угол — он боялся прочитать название книги, а потом вообще перевертывал ее лицом вниз. Через некоторое время и эта книга оказывалась в печке.
Когда в неровный пляшущий огонь летел очередной том, Борисов испытывал физическую боль, словно его насквозь протыкал горячий осколок, книги для Борисова были живыми, они так же, как и люди, тянули свой блокадный крест.
Если девушка начинала стонать, Борисов бросался к ней, суетился, злился на самого себя — такой он бестолковый оказывался — не умел ей помочь, бормотал что-то скомканно, затихал, когда в голову ему приходила мысль: а вдруг эта девушка все-таки умрет? Прислушивался — дышит она или нет? И встряхивался облегченно, когда слышал ее стон. Снова перебрасывал свое тело к буржуйке, совал в нагретый зев очередную книгу.
— Кто вы? — услышал он вопрос.
— Я? — Борисов даже голову в плечи втянул: ему показалось, что он ослышался — голос девушки был ровным, незамутненным. — Я? — переспросил он машинально. — Я — человек.
— И все же?
— У меня профессия, которая нигде, ни на какой войне не нужна, — астроном, — ответил он, не поворачиваясь, словно боялся увидеть то, чего ему не следовало видеть, спросил: — Очнулись? Вам помощь нужна?
— Нет, — быстро отозвалась девушка, и Борисов услышал, как она пластается по полу. Понял — отползает к стенке.
— Как вас зовут? — спросил он.
— Светлана. Мама Ланой звала, — отозвалась девушка. — Уменьшительно. А вас как зовут?
— Борисов.
— Борисов? А имя есть?
— Имя, как у всякого нормального человека, есть, но лучше просто Борисов. Коротко и ясно. И еще одна просьба. Можно не на «вы», а на «ты»?
— Я так не умею, — неуверенным голосом произнесла Светлана, — сразу на «ты»…
— Да, сразу на «ты». Выкают обычно, когда хотят человека отдалить, поставить его на расстояние вытянутой руки, а то и вовсе пистолетного выстрела, а «ты» — это всегда сближает людей, тут нет ничего худого или невежливого. Ей-богу!
— Я не могу на «ты», — жалобно произнесла Светлана.
— Мама твоя жива? — спросил Борисов, по-прежнему не оборачиваясь.
— Н-нет. — Светлана по-детски шмыгнула носом.
— Одна живешь?
— Одна.
— Спешила домой, естественно? — Голос Борисова сделался укоризненным.
— Домой. Холодно было.
Разговор шел однозначный, какой-то пристрелочный, почти лишенный цели.
— Эх, спешка, спешка, — Борисов кинул в печушку очередную книгу, вздохнул — в груди у него что-то заклекотало само собой, будто в легких образовалась дыра, воздух с силой высвистывал из пробоя, и дави не дави на меха — все впустую, музыки и ровной работы не получается, лишь сип да клокотанье, девушка отозвалась стоном, и тогда Борисов оглянулся: — Тебе больно?
— Нет.
В комнате было тепло, воздух растерял привычную сухую искристость, растаял, сделался вязким, обволок тело, опустил Борисова на землю. Окно было залеплено серым плотным слоем — снег приклеился мертво, неряшливо, надо бы счистить его, но только вот как? Открыть окно и выпустить из квартиры последние крохи тепла? Либо попытаться достать снизу? Но для этого нужна лестница, а где ее возьмешь?
Было тихо. Не верилось, что за серым слепым окном лежит огромный город, страдает, люди хватают обескровленными худыми ртами воздух, высасывая из него последние остатки кислорода — если уж хлеба нет, то пусть хоть кислород будет, плачут, стискивают зубы в неимоверном усилии, когда надо идти за водой либо за хлебом. И каждую минуту, может быть, даже каждую секунду умирают.
Кто умирает в этот миг, как фамилии этих людей? Борисов подвигал нижней челюстью, будто хотел растереть зубами зерно, снова вздохнул, прислушался к простуженному дырявому звуку собственных легких.
День был тихим, странно тихим — ни обстрелов, ни бомбежек. Может, у немцев какой-то праздник и они объявили перекур?
Когда в буржуйке догорела последняя книга и лицо Борисова обрело мучительное выражение, будто он собирался умирать, Светлана всхлипнула, достала из кармана листок бумаги и зажала в руке. Борисов поднялся на ноги, качнулся — слаб был и голоден, постоял немного, словно бы удерживал равновесие или искал в воздухе точку опоры, пошел к стеллажу, снял очередной том, бросил в печушку, поморщился от мысли, что уже пошли книги из нужного ряда, скоро останется один только ряд — заветный, из которого тома брать нельзя, но и этот запрет, видать, придется нарушить, — легкую, бумажной толщины дверцу — наверное, скоро железо прогорит — придержал другой книгой.
— Ты где работаешь? — спросил он Светлану.
— В детском саду.
— Не плачь, чего плачешь? Плакать уже поздно, ты жива — и это главное. Не надо расходовать слезы. Не разводи мокроту!
— Вот, — сказала Светлана и разжала руку.
Листок, что выпал из ее ладони, был выдран из школьной тетрадки «в арифметику». Край листка был загнут.
— Что это? — Борисов неловко, боком, как-то по-крабьи — у него неожиданно возникло чувство смущения, приблизился к листку, поднял его с пола, развернул.
Это был детский рисунок, сделанный человечком, который еще только научился ходить, но не научился мыслить, разбираться, что такое хорошо и что такое плохо, научился голодать, но не научился вволю есть. Рисунок был сделан дрожащим слабым карандашом и ни на что не был похож, он рассказывал обо всем сразу и ни о чем конкретно. Неровные каракули кудрявились по краю листка, заваливались за него, потом, наоборот, отступая, залезали на середину. А в свободной середине был нарисован овал, похожий на звенцо от цепи.
— Странное изображение, — сказал Борисов. — Кандинский… Малевич. Абстракция?
— Нет, очень предметный рисунок. — Светлана всхлипнула.
— Кто его сделал?
— Ребенок из моей группы. Шурик Игнатьев. — Голос Светланы отдалился, стал бесцветным — ни красок в нем, ни теней, ни света, это был чужой, вообще не принадлежавший человеку голос. — Шурику Игнатьеву, когда он сделал этот рисунок, исполнилось три года.
«Почему в прошедшем времени?» — хотел было спросить Борисов, но сдержался, в горле набухла затычка, он виновато отвел глаза в сторону. Чего спрашивать — и без расспросов понятно, что этого мальчишки уже нет в живых.
— Странный какой рисунок, — только проговорил он.
— Я спросила у Шурика, что обозначают вот эти вот каракули, — девушка показала на неряшливые карандашные завитки, — оказалось, это нарисован дым. Первое, что начинают рисовать все дети, — дым. Дым изображать проще всего. — Светлана опустила голову, во рту у нее забилась звонкая стеклистая горошина, Борисов сжал крепко губы, тоже нагнул голову, Светлана заплакала, но вскоре утихла, сил на слезы у нее не было. — Крути и крути себе кудряшки; как ни накрутишь — все равно да получится, потом ребенок к дыму пририсовывает трубу — получается дом либо пароход. Шурик ответил более точно, чем я предполагала, он ответил, что это война. — Она поджала губы и прошептала: — Война!
Очень точно мыслил Шурик, война — это боль, это страх, это, когда нет воздуха, это дым, дым, дым.
— Война, — Светлана скорбно стиснула рот, словно бы увидела сейчас саму себя в сером дне, в сером холодном помещении, среди серых молчаливых худых ребят. — «А это что?» — спросила я у Шурика и показала пальцем в овал. Шурик молчал. «Что это, Шурик?» Я опять показала на овал. Шурик продолжал молчать. «А? — Светлана почувствовала, что у нее садится голос. — А?» — повторила она и чуть не подавилась собственным голосом. У Шурика дрогнуло и перекривилось лицо, он едва слышно проговорил: «Это булка. И больше я ничего не знаю». Тут Шурик не выдержал и заплакал…
Светлана замолчала, беспомощно оглянулась на Борисова. Плечи ее приподнялись по-птичьи, голова ушла в пальто, глаза налились тяжелыми слезами.
— Сегодня утром Шурик Игнатьев умер, — сказала она[1].
— Ровно три года было, значит? — Легкие у Борисова снова издали дырявое сипенье, он пошевелил пальцами, словно бы собирался что-то сделать.
— Ровно три года. — Светлана подняла руку, отерла глаза. — До сих пор не могу простить себе его смерти.
— В чем ты виновата?
— Если бы я знала! Не знаю, в чем…
— Ты сама только что побывала на том свете.
— Каждый из нас ежедневно бывает по нескольку раз на том свете.
— Верно. — Борисов вздохнул. — Хотя и непонятно.
У него мелькнула мысль о том, что человека в минуту опасности обязательно приносит на собственное пепелище, в считаные мгновения он проходит путь от изначальной своей точки, от розового детства до этого самого пепелища. Все было понятно.
— Как чувствуешь себя? — спросил он.
— А как может чувствовать себя человек, который только что умирал?
Борисов поежился, подумал — в который уж раз! — что слишком естественной и близкой человеческому естеству сделалась смерть, такое впечатление, что она взяла верх над жизнью и осознание этого оставляет чувство щемящей тоски, горечи — даже во рту было горько, слезно, что-то там сбилось в вязкий комок; он по-ребячьи шмыгнул носом.
То, что раньше считалось исключением из правил, — сейчас правило. Раньше человек, который на ходу свалился в снег, поднял бы на ноги целую бригаду врачей, а сейчас, когда кругом умирают люди, смерть одного уже никого не трогает, и это страшно. Борисов ощутил, как в нем рождаются сострадание и одновременно нежность — он был покорен мужеством этой тоненькой угасающей девчонки.
— Ты любишь детей, раз избрала эту работу? — спросил он.
— Да.
— А я в них ничего не смыслю. Мне непонятна детская психология.
— Почти ничем не отличается от взрослой. Все то же самое, только помноженное на доверие и чистоту.
— Сложен человек, сложен и уязвим, — вздохнул Борисов, — запаса прочности в нем почти никакого.
— Наоборот, — возразила Светлана, — столько тому примеров!
Борисов отрицательно покачал головой: нет!
Когда в сорок первом году в Ленинграде не стало электричества, остановились все уличные часы. Через месяц многие из часов вообще оказались покореженными: стекла выбиты, циферблаты порваны осколками, из продырявленных коробок высовывались какие-то проводки и шестеренки, выпадали гайки.
Как-то к Борисову пришла старушка соседка, дородная, в черном длинном платье и черной шали, пожаловалась, что у нее остановились все домашние часы, время в квартире перестало существовать совсем. Через месяц Борисов увидел ее мертвую на улице, тело было проволокой прикручено к сорванному с крыши железному листу и оставлено на дороге: у человека, который это сделал, не было сил, чтобы отвезти труп на кладбище.
Уходя, соседка пожаловалась, что не только она — многие живут ныне без времени — домашние часы стоят, их забывают заводить, ручные тоже в простое, у иного человека просто сил не хватает, чтобы накрутить маленькое рубчатое колесико — уж очень увертливое оно, каждый раз выскальзывает из пальцев. Борисов посмотрел ей вслед, подумал:
«Что время! Ничто оно, вот и все, — ничего не стоит, не видно его и не слышно, меж пальцев, как материю, время не пропустишь. Звук идущих часов, говорят, самый зловещий звук на земле. Впрочем, нет! Более зловещи мягкие удары комков земли о крышку гроба. От мягких “бух-бух-бух” по коже пробегает дрожь. Звук тряпичный, противный, застревает в ушах, словно снег, поднятый взрывом, а какой жестокий смысл у него! Время и смерть стоят на одной доске. Любое начало жизни есть начало смерти». — Он покачал головой. Старушка хоть и еле передвигала валенками, а удалялась с достоинством, было в ней сокрыто нечто вызывающее уважение и одновременно скорбь: старушка соседка не могла овеществлять собою вечность.
— Время, время, время, — начал бормотать Борисов вслух, понимая, что старушка завела его, словно будильник, совместила стрелки прошлого со стрелками настоящего. Интересно, а будущее имеет стрелки?
На следующий день он пошел на фабрику Урицкого — знал, что эта фабрика до войны делала табак, а что сейчас делает — не знал, но на всякий случай полагал, что там обязательно должна быть деревянная упаковка: дощечки, доски, листы фанеры, перекладины. В проходной его долго держали. Охранник — худой кадыкастый человек с впалыми, серыми от голода и несбритой щетины щеками, все пытался проколоть Борисова пронзительным синим взглядом:
— Вы к кому?
— Мне бы к начальству, — нерешительно тянул Борисов, трогал пальцами металлическую перекладину, вытертую до блеска, ежился: уж очень пронзительными, острыми и по-девчоночьи яркими были глаза у охранника, смотрит так, будто выворачивает его наизнанку, пытается дознаться, что у Борисова в карманах.
— К какому начальству? — тихим недобрым голосом спрашивал охранник, берясь рукой за тяжелую громоздкую кобуру, висящую у него на поясе. Судя по тому, как кобура оттягивала пояс, в нее была запрятана не алюминиевая ложка и не щипчики для обкусывания ногтей, а что-то более весомое.
«Интересно, какой звук у этой пушки? — покосился Борисов на кобуру. Обозлился. — Не пушка, а дура! И охранник дурак, раз в каждом прохожем видит шпиона». Пошарив у себя в кармане, вытащил потрепанную книжицу.
— Да к любому начальству! — повысил он голос. — Я — член-корреспондент Академии наук СССР!
Охранник гулко кашлянул.
— Член-корреспондент, значит? — протянул руку, беря удостоверение, обжег Борисова синим острекающе-крапивным огнем. — Посмотрим, что за член и тем более корреспондент! — Охранник снова гулко кашлянул, внимательно осмотрел удостоверение, потом повернулся к Борисову спиной, свел лопатки вместе и просунулся в небольшое квадратное оконце, позвал кого-то. Вернул удостоверение Борисову. — Жди! — хмыкнул недобро, уплывая куда-то далеко, в свои заботы — Борисов уже перестал для него существовать. — Член-корреспондент!
Вскоре в проходной появился человек в черной, поблескивающей от мазута и железной окалины телогрейке, с испятнанными солидолом руками и лицом, и Борисов понял, что фабрика Урицкого уже давным-давно выпускает не табак, а нечто другое — работает на фронт, иначе бы не был тот усталый хмурый человек так измазан. Пришедший покосился на охранника и вялой шаркающей походкой — он был голоден и еле волочил ноги — подошел к Борисову.
— Слушаю вас, — проговорил он тихо, поморщился, зачем-то потрогал голову, слова поморщился, в блеклых внимательные глазах его жила боль, и Борисов, уловив эту боль, почувствовал себя неловко: может быть, напрасно он пришел сюда? Ведь этот человек явно точит снаряды, либо собирает танковые моторы: насквозь пропитался и пропах железом и смазкой.
— В городе остановились все часы, — сказал Борисов и переступил с ноги на ногу: ведь не его это забота — часы, голос сделался обиженным, чужим. Пришедший продолжал внимательно слушать Борисова, и это внимание подбодрило его, он сглотнул, глоток получился гулким, неприятным. — Поэтому я хочу у нас в сквере установить солнечные часы.
— Доброе дело, — невзрачным тихим голосом отозвался человек в телогрейке, часто поморгал глазами, пытаясь унять резь — под веки ему будто наждачная крошка попала, уголки глаз заслезились, в них блеснуло что-то светлое, и Борисов вновь ощутил неловкость, он словно бы подсмотрел нечто такое, что нельзя было видеть, пробормотал:
— Извините!
— Ничего, — отозвался человек в телогрейке. Он все понял, достал из кармана скомканною серую тряпицу, промокнул ею глаза. — Двое суток без сна.
— Для того чтобы установить часы, разметить их, мне нужна вот такая доска. — Борисов руками очертил квадрат, показал размер.
— Сложное дело, — вздохнул человек в телогрейке, — у самих дерева нет, многие цеха пробиты снарядами, люди от холода падают в обморок.
— Но ведь это же для часов! — Голос у Борисова сделался звонким, высоким, обиженным, что-то в нем натянулось. — Для всех!
— Понимаю, — кивнул человек в телогрейке, тяжело и хрипло вздохнул, проговорил прежним тихим, не окрашенным ни в какой цвет голосом: — Жди меня здесь!
Борисов ждал его минут двадцать, ежился под острым, неприязненным взглядом фабричного охранника, ждал, что тот выскажет ему что-нибудь, выдаст по первое число, но тот молчал — сверлил глазами Борисова и молчал. Борисов, сохраняя некое равновесие, тоже не ввязывался в разговор, прислушивался к смазанному звуку станков, к клекотанью студеного ветра на улице, к звону слабости, которой он никак не мог вытряхнуть из ушей. Наконец мастер вернулся, держа в руках промасленный деревянный квадрат со свежим обпилом края.
— С собственного стола снял, распилил пополам. — Усмехнулся печально, болезненно: — Как в народной песне — тебе половина и мне половина.
Сердце у Борисова поползло вверх, к глотке, сделалось тепло, он был благодарен этому усталому человеку в просторной, имеющей кожистый блеск телогрейке.
— С-скажите, как ваша фамилия? — Борисов взялся пальцами за шею, помял ее.
— А, пустое. — Человек в телогрейке улыбнулся чуть приметно, буквально кончиками губ, пошатнулся, покосился на фабричного охранника — уж очень тот кололся взглядом, ну будто гвозди вколачивал, проговорил: — Ты, вохра, поласковее будь с людьми!
— Я что — я ничего, — смущенно пробормотал фабричный охранник, положил руку на кобуру, потом, ощутив неловкость, прижал пальцы на солдатский манер к ушанке. — Живы будем — исправимся!
— Вот именно — живы! — проговорил человек в телогрейке серым, бесцветным голосом и ушел.
Дома Борисов ножом соскоблил солидоловую налипь с квадрата, соскобленные застружины аккуратно сгреб на лист бумаги, отложил отдельно — сгодится для буржуйки. Целый вечер Борисов просидел над доской, тушью расчерчивая ее, в центре циферблата вырубил углубление для стрелки. Потом растопил печку, распахнул дверцу буржуйки, сунул руки чуть ли не в самый огонь, хватил пальцами пламя, растер его и долго так сидел, не чувствуя ни жара, ни боли. Впрочем, пламя было слабое, оно едва-едва плескалось в печушке, синеватые хвосты отрывались, улетали в узкое коричневатое жерло трубы. Борисов сидел перед огнем и чувствовал себя хорошо. Давно он уже так хорошо себя не чувствовал. Он ощущал живой сцеп, который связывал его с людьми, делал причастным ко всему, что сейчас происходило в Питере и его окрестностях, у него глухо и медленно, будто экономя энергию, билось сердце, отзывалось на чью-то далекую боль, на стоны раненых, привезенных в госпиталь, расположенный в соседнем квартале, на крик ребенка, у которого только что умерла мать и он остался один в огромной гулкой квартире, обреченный, беспомощный, съежившийся от холода. Если бы знал Борисов, где находится ребенок, — спас бы, но узнать не дано — город был мертвый в этот час.
На следующий день Борисов долго ходил между домами, выискивая удобную площадку — надо, чтобы и место ровным было, а пуржило тут меньше, и дома свет не загораживали, и сюда имелся проход.
Забраковал одну площадку, за ней другую — свет был слаб, а в прогалах между стенами посвистывал резкий ветер, нес крупку. Наконец выбрал подходящее место. Ровное, плоское. С двух сторон площадки стояли чугунные скамейки с содранными деревянными планками — от оголенных черных скамеечных скелетов веяло кладбищем; Борисов подумал, что рядом грохнул снаряд, выбил планки и ничего больше не тронул, но это сделали люди; по бокам площадки росли деревья, каштаны и клены. Вперемежку. И свет хоть и мутный, дрожащий, а все был лучше, чем в других местах.
Установил там фанерный квадрат, проверил наклон, поставил время по своим часам.
На следующий день пошел на площадку посмотреть, как там обстоит дело: не уволок ли кто доску на растопку. Часы были на месте, возле них толклись два бледнолицых школьника с запавшими глазами.
— Что это, дядя? — спросил один из них.
— Солнечные часы.
— А как ими пользоваться?
Борисов пояснил. Спросил:
— В школе астрономию проходили?
— Проходили, но про часы там ничего не было. А мы думали, что это какая-то фрицева штука, чтобы немецкие самолеты наводить. Специально поставлена…
— Дурачье вы, — печально проговорил Борисов, обхватил ребят за плечи, свел вместе. — Вам бы не в Питере сейчас быть — в другом месте.
— В другом месте не надо, — взрослым знающим голосом произнес один из школяров и выскользнул из-под борисовской руки. Варежкой он написал на сугробе: «Осторожно! Солнечные часы».