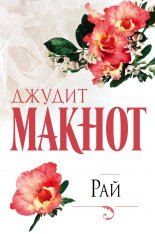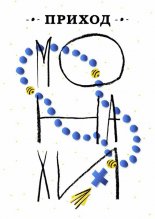Бросок на Прагу (сборник) Поволяев Валерий
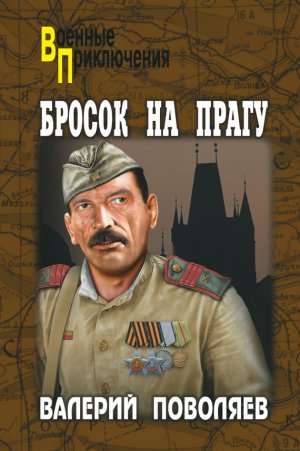
…Ночевали в разных комнатах: Борисов в дальней, холодной, Светлана в той, что примыкала к кухне. К утру все равно вся квартира промерзла насквозь. Углы искрились ледяной солью, с потолка свисала махристая паутина — от слабого человеческого дыхания образовался иней, тянулся длинными нитями вниз на пол, на кровать, выбеливая паркет и материю.
Часа в три ночи неподалеку начал хрипеть, поднимать людей тревожный ревун, он был установлен на крыше соседнего дома, имел свой особый простуженный голос, не похожий на голоса других сирен. Кажется, немцы собрались обстреливать их район, неподалеку дважды рвануло, земля встряхнулась, дрожь передалась домам — надо было подниматься и идти в убежище, но Борисов не пошел: боялся потревожить Светлану; ну и еще потому не пошел, что знал — немцы не дураки, чтобы не спать по ночам, постреляют, постреляют и успокоятся. Сколько раз так было, нынешняя ночь — не исключение.
А утро занималось мрачное, холодное, в заиндевевшую темень окна пролилась другая темень, чуть пожиже, в ней Борисов разглядел черные жесткие ветки деревьев.
Прислушался — как там Светлана? Тихо. Ни шороха, ни шевеления, будто ее не существовало вовсе. Шею окольцевала неприятная петля, ко лбу будто бы прилипла мокрая паутина — мелькнула нехорошая мысль: а жива ли она вообще? Может, он что-то не рассчитал, недодумал — вчера в горячке возвращения с того света на этот Светлана вроде бы держалась на ногах, про детский сад рассказывала, рисунок показывала, и Борисов устало дивился, отмечая про себя — молодец, девушка, хорошо держится!
Он обеспокоенно шевельнулся, поднес кулак ко рту, покашлял. Прислушался: не отзовется ли Светлана?
Было тихо. Только пар от кашляния вспух жидким куполком над его лицом.
По тусклой заиндевелой поверхности окна проскользил рдяной отблик, в нем, как в аквариумной глуби, проступили темные рога пятна, косо свалились за обрезь мохнатого липкого инея, за первым бликом двинулся второй — словно бы кто-то показывал кино, — ощущение нереальности, сонной одури вызвало еще большую слабость, Борисов разжал зубы, почувствовал соль и тепло во рту. Подумал равнодушно: кровь!
Неподалеку что-то полыхало — тени, отбрасываемые пламенем, перестали перебегать воровато с места на место, они уже смело отпечатывались на стекле, ровно ложились одна на другую. Борисов сглотнул кровь, слабым вялым взглядом досмотрел в окно.
Вздрогнул, когда за спиной, в дверном проеме раздался голос:
— Где пожар, не знаете?
Покачал головой. Спросил на «вы», словно бы вчера не высказывал своего пренебрежения к мягкотелому обращению:
— Как вы спали? — Отметил, что голос его — непрочищенный, глухой, слабый, и ему сделалось неудобно перед Светланой. — Извините, пожалуйста, — произнес он виновато.
— За что извиняетесь? — удивилась Светлана.
— За все, — не оборачиваясь, проговорил Борисов.
— Это я перед вами должна извиняться, — произнесла Светлана тонким, каким-то синичьим голоском. — Если бы не вы, я не знаю, где бы сейчас находилась.
— Пустое, — вспомнив моряка, и еще — усталого, насквозь пропитанного солидолом и металлической окалиной мастера с фабрики Урицкого, произнес Борисов. — Вы не замерзли?
— Очень замерзла!
Борисов повернулся. Шею прострелила боль, глазами он нащупал в сумеречном проеме двери тонкую фигурку в расстегнутом плотном пальто, снятом с чужого плеча, — может быть, это пальто носил ее отец, может, брат, а может, просто кто-нибудь принес в детский сад, чтобы утеплить ребятишек, а оно досталось воспитательнице, хотя Светлана была явно не из тех людей, которые обижают ребятишек.
— Вам скоро на работу? — спросил Борисов машинально, ему сейчас обязательно надо было что-нибудь спросить, услышать собственный голос.
Бледное Светланино лицо расплылось в сумраке.
— Нет, — хрипло проговорила Светлана.
— Что — нет?
— В детском саду оставалось двенадцать детишек. Позавчера их… — Светлана недоговорила, согнулась в хриплом кашле, плечи ее сникли под тяжестью одежды.
— Вам помочь?
Светлана, не переставая хрипеть — что-то перехватило ей легкие, мешало дышать, отрицательно помотала головой.
— Никого из детей уже нет в живых, — произнесла Светлана, согнувшись. Она никак не могла разогнуться.
— Бомба? — шепотом спросил Борисов.
— Прямое попадание снаряда. — Светлана наконец выпрямилась, изо рта у нее вырвался хрип. В груди тоже что-то хрипело, поскрипывало ржаво, она вообще сейчас состояла из изматывающего хрипа да из скрипа, ничего другого в ней не было, только хрип да скрип. — Я лишь случайно не попала под снаряд. Только и осталось у меня от детского сада, — она вытащила из кармана листок бумаги, который показывала вчера, — вот это.
Окно было по-прежнему окрашено в ровный кровянисто-светлый цвет, по вспушенному густому инею ползали клюквенные тени; огонь, разгоревшийся где-то неподалеку, жил, вызывал опасение — а вдруг перекинется на дома и пойдет гулять? Борисов закрыл глаза.
Надо было снова растапливать печушку. Книгами. Борисов молча, почти неслышно, поднялся, побрел к окну. Сквозь розовую густоту инея ничего не было видно. Горело где-то рядом. Пожар был беззвучным. Когда горит с грохотом, с воплями и треском — такой пожар бывает понятен, каждому становится ясно, что пожар будет скоро потушен, а когда тихо, без единого звука, — тогда страшно. Это значит, нет людей, которые могли бы усмирить пламя — люди мертвы.
— Вы, пожалуйста, не плачьте, — не отрываясь от окна, попросил Борисов.
— Я не плачу, — далеким голосом отозвалась Светлана.
В груди Борисова от этого голоса образовалась пустота, и в этой пустоте ошеломляюще гулко, болезненно заколотилось сердце.
— Вас дома кто-нибудь ждет?
— Нет.
Рыжие мутные блики недалекого пожара скользили по стенам комнаты.
— Может, вам лучше никуда не уходить? Может, останетесь здесь?
— Дом есть дом. — Светлана всхлипнула.
Рыжие блики продолжали метаться по стенам комнаты.
— Надо умываться, а на улицу идти неохота. — Борисов передернул плечами. — Холодно, как в ледовой яме.
— Не ходите.
— Нельзя. Сломается пружина, основа, стержень — и все, сразу покачусь под гору.
— Какой стержень?
— В каждом человеке есть нечто такое, что позволяет ему держаться — пружина, стержень, основа. Называйте как угодно. Главное не название, а смысл. Почти всегда это проявляется в малом, иногда в чем-то очень малом. — Он замолчал на секунду, переводя дыхание, выровнял самого себя, словно в долгом тяжелом беге — Борисову казалось, что он вот-вот завалится, ткнется головой в обочину, словно сошедший на нет бегун, но ничего, пронесло, и он заговорил дальше: — Допустим, каждодневное умывание. Раз привык человек умываться, раз это заложено в крови — умывайся, даже если не можешь встать с постели.
— Простая истина.
— Простая не простая, но как только человек перестает это делать, значит, все — он надламывается. А надломившись, ломается совсем и катится вниз. Да, вещь простая, может даже улыбку вызвать, но упаси бог отречься от нее.
— А там все продолжает гореть, — проговорила Светлана.
Борисов глянул в забитое густым снежным бусом окно, начавшее чуть светлеть.
— Странная вещь: в войну даже камень горит. Сколько раньше ни было пожаров — камень не горел. Закоптится — и только. А сейчас горит, словно дерево.
— Произошла переоценка материй.
— Вот-вот… Вот одна из примет большой войны — качественная переоценка материй. А вы… вы, Светлана, оставайтесь у меня. Советую… Ей-ей! Места здесь много, хватит на вас, на меня и даже на половину вашего детского сада. — Борисов осекся: сказал он не то!
Голова шла кругом, предметы перед глазами растекались, словно были сделаны из теста, плыли, ледяные прожилки в углах искрились, будто дорогие каменья, били в глаза острыми лучиками. Борисов поежился — грудь обдало болью, но боль не остановила его, он вяло прошаркал подошвами в кухню, взял там ведро и пошел на улицу.
Серый вязкий мрак на улице подался под напором пожара, всосался в сугробы, лишь кое-где у деревьев, словно куски тряпья, застыли темные воздушные пятна — в мороз даже атмосфера имеет свою плоть, ее можно пощупать руками. Борисов попытался определить, что же горит, где, но для этого надо было забираться за дома, месить снег, терять последние силы, он вскарабкался на вершину плотного, покрытого роговой коркой сугроба, продавил корку ногами, выковырнул твердые заусенчатые пластины и запустил в обнажившуюся мякоть, как в прорубь, ведро. Конечно, талая снеговая вода — не самая лучшая, лучше, когда она взята в Неве, но до Невы Борисову не дойти, на умывание сгодится и талая вода — припахивающая землей, мочой, гнилью и почему-то осенними грибами — опятами, которые Борисов любил когда-то собирать.
А теперь это «когда-то» осталось за пределами времени, в прошлом, и прошлое это воспринимается с некоторым оцепенелым спокойствием, потому что Борисов, например, твердо знает: прошлого у него не было, это сон, сладкое видение, что угодно, но только не явь. Так уж человек устроен — всю свою прожитую жизнь он укладывает в один день — тот, в котором живет. Жизнь для него — это сегодня. Не вчера и не завтра, а сегодня. И с поправкой на это «сегодня» у человека меняется характер, происходит переоценка ценностей, он по-иному начинает владеть телом, по-иному мыслить, небо для него сужается до размера сковородки либо, наоборот, делается безмерным, огромным — все зависит от этого «сегодня», от предметов, населяющих его, от холода или тепла, от того, как ведут себя птицы на улице.
Борисов улыбнулся печально: птиц в блокадном Питере не стало, они, словно бы понимая, что жизни для них здесь не будет, только смерть, все улетели. Даже вороньего скрипучего карканья и того не слышно — опасаясь, что и их смолотит голодный питерский люд, вороны тоже откочевали из города.
Вернулся домой. Светлана сидела на кухне подле печушки, сжавшись в клубок, Борисов, увидев ее глаза, заторопился:
— Сейчас растоплю буржуйку!
Хотел поставить ведро на плитку, но подумал, что ведь все тепло заберет снег, пристроил ведро на полу.
У книжных стеллажей он перекосил плечи от досады, от того, что должен был сейчас совершать, потом зажмурился и на ощупь выбрал несколько книг. Вернулся в кухню. Он понимал, что с каждой книгой уходит часть его самого, сгорает в безмозглом прожорливом пламени буржуйки и ощутил в себе ненависть к огню, к тому, что человеческому телу нужно тепло; очнулся он от трезвой мысли, как от толчка: а будут ли нужны ему книги, если его не станет в живых?
Легкие у него были сперты от холода, в горле образовалась налипь, сердца совсем не было слышно, словно его не существовало.
В мире живут некие силы, течения, воды, что ли, которые прибивают одного человека к другому, заставляют людей держаться вместе, пережидать лихое время, коротать вечера и дни, сообща добывать хлеб, одежду и топливо, постоянно чувствовать локоть и ощущать тепло друг друга. То самое тепло, что поднимается невесть откуда, вызывает нежность и сладкую щемящую боль, заставляет думать не о вчерашнем дне, а о том, который наступит завтра, и что завтра обязательно будет лучше, чем вчера.
Он научался разжигать печушку с одной спички. Даже если засовывал в остывшее нутро какое-нибудь сырое корье, заиндевевшие щепки и обрубки чурбаков — делал это ловко и легко. Нужда заставила — спички надо было экономить. А запалить с одной спички книги Борисову тем более ничего не стоило.
Вскоре на кухне чуть потеплело. Борисов посмотрел на Светлану и улыбнулся.
— Чему вы улыбаетесь? — не выдержала она.
— Тому, что вижу вас… тебя вижу, — ответил он, снова переходя на «ты» — вспомнил собственные слова насчет «ты» и «вы», произнесенные вчера, сморгнул что-то прилипшее к векам.
— Ничего интересного!
— Отчего же. Сегодня ты гораздо интереснее, свежее, наряднее, что ли, чем вчера. — Он понял, что его понесло, поволокло по течению. — Г-господи, да мало ли в каждом из нас сора! — воскликнул Борисов. Сжал губы и прикрыл их ладонью, чтобы больше не говорить.
— Кто знает, способна женщина в блокаду оставаться женщиной? — задумчиво произнесла Светлана.
— Способна, — кивнул Борисов. — В этом ее сила.
— Раньше считали: сила женщины — в слабости, — сказала Светлана, вздохнула. — Есть хочу!
— У меня лапша мясная заготовлена, самая настоящая лапша, — засуетился Борисов, с трудом оторвался oт печушки.
— Какая лапша? — поинтересовалась Светлана, лицо ее оживилось: лапша, дымящаяся домашняя лапша, заправленная грибами и мелко нарубленным мясом либо куриными потрошками, — это довоенная роскошь, оставшаяся во вчерашнем дне.
— Двое суток уже вымачиваю, — бодро произнес Борисов, из небольшого, лаково темневшего на стене подвесного шкафчика достал алюминиевую миску, накрытую эмалированной крышкой, приподнял крышку. — Вот.
В желтовато-мутной воде плавали длинные, червячно изогнутые полоски сыромятном кожи.
— Лапша, — слабо улыбнулась Светлана, сделала неуверенное движение рукой.
— Сейчас мы ее сварим и подрубаем, — бодро произнес Борисов.
— Слово какое: «подрубаем»!
— Из моего военно-революционного детства.
— Бедный русский язык, исковерканный и изжеванный!
— Все, что было, — забудем, — сказал Борисов. По его лицу не было понятно, нравится ему этот разговор или нет.
— Никогда!
— Есть пословица: сел на лошадь — землю забыл, слез с лошади — лошадь забыл. Блокаду надо забыть, голод, холод — все надо забыть. Прошлое надо забыть.
— У каждого цвета свой запах. Все оставляет след — холод и голод, железо, пуля — ничего не проходит бесследно.
— Пуля! — Борисов невольно хмыкнул.
— Даже боль, которая была причинена в детстве, и та оставляет след. Разрезанный палец, заноза, всадившаяся в пятку, ссадина.
— Детство — вообще-то государство, которым невозможно управлять. — Борисов слил воду из миски в раковину, та глухо забулькала в коленчатой, со ржавыми пятнами трубе. Борисов отжал «лапшу» руками.
— Государств, которыми невозможно управлять, много. Но юность! Разве она управляема? Управляема только старость. А иные земли, что нанесены на карту? Многие умные люди просто-напросто не справлялись с ними.
— Говорят, что Петр Первый, остановившись перед гробницей кардинала Ришелье, сказал, что отдал бы кардиналу Ришелье половину своего царства, лишь бы научиться управлять другою.
— Никому не ведомо, говорил он это или нет. Впрочем, все мы любим легенды.
— Но не тем ценен Петр — другим. Хотя бы тем, что заложил наш город.
— На костях.
— На костях заложены все города мира. Исключений практически нет. Это закон.
— Не знаю, не знаю. — Светлана махнула около лица ладонью, движение было вялым. — История — неженская наука. — Она закинула голову назад, обвядшие щеки окрасились в розовину — за окном продолжал метаться пожар.
— Самый лучший день — тот, которым живешь сегодня. — Борисов поставил миску с «лапшой» на подоконник; чтобы сварить ее, нужна была вода, а вода еще не подоспела. — Хорошо, что я нашел кусок сыромятной кожи. Как и почему он оказался у меня — не знаю. Словно бы подарок Божий. — Борисов вздохнул.
— Самая лучшая еда — та, что находится на столе. Особенно если рядом с тарелкой лапши положить сто двадцать пять граммов хлеба — славный симпатичный кирпичик. — Светлана вжалась в пальто и снова запрокинула голову назад, ловя зрачками холодные красноватые отблески.
— Что с тобой? — встревожился Борисов.
— Ничего. От холода совсем себя не чувствую.
— Не знаешь, сколько эту кожу надо варить?
— Никогда не варила. Наверное, чем дольше, тем лучше.
Борисов сел по другою сторону печушки, подышал себе за воротник. Потом взялся за печушку, подкинул в нее еще пару книг, поморщился — ну будто бы самого себя в огонь кидал. Человек вообще слабое существо, идеально сильных, устремленных личностей, сжигающих себя ради достижения цели, нет, в науке они перевелись вместе с несгибаемым Джордано Бруно, и все равно, несмотря ни на что, человек продолжает считать, что он силен, и это упрямство редко доводит его до добра. Борисов вздохнул и неожиданно пришел к мысли, что книг создано гораздо больше, чем человек сможет прочитать. Считается, что средняя продолжительность жизни равна семидесяти годам. Человек же, если будет читать книги беспрерывно, не отводя времени на сон и еду, вряд ли одолеет одну пятидесятую часть художественной литературы, считавшейся в России избранной. А что тогда говорить о документальной литературе, о книгах специальных, дневниках, описаниях природы, трактатах о камнях и животных? Человек просто-напросто будет раздавлен этой горой. Все равно книги было жалко. Помедлив немного, Борисов швырнул в буржуйку еще одну книгу.
— Хорошая книга — и подарок и наказание, — проговорил он.
— Почему?
— Приятно иметь в доме хорошую книгу, с каждой книгой человек приподнимается над собой либо делает попытку приподняться, но каждая книга доказательно бьет человека, вколачивает в голову мысль, насколько он еще несовершенен. Разве приятно ощущать собственное несовершенство? Книга — это гора, а человек — низменность, долина под ней. Мошка и Ростральная колонна. Исходная точка любой науки — невежество. Так было всегда. Ступени от невежества к науке — книги. Книги. Дюма-отец написал двести пятьдесят романов, Бальзак — тоже двести пятьдесят. Лопе де Вега — тысячу семьсот драм, из которых, дай бог, только одна пятнадцатая часть дошла до нас. Это только три писателя. А сколько их еще? Не только первостепенных, а второ-, третье-, четвертьстепенных! Салиасы, Соллогубы и Боборыкины!
— По-моему, звучит несколько кощунственно. — Светлана поежилась.
— Им нужно бессмертие, нам нужно тепло. — Борисов, быстро распахнув дверцу печушки, швырнул в огонь еще одну книгу. — И что больше значит: бессмертие, которое не потрогаешь пальцами, не помнешь, не согреешься, или тепло, способное спасти человека от смерти?
— Тепло тоже не потрогаешь пальцами.
— А вот и формула: и у книг и у тепла — одна цена. И за книги и за тепло человек платит жизнью. Прошу извинить меня — я брюзга. А брюзге всегда кажется, что он прав.
— Вы не брюзга.
— Ну, тогда у этого есть другое название.
— Определения должны быть точны.
— Я астроном, Светлана, а астрономия — не самая точная наука, хотя и считается точной. Но только из-за близости к математике. Но «считается» — это уже не истина, это пол-истины. Ошибка плюс-минус миллион лет и расстояние плюс-минус миллион километров у нас такая ж обычная вещь, как смена времен года.
— Цифры, которые я, например, никогда не смогу понять. — Светлана прикоснулась пальцами к буржуйке, отдернула — эти легкие печушки обладают способностью быстро и сильно нагреваться и так же быстро и сильно остывать. Тепло они не держат. — Да и всякий другой человек не сможет: такие цифры не вмещаются в голове, вмешаются только значки.
— Русский человек всегда действует с размахом. В песне, в гульбе, в драке, в цифрах, даже в философии. — Борисов помолчал немного, облизал губы, ощутил их омертвелую сухость и холод — губы ничего не чувствовали. Поднял голову, посмотрел на ведро, в котором ворочался, пофыркивал тающий снег, расплывался сыро, как-то бестелесно, вздохнул. — Землей пахнет. Снег, когда тает, всегда пахнет землей.
— Скорее бы весна, — тихо отозвалась Светлана.
Борисов кивнул: придет весна — хоть траву можно будет есть, и с водой проще станет.
— Скорее бы! — шевельнулся Борисов. Светлана права: из-за воды в эти лютые морозы столько обессиленных людей отдали богу душу! И кто считает, сколько конкретно?
…Ограждений на Неве нет — убраны либо снесены снарядами, спуски обледенелые, скользкие, на них невозможно удержаться, люди бьются, скатываются вниз, остаются на льду, иногда их спасают моряки с кораблей, до весны впаянных в лед Невы, но и сами моряки — ослабелые, еле ноги передвигают, и их почти нет на кораблях, оставлено всего по нескольку человек для присмотра, команды переведены в пехоту, отправлены на фронт. Лунки в Неве узкие, смерзшиеся, воду надо не ведром черпать, а наливать кружкой, один черпает, остальные стоят и ждут, корчатся под ветром, посматривают на опасный обледенелый спуск, который им предстоит одолеть, и холодные мысли приходят им в голову: одолеют ли? Если повезло в один раз, то повезет ли в другой?
Борисов пошел как-то на Неву с санками, прикрутил к ним веревкой ведро, сверху приладил крышку от кастрюли: крышка проваливалась в ведро, поэтому Борисов закрепил ее с одной стороны за дужку, а с другой оставил свободную бечевку, болтающуюся, как ботиночный шнурок, чтобы завязывать.
На голый береговой стес взобраться с санками он тогда не смог, все опрокидывался и вместе с грузом уходил вниз. Когда понял, что не вывезет, сел на лед и, раскачиваясь из стороны в сторону, заплакал. Он не знал, что делать — и санки с водой бросать было нельзя, и не бросать нельзя: с водой наверх он не выкарабкается.
С серого приземистого судна, тесно прижавшегося к берегу, спустился пожилой черноусый моряк в щеголеватых широких клешах, подошел к Борисову, кинул двухметровый веревочный конец.
— Вот что тебе надо, браток!
Борисов отер кулаками глаза: а к чему, собственно, веревка? Оказалось, все очень просто — надо было привязать веревку к передку санок, выбраться самому наверх, а потом веревкой вытянуть санки. Борисов даже забыл поблагодарить моряка за подсказку.
Как-то Борисов по дороге угодил под бомбежку — завыли, взрезая ноющими звуками небо, сирены, часто, с задавленным булькающим стуком захлопали зенитки, где-то coвсем рядом заработал, полосуя строчками облака, счетверенный пулемет. Борисов, оставив санки, нырнул в какой-то промерзлый темный подвал. Слабая это защита — непрочный подвальный свод, и все-таки защита, в подвале спокойнее, чем на открытом месте, человек перестает раздваиваться в собственных глазах — не то ведь раньше Борисов, попадая под бомбежку, отмечал — ну будто бы он опускался в мокрый шевелящимся туман, от тела отслаивались руки, ноги, сам он уменьшался до карикатурных размеров, растворялся в зыбком ядовитом мареве, ощущал невольный испуг, потом под очередные глухие удары руки-ноги приклеивались вновь, а в ушах начинал заливаться назойливый писклявоголосый колокольчик, так не соответствующий бухающим ударам, выворачивающим землю наизнанку.
Где-то рядом здорово грохнуло, землю встряхнуло, из подвального свода полетела перемерзлая каменная крошка, запахло кислым, словно по неровному полу рассыпали квашеную капусту, глаза залепило. Он поглядел на подрагивающее туманное марево, начал у себя на глазах раздваиваться, подумал, что в этом раздвоении он хоть и видит себя со стороны, а все-таки остается самим собой, в нем нет того секущего, уничтожающего человека страха, который, бывает, появляется у других под бомбежкой, подминает, сплющивает, превращает в ничто, в плевок — возможно, благодаря раздвоению они сохраняются…
Тряслась, гудела земля, ее подбрасывало, раскачивало из стороны в сторону, словно пьяную, в этом чудовищном грохоте умирали и воскресали люди, но воскресали не все; одни поднимались, другие оставались лежать и никакие усилия не способны были помочь — не отодрать им тело от земной плоти, не занять вертикальное положение — нормальное положение живого человека. Живого, а не мертвого, и что делать, как поступать, когда живое перестает жить, какими слезами, снадобьем каким можно возродить то, что было? Борисов беспокойно прислушивался к грохоту, раздающемуся наверху, раздающемуся совсем рядом, сбоку, где-то внизу, в глуби, но страха не ощущал, и когда бомбежка кончилась, он, кряхтя, отирая рукою глаза, вышел на улицу.
Пахло порохом, кислой капустой, железом, горелым тряпьем, землей, в воздухе неряшливыми клочьями висел желтый рваный дым. Перевернутые санки лежали у входа в подвал. Борисов подхватил их за веревку, потянулся к Неве. Завернул за угол и удивился: посреди улицы лежала целехонькая толстобокая труба. Нигде не помята, нигде не посечена. Борисов прицокнул языком: до чего аккуратно вывернуло ее из гнезда! На краях трубы накипела черная снарядная гарь, свеженькая, слезящаяся. Борисов оглянулся, поискал глазами, откуда эту трубу вывернуло? Ничего не нашел — воронок не было. Посмотрел на крыши домов, подумал о том, что обычные домовые трубы не бывают такими черными, поросшими густой пороховой налипью, такая труба может быть только у завода. Но и заводов поблизости тоже не было. Он посмотрел на Неву, где стояли разрисованные маскировочными пятнами корабли — они были разрисованы вместе с мостовыми, со льдом, чтобы не быть видными сверху, — и поморщился: крейсер, мимо которого он проходил много раз и чей вид уже стал привычным, был срезан ровно наполовину. Даже трубу, и ту с него срубило.
Борисов втянул сквозь сжатые зубы воздух в себя и потащил санки дальше, цепляясь носками обуви за снеговые неровности, сшибая застружины и комки льда… Он шел и думал о том, что лучше бы умереть, чем двигаться дальше, и, сопротивляясь самому себе, несогласно мотал головой: нет, не лучше! Всякий, даже самый малый миг прожитой жизни хорош. В любом положении, в любом состоянии — и в том, когда ты одной ногой завис над пропастью, а вторая вот-вот сорвется, и в том, когда под тобою твердь, дорога светла и безмятежна, а над головою — ни единого облачка.
Существует ли связь между человеком и временем, может ли человек по своему желанию убыстрить или утишить его бег? Тысячи людей, к которым обратились когда-то с этим вопросом, ответили «нет»; лишь Толстой ответил «да» и доказал это с помощью простейшего арифметического счета. Ну, взять, например, какого-нибудь маленького, еще только начинающего свою жизнь человечка. Для него дни тянутся медленно, детство бывает огромным, для шестилетнего бутуза один прожитый год — это одна шестая часть его жизни, а для шестидесятилетнего один год уже одна шестидесятая, вот ведь как — время для шестидесятилетнего имеет совсем другую скорость. А в средние годы время зависает, иногда вообще останавливается, — в минуты боли течет ужасающе медленно, в минуты радости совсем не ощущается, потому радость и бывает так кратка.
— О чем вы думаете? — спросила Светлана.
Борисов медленно выбрался из темного душевного погреба, в котором находился.
— О том, что месяц войны в тысяча девятьсот сорок втором году равен десяти годам войны в тысяча двести сорок втором — в пору Ледового побоища.
— Все меняется — это факт, но не меняются боль и цвет человеческой крови.
— Звериной крови — тоже. Только почему-то понятие «зверь» стало нарицательным, а среди зверей ведь существуют не только злые обжоры, а и те, которые боятся тронуть своего собрата.
— Я думаю о своих детях. — Голос у Светланы обмяк, Борисову показалось, что сейчас он оборвется совсем, но голос не угас. — Каждой ребенок — это был характер. Был у меня Миша Богданов — умный и нервный мальчишка. Отец — семидесятипятилетний профессор, мать — тридцатипятилетний врач, от отца он, наверное, получил склонность к анализу: Миша Богданов всегда вначале думал, а потом что-то делал, в то время, как его ровесники поступали наоборот — вначале что-нибудь творили, а уж потом думали. От матери он взял совершенно иное — вздорность, стремление производить шум. — Светлана говорила и не говорила одновременно, у нее даже губы не шевелились. — Однажды затеялась буча, шум стоял, как… — Она вдруг споткнулась, голос угас. Светлана прижала пальцы к вискам, помяла их. — Г-господи, ведь совсем недавно это было! В июне, перед самой войной. И так давно!
— Закон относительности времени. Он где-то здесь, в воздухе находится.
— А сейчас никого из этих детей нет. — Голова у Светланы дернулась будто от удара, на лбу вспухла поперечная жила.
Борисов попросил:
— Не надо об этом, а? Пожалуйста!
— Никого нет! Ни Миши Богданова, ни Шурика Игнатьева, ни Игорька Гольфельда, ни Сережи Черных… А Миша Богданов, которой в тот раз затеял бучу, выбрался из кучи-малы, встал в сторону и занял этакую позу Наполеона-наблюдателя — вот тут проявилась мама. Как все-таки наши родители сидят в нас.
Борисов подумал, что Наполеон никогда не был наблюдателем, он всю жизнь был участником завоевателем, захватчиком, но Светлану перебивать не стал, — не дело перебивать женщин, ощутил, как в нем что-то начало отходить, под нажимом тепла стала таять ледовая закраина омутца, из-под тонкого прозрачно-черного обреза наружу проступила влага. Борисов вздохнул. Он глядел на посветлевший бок печки, ловил зрачками полоски огня, пробивающиеся в щели, и задавал себе вопрос: кем является для него эта женщина? Еще вчера никем — просто человеком, которого надо было спасти, не женщиной и не мужчиной, а чем-то бестелесным, бесполым, хотя и одушевленным, — а сегодня это женщина, с которой, как ему кажется, он знаком уже много лет, мысль о ней вызывает щемящее ощущение, что-то тревожно-сладкое. Одиночество, в котором он находился последние годы, оказалось разрушенным, и вообще с Борисовым происходило нечто такое, о чем он даже не подозревал.
— Подзываю я Мишу, он покорно подходит. «Миша, скажи мне, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы утихомирить ребят?» Миша оглядел кучу-малу, согласился: «Действительно, Светлана Алексеевна, неинтеллигентно себя ведут». Так и выразился: «неинтеллигентно». Где он слову этому обучился? У отца. Тот взрослый, а этот? Рубашка на нем порвана, на щеке три царапины, две засохли, из третьей сочится кровь, глаза серьезные, задумчивые. «Я, конечно, не педагог, Светлана Алексеевна, — сказал Миша, — но вы их сможете утихомирить взглядом. Смотрите долго-долго, ничего не говорите, а лишь смотрите. Только выдержите эту паузу до конца — и все будет в порядке». Я молча стала наблюдать за ними, и вот ведь — гипноз подействовал: минуты через полторы один вывалился из кучи, потом другой, затем третий, а через пять минут все стихло. — Она скорбно сжала губы. — А сейчас никого нет в живых!
«Что попусту мучить себя, чего надрываться?» — хотел было сказать Борисов, но вместо этого немо запришептывал ртом и, приоткрыв дверь печушки, швырнул в нагретое нутро еще один том, подумал, что сегодня он обязательно должен будет сесть за книгу, которою задумал давным-давно, даже кое-что пробовал сочинять на ходу, «наборматывать» в такт шагам, но одно дело — сочинение на ходу, а другое — за столом, когда остаешься наедине с листом бумаги.
Мучительная вещь — сочинительство. Время стекленеет, исчезает, словно бы всосанное чьим-то ненасытным ртом, пальцы ломит от напряжения, затылок стискивает железный обруч, ноги отекают, тело становится вялым, и наваливается огромная усталость. Бывает, что автор держится у листа бумаги на последнем дыхании, из последней мочи, пыжится и стонет, хрипит, готовый свалиться на землю, но все-таки не валится, скрипит, упирается — и это ощущение проходит, лишь когда книга бывает отправлена в издательство, в набор. У Борисова уже есть две книги, каждая из них выкручивала ему руки, старалась сбить с ног, он сопротивлялся, поскрипывал зубами, маялся… Сейчас от этих книг остались по паре экземпляров, остальное сожжено — свои книги он сжег раньше других.
— Мне надо идти домой, — сказала Светлана.
— Зачем? — спросил Борисов недовольно — Мы скоро пойдем к часам.
— К каким часам?
Борисов выпрямился.
— Часы эти — солнечные, — сказал он.
К часам он пошел один: Светлана не смогла — сил не было: она поднялась с табуретки, покачнулась, прошептала что-то и снова опустилась на табуретку. Щеки у нее сделались белесо-прозрачными, мертвенными.
— Полежи, пожалуйста, — забормотал Борисов заботливо, по-голубиному кротко и тихо, и сам себе удивился, — полежи, отдохни, я один схожу к часам, один…
— Не уходите, пожалуйста, — Светлана схватила Борисова за руку, — я боюсь!
— Не могу, нельзя, — мягким голосом ответил Борисов, — за часами надо следить, подправлять, иначе они… иначе они остановятся.
— Солнечные часы не останавливаются.
— Еще как останавливаются. Это только для тех, кто не знает, не останавливаются, а они, — Борисов тронул пальцами небритый подбородок — в холода он не брился, и у него выросла густая неряшливая щетина, — еще как останавливаться! Не бойся, ничего не бойся!
Он накрыл Светлану ватным одеялом, сверху накинул старое пальто с черным каракулевым воротником — первая серьезная покупка после института, до сих пор навевавшая воспоминания: неужели это все было? — и, увидев, что Светлана уснула, почти беззвучно вышел.
На улице свет был серым, жидким, неба не было, земли, кажется, тоже не было, землю блокадник ощущает тогда лишь, когда над головой прогудит невидимый снаряд и хлопнется о нее — твердь под ногами встряхивается, ползет в сторону, но когда она возвратится назад, а снег, слетевший с деревьев, перестанет пылить, земля пропадет вновь, ощущение того, что она все-таки существует, растворится и возродить его можно будет только новым взрывом.
Но жизнь была, и для этого хватало обычной информации, которую человек получал, выбравшись на улицу, приметы жизни проступали в окнах, заколоченных фанерой и листами железа, кое-где, как у Борисова, даже сохранились стекла, мутновато-серые, облепленные снежной махрой, перетянутые бумажными полосками, из черных труб-глоток, вставленных в форточки, вытекал дым: жильцы грелись после студено-крапивной ночи — холод ошпаривает хуже крапивы, он хуже кипятка. Где-то недалеко, за крутыми серыми отвалами, медленно и устало поскрипывал снегом одинокий ходок. К Неве отправился. Река — за теми вон заснеженными безликими домами, схожими с бараками, — удивительно, как такие дома умудрились появиться в прекрасном барственном Питере. Река скована льдом. Нe видно ее и не слышно.
Как-то еще до войны Борисов вычитал в газетe, что Нева — самая чистая река в мире. И самая короткая. Длина Невы — восемьдесят с чем-то километров, течет от Ладоги в Финский залив. Почему-то эти незначительные и, может, не совсем верные сведения, наполнили борисовское естество гордостью — он словно бы над самим собою воспарил: Борисов любил Неву, ее сильный размеренный бег, прохладную, пахнущую снегом и яблоками воду. Невская вода никогда не бывает соленой — не смешивается с водой Финского залива, не может, море не одолевает реку, слишком сильно невское течение. Любил купаться и ловить рыбу, а то и просто посидеть где-нибудь на берегу, глядя на успокаивающую рябь, сбивая прутинкой блестко-синих стрекоз с тростниковых головок и слушая, как звенит разогретый полуденный воздух. Нева давным-давно вошла в плоть его, поселилась в нем. Но была Нева, и нет ее — исчезла. Ныне надо долбить метровые проруби, чтобы добраться до Невы.
Борисов обогнул грязный, с обледеневшей боковиной отвал снега, подумал, что отвал похож на погребальный холм, мрачный, громоздкий. Вполне возможно, что под этим отвалом действительно кто-нибудь лежит. Ведь сколько народу не доходит до дома, присаживается человек где-нибудь отдохнуть, спиной приваливается к твердой горбушке сугроба, умятого ветром, или к кирпичной кладке ограды и больше не встает — заносит его с головой. Борисов протестующе помотал перед собою рукой — не надо думать об этом. Лучше думать о жизни, не о смерти — легче становится, сердце бьется ровнее, перенесся мыслями в собственный настывший неуютный дом, который никакой буржуйкой не обогреть, как там Светлана? Борисов даже не подозревал, что в нем, как и вообще в полумертвом блокаднике, способно родиться какое-то чувство.
Он помял пальцами щеки, проверяя, ощущают ли они прикосновение — обморозиться очень легко, струпья потом совсем не сходят, как ни лечи, кожа прогнивает до дыр, успокоился — щеки его ощущали прикосновение пальцев.
Он подумал, что сделает все, чтобы не расставаться со Светланой. А если она не захочет этого? В груди у него родилось протестующее сипение, поползло вверх, застряло в глотке. Борисов согнулся, сдерживая боль, послушал, есть в нем сердце или нет. Сердце не колотилось. Может, его вовсе не было в Борисове, сердце заменял какой-нибудь другой орган? Но тогда почему же он ощущает в себе сладкую пустоту, забивающую даже сосущее, затяжное чувство голода?
Под ноги Борисову попал твердый ледовый комок, он споткнулся, сгреб руками воздух, в лицо ему шибануло мерзлой секущей крошкой, вогнало в раскрытый рот — на зубах захрустел снег, — он чуть не упал. Виски стянул испуг: а ведь если бы он упал, то не поднялся бы, замерз на снегу.
Конечно, никто его не заставляет идти к солнечным часам: установил их в сквере, сделал добро — и все, скажите, люди, спасибо! Но он, теряя последние силы, тащит сам себя за шиворот к этим часам, чтобы поправить «стрелку», проверить наклон, сгрести снежный бус с фанеры. Умрешь ведь, Борисов, и никто комок земли в могильную яму на гроб не бросит. Он обтер рот шарфом и пошел дальше. Человек только делом и должен быть жив: исчезнет дело, произойдет обратная эволюция — человек снова превратится в обезьяну и залезет на дерево.
Площадка с часами была затенена — серый, застойный воздух обвис на деревьях, загустел, как варенье, и Борисов отметил, что все-таки не самое лучшее место он нашел для часов. К часам было проложено несколько тропок.
Торжествующее чувство родилось в Борисове — значит, ходят сюда люди! Он-то только одному, двум, трем, от силы десяти людям мог рассказать, что установил солнечные часы, как пользоваться ими, всем рассказать не мог, но по количеству тропок было видно, что сюда ходят многие. Домашние часы — штука ненадежная, в неотапливаемых домах быстро отказывают, пытаются со скрипом провернуть заржавелые стрелки, напрягаются, но все бесполезно.
У солнечных часов есть еще одно преимущество, они тихи, у них отсутствует звук — тот самый докучливый, вызывающий у стариков изжогу стук, о котором говорят, что это самый зловещий звук на земле. Действительно, размеренный нудный клекоток идущих часов напоминает, что ничего вечного, прочного на земле нет, все уязвимо, все поддается прели и будет съедено могильными червями. Хотя острота смерти совершенно перестает ощущаться, когда люди рядом умирают десятками — слишком много смертей, и в этом «слишком» призрак совмещается с явью, смерть перестает быть горем.
Он остановился: ноги перестали двигаться, будто в нем порвался какой-то сцеп, привод, или как еще можно назвать механизм, позволяющий человеку ходить, оттопырил губы и, не ослабляя сжима зубов, всосал в себя воздух, зубы, траченные временем и плохой едой, заломило, Борисов поморщился. В следующий момент он понял, почему остановился, будто подбитый ударом, и стоит теперь, морщится, словно съел комок невкусной, пропитанной железом и порохом земли, — он застрял у того самого места, где вчера подобрал Светлану. Губы у него заломило еще сильнее, будто он выпил обжигающей, прямо с мороза, воды.
Вода, вода, снова вода.
Проруби в Неве черные, дымящиеся, словно в них что-то горит, метутся черти, плещутся водой, и та на лету замерзает, хлопается на лед звенящими стекляшками, люди стоят, пошатываются на нетвердых ногах вокруг проруби, ждут, когда черти угомонятся и можно будет набрать воды.
Г-господи, сколько этой воды он перевозил на себе домой, сколько жил и мышц порвал!
Однажды он не заметил, как потерял крышку — перемерзшую непрочную веревку перекрутило, она лопнула, крышку выбило из ведра, Борисов не услышал, как она вылетела. Приволок санки домой, а воды в ведре лишь на донышке, да и та морозными иглами пошла. Борисов вернулся, прошел до самой проруби, но крышку так и не нашел — видать, ее подобрал тот, кто двигался во втором эшелоне, затаптывал его, Борисова, следы. Эта мелкая потеря вызвала в Борисове некую горестную обиду — зачем же этот, из второго эшелона, протянул руку к чужому?
Воду пришлось возить без крышки. Для этого приходилось еще двадцать дополнительных минут топать валенками у проруби, греметь костями в бесполезной попытке согреться, ожидать, когда ведро схватится льдом и твердый прозрачно-черный блин не даст воде расплескаться. Пока вода схватится — человека промораживает до костей. Когда Борисов понял, что его больше не хватит на походы за водой, он больше не тянет, то прекратил таскать санки на Неву, перешел на снег. Разницы между талой водой и той, что с Невы, он практически не ощущал. Хотя однажды услышал, как больная мать, выйдя из горячечного странного бреда, укоряла сына, подававшего ей кружку: «О-о-ох, опять вода из снега-а!» Видимо, все зависит от капризов организма — вот это организм принимает, а это нет, протестует, отсюда и разница — вода талая, вода речная, вода озерная или минеральная, дающая рыжий железистый осадок, — «Полюстрово».
Он нашел в снегу ровное углубление, схожее с опрокинутой набок лункой птичьего гнезда — сюда Светлана ткнулась головой. Отвернулся — не мог смотреть на это место. Возвратился к солнечным часам.
Каждому из нас бывает дорог человек, которого мы неожиданно спасли, и не важно, при каких обстоятельствах он спасен и от чего именно — от голода, от холода, либо от пули и опасной болезни, — важно, что он спасен, спаситель всегда чувствует ответственность за спасенного. Эта ответственность обязывает, делает спасителя качественно иным, изменяет его.
Отдохнув немного, уняв в себе дрожь, Борисов на четвереньках подполз к фанерной доске, сгреб варежкой сыпучий снежный бус и только взялся рукой за «стрелку», как услышал сзади злой голос.
— Стой!
Повернув голову, увидел, что из-за обледенелого отвала снега — плоского, съехавшего на одну сторону, вышли двое в полушубках, с тяжелыми наганами, сбившими набок простенькие брезентовые ремни. Откуда они взялись, ведь за этим плоским отвалом не то чтобы человеку — крысе невозможно спрягаться? Борисов сглотнул слюну, собравшуюся во рту, проговорил сипло, обдавшись жидким теплым паром:
— Слушаю вас!
— Не ты нас, а мы тебя сейчас будем слушать, — произнес один из них, худой усатый человек с облезлый носом и засиненными от холода и усталости веками — видать, старший.
— Как так?
— А так. Ты чего здесь делаешь?
— Не «ты», а «вы», пожалуйста. На «вы», будьте добры, — чувствуя, что в нем закипает злость, произнес Борисов, отгреб от лица жидкий острекающий пар.
— Ишь ты, — хмыкнул старший, потрогал облезлый нос рукавицей. — А ну-ка, вылазь оттуда?
— Зачем? — спросил Борисов.
Наивный вопрос. Но Борисов не понял этого, как и не заметил, что лицо у старшего зло обузилось, глаза налились сталью, нос заострился.
— Ты почему государственное имущество ломаешь?
— Какое государственное имущество? — Борисов находился по одну сторону неких мерок, позволяющих человеку определить свое место и координаты среди людей в бушующем пространстве, а усатый человек с облезлым носом по другую.
— А что, разве не имущество? — Старший ткнул рукавицей в доску, которую очищал Борисов.
Верно, имущество. Но он эту доску добыл на фабрике Урицкого. К сожалению, забыл уже, как выглядит мастер, давший этот добротный обрезок от своего стола, каково лицо его и голос, помнит только, во что тот был одет — в донельзя извозюканную, блестящую от тавота и масла черную телогрейку. И пахло от него совсем так, как может пахнуть от мастера, командующего набивкой душистого табака в папиросные мундштуки. Фамилии своей мастер не сказал.
— Вы, простите, откуда? — спросил Борисов.
Старший недобро усмехнулся:
— Из милиции. Пошли с нами — разбираться будем!
— Да вы что, товарищи? — искренне изумился Борисов.
Старший переглянулся со своим спутником.
— Ничего, — отрубил он.
— Я эти часы почти каждый день поправляю, иначе они время показывать не будут.
— Как так не будут, когда показывают, а?
— Чтобы вранья не было, обязательно нужна поправка на свет.
— Пошли добром, пока силком не заставили.
— Если не поправлять, то часы врать будут — вперед уйдут или отстанут. Как всякие другие часы.