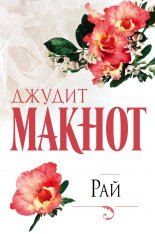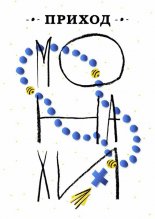Бросок на Прагу (сборник) Поволяев Валерий
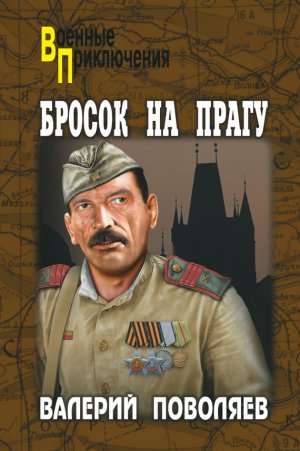
Но Борисов уже не слышал ватника, он согнулся, корчась от внутренней рези и сдавливая пальцами горло, задом попятился с базара — надо было как можно скорее покинуть это рвотное страшное место, чем скорее, тем лучше, и достиг было цели в своем поспешном отступлении, но в последний миг опомнился, задержался — надо было все-таки обменять часы на хлеб.
А вдруг хлеб окажется таким же, что и котлеты? Борисов снова скривился, изнутри к горлу поползла тошнота, он присел, сжался, преграждая путь теплому противному клубку, ползущему к глотке, переждал немного, потом сам себе приказал подняться… Поднялся. Ноги были ватными, Борисов подумал, что они не будут его слушаться — нервное потрясение от новости, которую он узнал, не проходило, — но ноги слушались. Теплый противный клубок вскоре уполз вниз и растворился.
У низенькой, ростом едва больше третьеклассницы, женщины Борисов сторговал хлеб. Он не был мастаком по базарной части, тут, наверное, надо иметь особую хитрость, хватку, в противном случае обдерут, как липку, вывернут карманы, снимут кожу и домой отпустят один костяк, но все-таки в одну вещь верил — в глаза. И ориентировался по глазам.
Он так для себя решил, бредя по рынку, — понравятся глаза человека — значит, человек этот честный. У иного продавца глаза бывают что обмылки, все время норовят ускользнуть в сторону либо растворяются в неком тумане, словно в мутной воде, — ни зрачков, ни роговицы, ни белков, а у этой женщины глаза были крупными, по-ребячьи беззащитными, с какими-то обиженным выражением. Такое выражение бывает у школяра, когда его обманывают.
— Откуда хлеб? — спросил Борисов, вглядываясь в черновато-глинистые ломтики, завернутые в чистую белую тряпицу, которую женщина держала в настывших, по-гусиному красных руках. Почему-то она была без варежек, и Борисов посочувствовал ее незащищенность — на улице было морозно.
— Не бойся, не краденый. — Женщина словно бы угадала мысли Борисова. — Мать умерла, это ее доля.
— А почему на часы меняешь? — спросил Борисов. Он решил поспорить с самим собою. Получалось, что спор этот — от лукавого! — Может, что-нибудь другое надо, не часы? Часы в блокаду — забава!
— Как раз не забава, — вздохнула женщина. — Часы — чтобы на работу не опаздывать. Если опоздаю — пойду под суд.
— Я-ясно-о, — протянул Борисов. В ушах у него возник голодный звон, на хлеб невозможно было смотреть.
— У нас в цеху трое уже попали под суд, — продолжила сухим деловым тоном женщина, — энкавэдэшник на заводе такой, что мать родную не пожалеет. А начальник цеха дисциплину блюдет, за малейшую провинность — к энкавэдэшнику. Звери работают на заводе! Боюсь я опаздывать! А в цеху ночевать нельзя — в шею гонят! Вот… Все вам рассказала, — женщина усмехнулась, — выложилась, как на суде.
Все-таки странные нравы царят на базаре, и люди здесь странные. Хотя бы та же розовощекая страшная старуха, торгующая котлетами из человечины… Или интеллигентный человек в каракулевой пирожке, меняющий тонкие, будто бумага, ломтики сыра на золото. Нормальных людей здесь мало, но эта женщина, как почувствовал Борисов, из нормальных, обманывать она не будет. Борисов достал из кармана теплую серебряную луковицу, щелкнул крышкой и с тихой грустью посмотрел на циферблат — не по чему уже будет поправлять солнечные часы.
Молча отдал луковицу женщине, взял у нее хлеб.
Двести пятьдесят граммов хлеба, полученных у женщины, он сунул за пазуху.
Ленинградский холод — особый, он круче, чем, допустим, холод Новосибирска или Орла, иногда при температуре минус пять — всего минус пять — человек промерзает до костей, трясется, словно в падучей — пятиградусный холод пробивает, как тридцатиградусный, насквозь, и кажется иному бедолаге, что тепла как такового вообще не существует — было оно когда-то в природе, теперь все, кончились его запасы, остался только пронизывающий холод.
Это все из-за близости Балтийского моря. Из-за моря воздух в Питере бывает сырым, противным — проникает сквозь одежду, достает до костей. Но Борисову сейчас было не так холодно, как пять минут назад, — его согревал хлеб. И почувствовал он себя лучше, откуда-то взялись силы, ощущение голода ослабло, хотя, наоборот, должно было усилиться: ведь за пазухой находился хлеб, дух его щекотал ноздри, дразнил, ничего не стоило достать его, надкусить край, но Борисов держался. Ему казалось, что он возвращается широким поспешным шагом победителя, идет вольно, а на самом деле он едва-едва плелся.
Один переулок, второй, просторная улица, занесенная серым снегом, снова проулок — и тяжелый гуд в голове; ноги, которые он не чувствует — в один недобрый миг обязательно подведут его, как все это знакомо! — стали подчиняться хуже. Ему почудилось, будто он ощущает, чем пахнут стволы деревьев, уродливо-незнакомыми кривыми корягами вылезающие из сугробов, — деревья кренились набок, двоились, троились. Борисов вытирал слезы, выбитые ветром, но деревья от этого не переставали растекаться по воздуху.
Стволы пахли терпкими сосновыми шишками — знаете, как терпко и остро пахнет молодой хвойный подлесок, полный звона и смоляного аромата? — почками, еще чем-то, вызывающим оттепель в висках, — это был запах жизни. Еще вчера деревья так не пахли, а сегодня пахнут.
— Неужто скоро весна? — недоверчиво прошептал Борисов, придя домой невольно ульбнулся — до весны еще далеко, но звук ее уже действительно слышен.
И Светлана тоже почувствовала весну, отозвалась чуть слышно:
— Что-то в природе изменилось. Отпустило немного…
Борисов обрадованно выдернул из-за пазухи горбушку, завернутую в тряпицу, сунул Светлане в руки.
Та сжала хлеб пальцами, притянула к лицу. Проговорила едва внятно, в себя:
— Нет ничего лучше запаха хлеба…
Буржуйка прогорела, вода в котелке покрылась льдом. Надо было где-то снова доставать топливо. Но где? Борисов пошел по квартирам подъезда — все равно в доме уже никто не живет. В одной квартире было пусто, подчищено все вплоть до плинтусов, в другой тоже пусто, выломлен даже паркет, а в третьей Борисову повезло — на кухне горкой было сложено топливо — покрытые густые инеем обломки какой-то мебели, мелко поколотые, расщепленные. Борисов притащил их в Светланину квартиру, сунул несколько обломков в буржуйку, попытался разжечь с одной спички, как это делал у себя: спички ведь — тот же хлеб, но, видать, эту мебель не из дерева делали, а из камня, обломки были тяжелые, и запалить их с одной спички даже сам бог огня не смог бы.
Эта мебель — бывшая мебель — была сделана из дуба. Борисов тратил спички одну за другой и — странное дело, не чувствовал ни злости, ни досады. В другой раз он бы выматерил себя, хватанул бы кулаком по краю стола либо по подоконнику, а тут нет — ощущение света и весны, которое родилось в нем, не проходило. А раз так, то, значит, все должно было кончиться благополучно.
Он заставил-таки загореться тяжелые дубовые обрубки…
Жить стало чуть легче — брезжила весна, а с нею и избавление от холодов, от серой зимней стылости и, хотите верьте, хотите нет, даже от беды. Хотя кто способен уберечься от беды? И все равно сделалось ясно, что холода уже не добьют их. Голод, он может добить, снарядный осколок может, бомба тоже может, а вот холод уже нет.
Борисов продолжал работать над книгой. Хотя кому она была нужна, книга эта, Борисов не знал. В часть к моряку он отправил письмо — Борисова беспокоило, что тот долго не появляется в Питере — не случилось ли какой беды?
Как-то Борисов пошел проверить солнечные часы, «стрелки подвести» — заботу о часах он не снимал с себя, не хотел снимать, ходил к часам, как солдат на вахту, чистил площадку, менял наклон шпенька на деревянной доске, и хотя сверять «стрелки» было не с чем — поправлял шпенек, пользуясь простым арифметическим расчетом, каждый раз удивлялся тому, что доска еще не украдена, не пущена на растопку, потом прощально стоял у часов, будто в карауле, и отбывал домой.
В этот раз пришел — смотрит, у часов мнет унтами снег военный в белом полушубке и барашковой шапке, украшенной новой, поблескивающей эмалью звездочкой. На боку у военного громоздилась толстая брезентовая сумка из-под противогаза, у Борисова такая сумка тоже была, но он ее сжег в буржуйке. В каком звании, в какой должности был этот человек — не разобрать: петлицы со знаками различия военные на полушубках не носили. Шапка и полушубок были обычные, их имели многие командиры, а вот унты такие были положены только летчикам.
Выходит, человек этот служил в авиации. И скорее всего, летал на Большую землю — цвет лица у него был неблокадным. Борисов сглотнул слюну и постарался отвлечься от этого человека — тот был очень благополучным. До черной зависти благополучным. Что-то обиженное, горькое возникло в Борисове, он нагнулся над доской, рукавицей соскреб с нее липкую изморозь. Перед глазами заскакали, зарезвились алые мушки. Никому не ведомо, что будет завтра, кто умрет, а кто останется жить — все люди ходят под Богом, а если не под Богом, то под своим взводным либо ротным командиром, и у всех собственная судьба, которая, как и жизнь — одна. И у этого сытого военного — тоже.
— Эй, де-ед! — неожиданно услышал он крик.
«Ну вот, еще и деда какого-то нелегкая принесла, — недовольно подумал Борисов, обрезал себя, — дедов в Питере осталось — раз-два и обчелся, всех выбила блокада, чего быть недовольным? Их хранить, лелеять надо. Дышать, оберегать…»
— Это ты, дед, часы построил? — снова раздался возглас.
Борисов вздрогнул: выходит, «дед» — это он? Приподнялся над доской, посмотрел на румяного военного.
— Я!
От военного пахло табаком и водкой. Еще здоровьем, если здоровье может иметь запах. И немного — одеколоном. Совсем немного. Военный стянул с руки меховую перчатку, забрался в разбухшую противогазную сумку, достал буханку хлеба. Отломил половину, протянул Борисову.
— Держи!
— Зачем? — спросил Борисов слабо.
— Странный вопрос. Гонорар за солнечные часы!
— Спасибо. — Борисов взял хлеб. Полбуханки хлеба стоили ныне на рынке двое часов. — Спасибо… — Борисов втянул в себя хлебный дух.
Ноздри слиплись, голова пошла кругом.
— Извини меня, товарищ, — тем временем поправился военный, — ты, оказывается, вовсе не дед.
— В общем-то да, — признался Борисов.
— Блокада-а, — протянул военный горестно, как-то плаксиво, — проклятая война.
— Войн непроклятых не бывает. Всякую войну обязательно кто-нибудь проклинает.
— Ты когда еще здесь будешь? — спросил военный, вгляделся в фанерку, определяя, сколько сейчас времени. От деревянного шпенька падала короткая, едва приметная тень.
— Почти каждый день. Завтра буду снова, — ответил Борисов.
— Надо же, какая простая и мудрая штука — солнечные часы! — Военный покачал головой.
— Ничего мудрого в них нет!
Откуда-то с залива принесся ветер, приволок хвост снеговой крупы, морской сырости, которую не брал даже мороз.
Военный на ветер не обратил внимания, для него все эти перемещения воздуха, насыщенного морской мокретью и мелким клейким снегом, существовали только в одной ипостаси — помогает ветер взлетать или нет: против ветра взлетать, например, сподручно, по ветру сподручнее садиться. А может, это и не так, Борисов не был в воздухоплавании специалистом. Борисова ветер просадил насквозь.
— В следующий вторник я снова сюда приду, — сказал военный, пожевал губами, что-то соображая, спросил: — В котором часу будешь здесь?
— Да в этот же час. Я всегда прихожу в одно и то же время. Иначе часы не скорректировать.
— Все понятно. — Военный приложил руку к барашковой шапке. — До следующего вторника!
Борисов шел домой и думал о подарке. Полбуханки черняшки… Черняшка. Разве можно так звать хлеб? Черняшка — это что-то сухое, пахнущее подвалом и подворотней, приблатненными компаниями, а хлеб — это то самое, выше которого в Питере может быть только жизнь.
Да, дорогой подарок сделал военный. А разве морячок делал дешевые подарки? Подарки вообще не могут быть дорогими или дешевыми. Всякий подарок дорог, даже самый пустячный. А моряк сделал Борисову и Светлане подарок, дороже которого быть не может, — подарил им жизнь. Эх, моряк, моряк! Что же так долго от тебя нет вестей?
— Богато по нынешним временам, — сказала Светлана, когда он вытащил из-за пазухи хлеб, голос ее заставил Борисова встревожиться.
— Что-то произошло? — спросил он.
— Нет.
— О чем ты думаешь?
— О детях. Тех детях, которых уже нет. Помнишь, я тебе показывала детский рисунок? Дым, дым и овал посреди дыма?
— Конечно, помню.
— Самое правдивое изображение войны из всех, которые я знаю. Г-господи, неужели никого из детей моей группы уже нет в живых? — Светлана неверяще прижала руки к щекам.
— Никого нет, — жестко ответил Борисов. Жесткость эта была необходима, она отрезвляет человека, словно боль, и вообще это особой род жесткости, нужный, как лекарство. Это жестокость милосердия. — И с этим надо смириться, — сказал Борисов.
— Во время осенних обстрелов, когда в городе еще было электричество и ходили трамваи, один снаряд попал в трамвай, просек его навылет и всадился в угол дома. Осколки градом сыпанули, порубили людей. Из страшного, дырявого, словно решето, вагона вытащили белокурую голубоглазую девочку с отрубленной рукой, положили на носилки. Девочка все время поднималась, пытаясь соскочить с носилок, и кричала тоненьким, искаженным болью голоском: «Принесите мне мою руку, она осталась в трамвае. Пожалуйста, принесите мне мою руку!» У тех, кто слышал ее крик, на глазах стояли слезы, каждый готов был отдать свою руку девочке, лишь бы она не кричала.
— Пора обедать, — Борисов погладил Светлану по плечу, — не расстраивайся! Детей не вернуть, а себя, если каждый день надрываться, потерять можно.
— Я не расстраиваюсь, я это… — Светлана, подняв руку, вяло пошевелила пальцами, — это совсем другое. — Она вздохнула.
— Писем не было? — Разговор нужно было переводить в другое русло: к чему попусту распластывать себе душу? Не надо силком давить кровь из раны, иначе она никогда не заживет.
— Нет. — Светлана также понимала то, что понимал Борисов.
— Что же случилось с нашим моряком?
— Если бы знать. Может, погадать на картах? — предложила Светлана.
— А ты умеешь?
— В детстве ворожила. Очень ловко получалось. Не хуже, чем у цыганок. А потом меня чуть не выгнали из школы, и я перестала гадать.
— Настоящее пионерское прошлое! — похвалил Борисов. — Только ворожить, наверное, не надо: и без ворожбы чувствую, что от моряка должно прийти письмо. Завтра. В крайнем случае — послезавтра. Или сам приедет.
Борисов отправил моряку уже два письма — на номер его полевой почты. Он почему-то был уверен, что письмо от моряка придет очень скоро, но оно не пришло. Не пришло ни через день, ни через два дня, ни несколько дней спустя. Не пришло и через неделю…
Во вторник Борисов, как обычно, отправился к солнечным часам. Тропка за два дня, пока он не был, замусорилась, кое-где ее засыпал серый снег, на которой не было никаких следов, ну хоть бы вдавлина от чьей-нибудь подошвы осталась, ан нет, и эта безжизненность оставляла гнетущее впечатление. Глаза у Борисова слипались, от усталости и голода хотелось сесть, притиснуться спиной к сугробу и переждать малость, скопить сил для дальнейшего движения, все в нем протестовало против ходьбы, требовало остановиться, сесть, но он упрямо разгребал ногами снежную кашу, сшибал заструги, думал о том, что многие дома стоят разбитые, брошенные и неизвестно еще, будут жить в них люди или нет. Борисов сжал зубы: конечно, будут!
Почему цвет блокады — серый? Все такое серое и тяжелое. И прилипающее к земле небо, и облака — плотно сбитые колобки, пропитанные порохом и дымом, и облупившиеся, с вылезшей из-под штукатурки кирпичной кладкой стены домов, и крутые, стиснутые морозом и оттого, кажется, ставшие каменными сугробы, и угрюмые, сонные, а может быть, умершие деревья, и свежая снеговая крупка, начавшая медленно сыпаться с небес… Неужели в природе нет никакого другого цвета, неужто все умерло?
Хоть и не была тропа испятнана следами, а военный уже дожидался его у солнечных часов. Правда, от прежнего здоровья и праздничности ничего не осталось — лицо было озабоченным, постаревшим, две глубокие складки пересекли лоб поперек, и щеки уже были не розовыми, а желтоватыми, с плохо срезанными клочками волос — сразу видно, брился человек впопыхах, подглазья набрякли болезненной синью. Борисов обрадовался ему, как родному.
— Спасибо за хлеб, что вы дали в прошлый раз, а я толком, кажется, вас и не поблагодарил.
— А-а… — Военный махнул рукой, он, похоже, до конца не представлял, что такое хлеб для блокадника, проговорил, глядя в сторону: — У меня напарника сбили.
Борисов поежился: он думал, что этот военный летал на транспортном самолете, а что такое транспортный самолет? Большая масса — чем крупнее масса, тем больше уязвимость, попасть легче, — слабенькое вооружение. Плывет эта громадина по небу, хорошо видная со всех сторон, открытая, куда хочешь, туда и бей, и если нет прикрытия истребителей — совсем беззащитная.
Но насколько разумел Борисов, хотя в военном деле он не был специалистом, у летчиков-транспортников не бывает напарников, напарники есть только у истребителей, где ведомый прикрывает ведущего — истребители ходят только парами. Значит, этот военный — летчик-истребитель.
— Нет больше моего напарника. — Военный стиснул зубы, глаза его сжались, как перед дракой. — Нет больше Витьки Сидоренко.
Надо было бы Борисову сказать какие-то утешающие слова, но что значат слова его по сравнению с тем, что человека уже нет? Воздух, не имеющий оболочки, угасший звук. Он нагнулся, молча скребнул рукавицей по фанере.
— Ладно, — стиснутым сквозь зубы голосом проговорил военный, — того, что было, уже не вернешь. И с тех, кто был… — похлопал рукою по противогазной сумке, что-то проверяя, вздохнул. — Ладно! Жить все равно надо. И воевать надо. На подлете к Ленинграду сбили Витьку. Я в облака ушел, затерялся, а он под очередь мессера угодил. — Военный расстегнул сумку, достал большой, не менее килограмма весом будильник. Борисов видел такие — в Москве на заводе выпускают, на коленке либо на слесарном верстаке молотком выколачивают, на ногу упадет — больницы не миновать, такой агрегат любую кость раздробить может. — Солнечные часы солнечными часами, а вот — часы земные. Починить сможешь? — Военный беззвучно переместился к Борисову.
— Нет, — качнул головой Борисов, пробормотал виновато: — Я же астроном.
— Жаль, — военный вздохнул, — очень жаль. Я думал, что ты все можешь. Очень простая штука — будильник!
— Будильники не могу. Не понимаю в них ничего.
— Еще раз жаль! — Военный сунул часы в сумку, достал буханку хлеба. Дух от хлеба шел острый, вышибал слюну.
— Держи, астроном. — Военный протянул хлеб Борисову. — Гонорар за несостоявшуюся починку.
— Да вы что… зачем… не надо, — замялся Борисов, частя и съедая слова.
— Держи, держи!
— Может, действительно, не надо?
— Что же ты, астроном, ведешь себя как малый ребенок? Дают — бери, бьют — беги. Такую пословицу знаешь?
— Естественно.
— Вот и действуй согласно уставу. Прощай. — Военный сунул Борисову руку, круто развернулся и, раскачиваясь из стороны в сторону телом, оскользаясь на наледях, ушел.
Борисов, глядя ему вслед, пока военный не скрылся, и очень жалел, что не умеет чинить будильники. Думал, что военный обернется, но военный не обернулся. Борисов откусил от буханки кусок, медленно разжевал. Посмотрел на отвалы сугробов, в прорезь, где скрылся военный, чьего имени он так и не узнал.
Из блокадного Питера исчезла вся живность: кошки, собаки, птицы. Всегда на деревьях каркало, дралось, орало возмущенными голосами какое-нибудь воронье — галки, сороки, снегири, собственно вороны, разный летающий люд, воробьев же было что гороха — небо могли закрыть, а сейчас тихо, пусто, ни галок, ни воробьев, все куда-то откочевали. То ли в лесах попрятались, то ли подальше от фронтового грохота, к Уральскому хребту передвинулись, отсутствие их рождало ощущение какой-то особой пустоты, беды, горечи.
Но и полая глухая тишь тоже длилась недолго: начался обстрел. Снаряды проносились над головой Борисова, каждый имел свой звук — одни шли со всхлипами, повизгивая жалобно, другие — по-хозяйски покрякивая, третьи с ровным гудом, четвертые куражливо похохатывая, пятые с ревом — Борисов приседал, хотя знал — приседать нечего, это не его снаряды.
И куда ты подевалась, тишина? Хоть и страшная ты была, неживая, ни единого движения, а все-таки желанная: тишина есть тишина, никакие звуки боя с ней не способны сравниться… Борисову надоело приседать, он приказал себе не обращать внимания на снаряды, спокойно очистил дощечку.
Почему же все-таки нет писем от моряка? Ну хотя бы знак какой-нибудь подал, что ли! Нет, молчит он…
Весна входила в свои права робко, она все оглядывалась на зиму, останавливалась, уступала место липким мокрым метелям, потом, словно бы опомнившись, по-собачьи спешно слизывала принесенный снег, раздвигала облака, бросала на землю лучистый взгляд, затем вновь смущенно закрывала глаза, и на земле опять делалось хмуро.
Но не век же весне быть робкой, набрала силу и она, проснувшиеся деревья ожили, завстряхивали ветвями, словно кистями рук, из лесов прилетели птицы. Вернулось-таки воронье! Не обращая внимания на стрельбу и копоть пожаров, птицы начали обустраиваться, исследовать скверы, парки, обихаживать свое жилье.
Снег быстро проседал, таял, дырявился, будто старый сыр, — он был сплошь в сусличьих норах, только у деревьев, у самых комлей снег еще задерживался, оттягивал свою гибель, облепленный разным сором, сохлой травой, отшелушившейся кожурой, щепками — словно бы живой, он старался все натянуть на себя, защититься от солнца, но все равно из-под снеговых груд сочились тихие прозрачные слезы.
Люди вышли на улицы — чистить сугробы, иначе город мог заболеть — в тяжелую зиму питерцы падали и не поднимались, их засыпало, и они остались лежать в этих сугробах до весны. Тела эти сейчас надо было выбирать из снега, не выбери их — худо будет, трупы начнут разлагаться, и по питерским улицам пойдет гулять зараза.
Все, кто был жив, поспешили выбраться из домов на улицы, землистые лица, проваленные рты, длинные, источенные голодом и болезнью зубы, желтоватыми костяными черенками проглядывающие из-под губ — губы вообще не могли прикрыть их, тусклые глаза, восковая кожа и едва приметная, полуслепая радость, возникающая в этих глазах, — радовались люди, что остались живы.
Потом к радости примешалось и удивление: в сорок втором году в Питер прилетели гнездиться даже луговые птицы — природа хотела хоть чем-то обогреть, поддерживать изголодавшихся ослабших людей, вселить в них бодрость — и вот даже те птицы, которые в жизни не знали города, и то прилетели сюда, чтобы свить гнездо и вывести детишек. Пеночки, коростели, кулики, перепелки — кто только не появился в Ленинграде! Птицы променяли свои луга и болота на городской грохот, взрывы и огонь, спокойствие променяли на беспокойство.
Однажды Борисов вышел на Большой проспект — очищенный, незнакомый, темный, в выковыринах и наспех засыпанных воронках, — на узком пространстве, в каком-нибудь проулке или тупичке, в теснине среди домов следы войны не так остро замечались, если, конечно, не было прямых попаданий, а вот там, где места имелось побольше, всюду были видны следы — наспех заделанные воронки с неутрамбованными камнями, либо перебитые пополам деревья, или щели, из которых торчали чьи-то неподвижные босые ноги. А сколько проломов в стенах, выбитых окон и продавленных крыш? Когда места мало, взгляд фокусируется внутрь, человек смотрит в себя и никого, кроме себя, не видит, а когда места много — каждая царапина заметна.
С Невы тянуло сыростью. Весенняя сырость, как и зимняя, пробирала насквозь — до костей, вызывала ознобное болезненное чувство, хотя Борисов был здоров и мог ходить. А полупроваленный рот, окостлявевшее лицо и запавшие глаза не в счет: пока человек ходит — он живет, ощущает себя самого, землю свою, дышит, а перестает ходить — все в нем отказывает. Такой человек уже не живет. Борисов шел по проспекту, ноги его двигались еле-еле, отекшие, вялые, они плохо слушались хозяина, но Борисов чувствовал, что боль и тяжесть скоро уступят, на смену им придет облегчение; в голове было гулко, внутри пусто, но боли не было — только слабость. Вечернее небо было низким, глухим, кажется, еще немного, и оно развернется, и на землю посыплются искры: небо пахло порохом.
Где-то далеко, спрятанный облаками, гудел самолет. Звук был назойливым, свербящий. Борисов на ходу подергивал плечами, словно хотел отбиться от звука, как от пчелы: чей это был самолет, наш или не наш — непонятно. То ли разведчик, то ли бомбардировщик, то ли заплутавший транспортник, под завязку набитый грузом, — поди разбери. Он вспомнил румянощекого военного, приносившего ему хлеб. Того военного он потом ни разу не видел, сколько не оглядывался по сторонам, очищая и поправляя солнечные часы. Иногда он останавливал взгляд на какой-нибудь подходящей фигуре, медленно, будто бы во сне проплывающей по асфальту — люди по весне передвигались еле-еле, хрипели, спотыкались, падали, разгребали руками пространство перед собой: голод брал свое, и те, кто выжил, перестали ощущать себя, внутри их все высыхало, тело делалось невесомым, — и отводил глаза в сторону — военные люди ходили по-другому. Так того военного он и не встретил. Вполне возможно, что тот погиб. Он вспомнил горькие сиплые слова его про напарника, опустошенный взгляд, скошенный в сторону, тоску, проступившую на лице.
А может, он свою собственную гибель чувствовал и потому был так тосклив и опустошен? Военные люди всегда чувствуют свою смерть — стоит только ей приблизиться, дохнуть, как мгновенно скисают…
Борисов остановился. Неподалеку на облупленной железной скамейке с вкопанными в землю ножками сидел отечный грузный мужчина и, странно вытянув голову вверх, шевелил губами, с хрипом всасывал в себя воздух, чмокал, сплевывал что-то, снова всасывал воздух.
Люди по-разному реагируют на голод. Одни, как Борисов, высыхают, делаются невесомыми, передвигаются в пространстве, как тени, другие отекают, полнеют — иной человек становится похожим на бурдюк, по самое горлышко налитый водой, скребется по земле еле-еле, каждый бугорок обходит, себя расплескать боится. Мужчина, сидевший на скамейке, относился к этой категории — он опух от голода.
Почувствовав, что дальше идти больше не может, да и присесть негде — скамеек нет, Борисов опустился на скамью рядом с опухшим мужчиной, втянул сквозь зубы воздух, прогнал его в глотку, потом также сквозь зубы выпустил. Повернулся к отекшему соседу: интересно, чем же тот занят?
А мужчина все тянул и тянул голову вверх, пришлепывал губами, чмокал, терся лицом о тяжелую ветку акации, опустившуюся прямо к скамейке. Руки у него были безвольно опущены. Борисов увидел, что ветка акации покрыта мелкими бледными цветами. Цветы налипли на голую корку, будто каша. Борисов никогда не видел, чтобы акация так богато цвела — всегда цвела умеренно, в самый раз, иногда вообще бедно, иные деревья совсем пустыми оставались, — а сейчас на нее словно просветление нашло. Мужчина зацепил губами сразу несколько цветков, по-коровьи дернул головой, оборвал их, медленно разжевал. Промычал про себя что-то невразумительное, жалобное, смачно сглотнул и снова потянулся губами к ветке.
Выходит, в этих бледных полупрозрачных цветках есть какой-то поддерживающий сок, сладкая влага — недаром рыхлый отечный мужчина их ест. А может, он лечится? Да какой там лечится? Это обычная еда, самая обычная еда, из которой где-то на юге, говорят, делают салаты и перед супом подают на стол. Веток над борисовской головой, как над головой отечного мужчины, не было — низко ветвь опадала только в одном месте, поэтому Борисов аккуратно, стараясь не растрясти себя, не завалиться, взобрался с ногами на скамейку, сел на спинку, зацепился рукою за ветку и потянул ее к себе. Он думал, что ветка тугая, будет сопротивляться, но она послушно подалась к нему.
Посмотрел сквозь цветы на мужчину — тот не обращал на неожиданного соседа никакого внимания, словно Борисова не было вообще, подумал, что сам он обязательно застеснялся бы, если б кто-то начал любопытно коситься на него, но у отечного мужчины свет в глазах словно бы померк, кроме цветов, он ничего не видел, зацепил ртом несколько полураскрытых мелких бутончиков и медленно разжевал их.
Борисов последовал его примеру. Вкус у цветков был сладковатым, нежным, травянистым.
Цветы акации Борисову понравились, он наелся сам, нарвал Светлане — набил карманы пиджака, брюк, сунул несколько горстей за рубашку, поежился от колюче-острекающих холодных прикосновений; перед тем как уйти, поглядел на опухшего голодного мужчину. Тот тоже наелся и сидел, опустив бескостные слабые руки, улыбался чему-то отрешенно и пусто, помыкивал про себя странную бессловесную песенку. Никаких попыток подняться он не делал. Борисову стало не по себе — худо, когда человек теряет способность сопротивляться, с этой способностью уходит и всякое желание жить, остается только одно… Борисов почувствовал, как у него задергался правый глаз — сейчас он боялся даже в мыслях обозначить это «одно» конкретным словом.
— Может, вам подсобить? — проговорил он, глядя на отекшего мужчину.
Тот никак не отреагировал на предложение Борисова, даже не шевельнулся, лишь частое дыхание с хрипом выбивалось из его открытого рта.
— Не надо вам помочь? — наклонившись над мужчиной, в полный голос прокричал Борисов.
В зрачках у него зажглась далекая, едва видимая коптюшечка, мужчина попытался закрыть рот, но все безуспешно, к языку прилипли нежные акациевые лепестки, легкие коричневые кожурки от почек, еще что-то, мужчина отрицательно качнул головой: не надо, — он услышал слова Борисова.
— Сами сумеете подняться?
Мужчина смежил веки: Борисов помотал у его лица ладонью и ушел. Вечерний сумрак никак не хотел сгущаться — как был жидким, прозрачным, слабым, так слабым и остался. Свежие воронки, забитые камнями, недобро белели — камни в вечернем сумраке походили на крупные дробленые кости, напихали их в воронку кое-как, утрамбовали деревянными колотушками, но камни не улеглись, на подгонку их друг к другу нужно время, нужно, чтоб по этим белым засыпкам прошли танки, стены брошенных домов таяли в воздухе.
Светлана ожидала Борисова. Увидев его, улыбнулась по-девчоночьи открыто, блеснув крупными чистыми зубами.
— Писем не было? — спросил Борисов.
— Нет.
— Куда же подевался наш моряк?
— Выполняет какое-нибудь военное задание. В тыл к немцам ушел, а оттуда, как известно, письма не приходят.
— А если не выполняет, если…
— Не надо думать о «если», — быстро произнесла Светлана.
— Кроме белого цвета, есть черный, и бог знает сколько оттенков серого.
— Романтика цветов: вот это серый, вот это синий, вот это розовый, у каждого цвета свой символ, один цвет для любви, другой для горя… Все это очень условно!
— О синем и розовом я не говорил.
— Не суть важна. Иногда можно не говорить, только подумать, и этого уже достаточно.
— Гляди, что я принес. — Борисов вывернул карманы и высыпал на тарелку смятые цветы. В кухне запахло нежным садовым духом.
— Цветы-ы, — удивилась Светлана, — с кустарника, что ли?
— С акации Большого проспекта.
— Зачем ты их нарвал?
— Это не просто цветы, это первоклассная еда. Глюкоза и витамины, салат, который дают больным детишкам. В южных странах из этих цветов давят вино и масло, в Болгарии делают варенье. Я их ел — сладкие. Это тебе.
— Ел цветы?
— Да, ел. И не только я. Ленинград еще не снят с голодной пайки. И неизвестно, когда снимут. Завтра будем сажать хряпу. — Борисов выскреб цветы из-за пазухи — получилась довольно внушительная горка.
Светлана взяла несколько цветков, неохотно разжевала. Прислушалась к себе, стараясь понять, какие они.
— Съедобные? — не удержавшись, спросил Борисов.
— Вроде бы съедобные, — неуверенно проговорила она и вдруг резко замотала рукой. — Нет, не могу! — приподняла плечи углом. — Ты понимаешь, раз эти цветы съедобные — значит, деревьям гибель. Все будут объедены, целиком… Пацаны даже на макушку заберутся.
— Почему «гибель»? Разве деревья без цветов жить не могут?
— Существовать могут, жить нет[4].
— Совсем как люди. Хотя деревья — это не люди.
— Но душа у них есть, и боль они чувствуют так же, как люди.
— Очень спорная теория. Ты все-таки попробуй…
— Не хочу. Я не голодная.
— Неправда, ты хочешь есть, я по лицу вижу. — Борисов повысил голос. Собственно, а какое право он имеет быть резким? Кто ему Светлана — жена, сестра, близкая родственница? — Извини, чего-то я раскричался, как на рынке, — смутился он.
Вечер был совершенно невоенным, тихим. Потянуло гарью.
— Мне кажется, что Питер теперь всегда будет пахнуть дымом и пеплом, — сказал Борисов, — всю оставшуюся жизнь.
Светлана молчала.
Гарь стала чувствоваться сильнее. Такое впечатление, будто горел их дом. Но Борисов на это совсем не обратил внимания, он стоял с неподвижным, обиженно-отрешенным лицом, оглаживал пальцами горку цветов, совсем не прикасаясь к ним. Рука была костлявая, слабая, незащищенная, и эта незащищенность вызвала в Светлане тепло, она смахнула слезу с глаз, предложила неожиданно:
— Борисов, хочешь, я выйду за тебя замуж?
Мигом всплыв на поверхность самого себя, Борисов вздрогнул — не вопрос, а удар хлыстом. Отрицательно качнул головой.
— Ты чего? У тебя другие планы? — горьким, каким-то защемленным шепотом спросила Светлана.
— Нет. — Борисов вновь качнул головой. — Я не могу этого сделать. Понимаешь?
Он думал о моряке. Моряку тоже приглянулась Светлана. А раз приглянулась — значит, Борисов должен уступить: ведь моряк спас и Борисова, и Светлану, значит, по простой арифметике право выбора — его.
— Не понимаю.
— А как же моряк?
— Странная вещь: обычно мужчина предлагает женщине выйти замуж, а здесь наоборот.
— Не обижайся на меня, пожалуйста, — попросил Борисов. — А?
— Ты не мне причиняешь боль — себе.
— Верно, — согласился Борисов. — Но я не хочу чувствовать себя виноватым перед моряком.
— Да-а, — тихо протянула Светлана, — наверное, это тоже больно.
— Боль — слишком односложное понятие, и ощущение односложное. Тут все… Знаешь — все! И тоска, и внутреннее щемление, и слезы, и стыд — я даже не знаю, что в этом чувстве намешано.
— А не усложняем ли мы искусственно то, что на деле просто?
— Этим можно обмануть мозг, но не душу. Слишком тонкий инструмент — душа, все чувствует — и то, что надо, и то, что не надо. — Борисов поморщился. — Слишком банальные вещи говорю… Извини!
— А ты не хочешь у меня, Борисов, спросить, кого я люблю?
— Я не могу об этом спрашивать.
— Позволь…
— Не имею права.
— Ах, какая тонкая, какая уязвимая душа, — Светлана покачала головой, — какая нежная структура.
— Светлана, не надо! — попросил Борисов, и Светлана, понимая его, сделала рукой согласное движение.
Больше в тот вечер они не сказали друг другу ни слова. Важно, что Светлана жива, находится рядом, присутствие ее рождает тепло, а факт — стоит в паспорте штамп или не стоит — совершенно второстепенный. Это так мелко перед тем, что было, что прожито и пережито! Существуют вещи, которые покрепче штампов притягивают людей друг к другу, и Борисову об этих вещах можно не рассказывать. А есть и другая сторона медали: штампы ничего не значат, и те, у кого они проставлены в документах, швыряют паспорт в печку, чтобы хоть огнем смыть былое.
Завтракали цветами — Светлана на этот раз не отказалась, голод взял свое, — и утром пошли на Большой проспект.
Как и вчера, снова откуда-то тянуло дымом: едким, горьким, дым шел понизу, выволакиваясь из недалекого горящего подвала. Наверное, накрыло какое-то бомбоубежище. Борисов обеспокоенно закрутил головой — может быть, нужна его помощь?
В следующую минуту он успокоился — дым был тряпичный, дровяной, от людей такого дыма не бывает. Борисов знал, какой дым бывает от горящих, словно свеча, людей — совсем не такой. Этот дым безобидный, растительный, а тот страшный, тягучий, черный, пахнущий мясной кухней. Борисов даже не подозревал, что человек может гореть, будто сливочное масло, — вспыхнув, уже не останавливается, огонь пожирает его жадно, с урчанием и, если горит человек, терять нельзя ни секунды, растеряешься — огонь съест человека.
Обычно безлюдный, в нашлепках, прикрывающих асфальтовое рванье, Большой проспект было не узнать — на проспекте находилось полно народу. Люди сидели на лавках, ползали под деревьями, кто-то пытался зацепить ветку с цветами и надрывным высоким голосом кричал от обиды — сил, чтобы удержать ветку, не было, и бедняга сипел, требуя помощи, проворные легконогие ребятишки, цепкие, словно белки, гнездились даже на макушках, пугали галок и грачей. Люди с яростью обрывали акации Большого проспекта, ели цветы, давились, набивали сладкими зеленоватыми лепестками карманы, мешки, кромсали на одежде подкладку и засовывали цветы в дыры.
Впечатление от этого жора, от шевеления и криков было странное, гнетущее — ну будто убивали что-то живое, имеющее душу и глаза, очень дорогое, нужное человеку, и некому было за эту душу заступиться, вот ведь как, — Борисов, словно подстегнутый, рванул было вперед, но Светлана остановила его: разве Борисов мог что-нибудь сделать, помочь акациям? Да и не нужно было ничего делать — акации спасали людей, отдавали голодным, обессилевшим питерцам единственное, что у них было, — цветы.
— Все, после этого акациям уже не жить!
— Почему? — тупо, как и вчера, спросил Борисов.
— Ну какая же им жизнь без цветов?
— Ерунда все это! Главное вот они, они! — Борисов потыкал рукою вверх, на макушки деревьев, где словно воробьи, сидели мальчишки. — Они будут жить!
Сделав крюк, Борисов помог бедолаге, который никак не мог справиться с веткой и продолжал надрываться в крике, из распахнутого безъязыкого рта от бессилия уже вырывался беспомощный птичий клекот, глаза вывалились из орбит, набухли помидорно-красным соком, голые десны сочились, Борисов помог ему подтянуть ветку, подержал ее и тот впился в цветы окровяненными деснами, запришлепывал губами, давясь и плача, вызвав видом своим, жадностью оторопь, и Борисов, отворачиваясь, крикнул Светлане:
— Ты иди! Я сейчас! — Ему не хотелось, чтобы Светлана видела этого человека. Но как спрятать то, что на поверхности, перед глазами, как уберечь Светлану от всего происходящего, от низости, жадности, крови, дыма, беспощадного людского жора, захлестнувшего Большой проспект?
Человек, которому он помогал, жадно урчал, пачкался собственными слюнями, постанывал, а Борисов продолжал смотреть в сторону, он испытывал стыд и сочувствие одновременно — он делал доброе дело, помогая человеку, и в ту же пору стыдился этого человека, хотя знал, что голод скручивает очень мужественных людей.
Они набрали со Светланой цветов в старую клеенчатую сумку, с которой Светланина бабушка когда-то ходила в магазин за молоком, вернулись домой и Борисов, чувствуя прилив сил — то ли весна брала свое, то ли он победил голодную немощь, — взял лом и вышел во двор.
Не каждый двор в Ленинграде был заасфальтирован — имелось полно земляных да каменной твердости утрамбованных ногами, но размякших под напором первых же дождей, а борисовский был заасфальтирован, и это было плохо. Борисов, недовольно кусая губы, очертил острием лома квадрат, потюкал торцом по квадрату, ослабляя асфальт, а потом взялся за работу.
Мало расколупать асфальт и оттащить куски в сторону, надо было еще вскопать землю, взрыхлить ее, полить водой, удобрить либо еще что-то сделать, — в общем, в углу двора будет у них свой огород. Можно было, конечно, вскопать огород где-нибудь в стороне, на какой-нибудь мягкой лужайке, которую и вскапывать-то особенно не надо, но тогда это будет чужой огород, в нем кто хочет, тот и будет пастись.
Потный, всклокоченный Борисов орудовал ломом и завидовал тем, кому во двор лег снаряд, пробил асфальтовую твердь, — хозяину теперь не надо надрываться и вытягивать из себя жилы, но, с другой стороны, снаряд — это беда: и окна вынесены, случается, и угол дома бывает разворочен, а заодно и владелец прибит.
В этом месте он посеет хряпу — популярную ленинградскую капусту, надежду и спасительницу. Сколько людей вытащила из небытия худосочная зеленая хряпа, которую сажали во дворах, на пустырях, в снарядных воронках, даже на крышах, где была земля, и там зеленела знаменитая хряпа.
Стало вообще легче жить, воздух в Ленинграде сделался другим, люди ощутили, что они люди, — ну словно бы открытие сделали, и Борисов со Светланой не были исключением из правила.
Он выдохся с этим огородом — думал даже, что хватил кус не по зубам, не справиться ему, и вообще, не отступить ли? Но Борисов упрямо закусывал губы, сипел, покачиваясь из стороны в сторону на своих непрочных ногах, упрямо, как-то по-лошадиному — движение, не характерное для него, — встряхивал голову и всаживал лом в асфальт.
Несколько раз он хотел позвать на помощь Светлану, но останавливал самого себя, протестующее тряс головой, ему казалось, что если он позовет Светлану, то потеряет нечто такое, что ему нельзя терять, — он распишется в собственной слабости, а этого Борисову не хотелось.