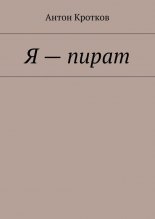Встревоженные тугаи Ананьев Геннадий

Рублев промолчал. Молча сидели и четверо других молодых солдат, пока Кириллов не взял другой конверт.
– Давайте, прочитаем, – сказал, доставая из пухлого конверта несколько тетрадных листков.
«Косолапов Георгий Сидорович. Подполковник в отставке. В пограничных войсках с 1921 года», – начал он, но в Ленинскую комнату вошел дежурный по заставе и сообщил, что Кириллова и Батрединова вызывает старшина.
– Пошли, раз вызывает, – поднялся Кириллов.
– В этом и пр-релесть службы солдатской. Начальство думает за нас, в каком напр-равлении в данную минуту должны быть устр-ремлены твои духовные и физические усилия, – проговорил Рублев, картинно взмахнув рукой. – Вот так-то, стар-рики!
– Трепло ты несусветное! – одарил презрительным взглядом Рублева дежурный, и уже совершенно другим тоном обратился к Кириллову и Батрединову: – Пошли, ребята. Ждет старшина.
Вышли из Ленинской комнаты и остальные. Рублев остался один. Волей-неволей, продолжать читать письма ему.
«Но, может, подождать, когда вернутся? Слушать лучше, чем самому читать».
Время шло, а никто не возвращался, и Рублев в конце концов взяв конверт, начал его рассматривать. Дело в том, что неделю назад начальник заставы ему лично вручил письма ветеранов, посчитав даже конверты и записав цифру на память.
– Отвечаешь головой. История заставы и история части в них. Организуй читку их со своими товарищами, и если определите, что автор служил в тот период, когда откочевка уходила, напишем ему письмо, обсудив и приняв его на комсомольском собрании.
Но Рублев не был бы Рублевым, если бы, как организатор, сам бы читал письма, тем более что желающие нашлись без труда. Особенно охотно делал это Кириллов. Однако и майору Антонову перстом лба не перешибить. Он быстро раскусил Рублева и теперь специально устроил так, чтобы тот остался наедине с письмами. Голубев с усмешкой встретил затею начальника заставы:
– Плюнет он. Сгребет все конверты и отнесет в свою тумбочку.
– Поглядим, кто из нас прав.
Правым оказался Антонов. Без всякой охоты, но Рублев все же продолжил читать начатое Кирилловым письмо:
«Если уж ошибку какую где допущу, не обессудьте. Шашку моя рука держать привыкшая, а вот перо не научена. Некогда было. Шашкой и карабином завоевывали мы для вас, внуки мои, право учиться…»
Когда Миша Рублев учился в седьмом-восьмом классах, он, читая книгу, рисовал в своем воображении сцены прочитанного, переживал вместе с героями, старался подсказать любимому герою, как поступить, чтобы не попасть в беду, разоблачить зло и победить его. Но потом перестал «фантазировать». Не сразу перестал. Постепенно отвыкал. Обрывал себя. Заставлял не думать о судьбах книжных героев, а потом и читать книги перестал. Кумир их компании Эдик Цуров часто цедил сквозь зубы, то и дело сплевывая:
– Уважающему себя человеку не подобает витать в облаках в этот суровый век реализма. Живи сегодняшним днем, бери от жизни сегодня все. Что будет завтра – мы не знаем. Мечтательность к лицу лишь девицам изнеженным.
И вдруг, совершенно безотчетно, в воображении Рублева возникали, сменяя друг друга картины тех боев – так захватило его простое, но пронзительное своей искренностью извинение ветерана. Несколько минут он как бы переселился в далекое прошлое, но спохватился, одернув себя:
«Что с тобой, кор-решь?»
И еще подумал, коли речь идет о двадцать первом годе, а откочевка ушла десять лет спустя, читать письмо нет нужды. Может, сложить все конверты в стопку – и шагом марш хотя бы в курилку. Вопреки же этому мнению, взял следующее письмо… Напечатано на машинке. Бумага – что надо. Лощеная.
«Представляю себя вам, сыны и внуки мои. Бывший красноармеец Аржанов, ныне доктор медицинских наук, профессор. О Субботине ничего поведать не могу, но, считаю, полезно вам будет узнать, внуки мои, о других героях. Их в те годы было множество. Именно – множество! Для первого знакомства с вами поведаю об одном из них. О заместителе начальника заставы Нагорном. Имя и отчество, простите, запамятовал. Года. Сколько их прошло?! И каких!
Событие, которое я опишу, произошло в 1932 году. В июне или в июле.
Сложная тогда была ситуация. Богачи тогда подбивали своих соплеменников-бедняков уходить за кордон вместе со скотом и всем имуществом, байским, конечно, чтобы не вступать в колхозы. Много ездил тогда по аулам Нагорный. Он хорошо говорил на местном языке и часто выступал пред пастухами. Смерть все время витала над его головой: выстрел байского наймита мог оборвать речь на полуслове. Но Нагорный, как, впрочем, и другие пограничники, не думал о смерти, он нес людям большевистскую правду. И бедняки начали понимать, на какой пагубный путь толкает их родовая знать. Люди оставались на родной земле и строили новую жизнь.
Друзей у Нагорного становилось все больше и больше. Интересный факт: поп местного прихода подарил Нагорному серебряную цепочку от креста, сказав при этом: “За правое дело ты борешься. Прицепи цепью, крестом осененную, к кобуре наган для надежности”.
А врагов разве меньше было? Баи, кулаки и их наймиты – банды Келеке и Бексеита, в которых добрая прослойка была из белоказаков, запугивали бедняков, убивали непокорных. Как по острию бритвы ходил Нагорный в то поистине судьбоносное для страны время, но сколько ему ни говорили, что ездить по аулам и станицам нужно хотя бы с отделением пограничников, он никогда не делал этого. Брал только коновода.
Говорил он мне как-то откровенно: “Меня смелым, даже излишне смелым, безрассудно смелым считают, а я, как и все. Еду иной раз в аул и боюсь. Да, да – боюсь. Убить могут. Зарезать. Но охрану брать нельзя. Не в бой же идем, а выступать перед пастухами. Выступать. Нести правду людям. Ну, если же правду штыком подпирают, не верится в нее”. Вот такой он был, Нагорный. Комиссаром его звали в аулах и станицах. Да и мы иной раз его так называли.
Однажды на заставу прискакал пастух. В пыли весь. А конь под ним мокрехонек. Кричит что-то Нагорному по-своему. Многие из нас язык местный понимать немного стали и уловили, о чем пастух сообщает. Род его, запуганный бандитом Келеке до полусмерти, готовится к откочевке за кордон. Нагорный на коня – и в горную долину. Коновода даже не взял.
Ускакал, а мы сомневаемся, не поспешить ли ему на помощь? Решили – нужна ему помощь. Отрядил начальник заставы всех свободных от службы, и мы – тоже на коней. Спешили, естественно, но в двух местах дорога обвалами была завалена. Мы предположили, что вызваны они специально бандитами после того, как Нагорный здесь проскакал. Так оно и оказалось в действительности. В общем, прибыли мы на помощь к шапочному, как говорится, разбору. Нагорный лежит возле юрты на ковре, весь в крови.
Но я, сыны и внуки мои, опишу, как все произошло там, в долине. Когда Нагорный подскакал к аулу, Келеке там как раз речь держал, сидя у байской юрты на постеленной поверх ковра шкуре жеребчика. А шкура та символизировала верх уважения к гостю. Келеке внушительно говорил о каре Всевышнего, которая упадет на голову каждого, кто предаст веру предков и поддастся безбожным Советам. Скажет предложение, отхлебнет глоток бузы – крепкого напитка из пшена и кислого молока – подождет, пока родовая знать накивается в знак согласия и одобрения, затем только вновь продолжит. А пастухи перед ним стоят, опустив низко головы и скрестив руки на животах. Знают, до Творца Всего Сущего далеко, покарает он или нет – это еще вопрос, а вот Келеке, пойди поперек его слова, пустит в ход камчу или клинок.
Подскакал Нагорный к юрте, спрыгнул с коня и прошел на ковер, на котором сидели Келеке и родовая знать. Те растерялись даже. Не ждали, что вот так, без оружия, без надежной охраны пограничник приедет в аул, в котором Келеке находится. Они считали, что пограничники его очень боятся. Нагорный же встал впереди главы банды и начал говорить, что советская власть – бедняцкая власть, поэтому богачи и ведут против нее войну. Поднялся Келеке и хлестнул Нагорного камчой. Кинулись на Нагорного телохранители Келеке, стегать плетьми Нагорного стали. Вздрогнула, насупившись еще больше толпа пастухов, а Нагорный стоял и не переставал говорить. Даже не отирая кровь с лица. Смотрите, дескать, джигиты. Смотрите. Вот так, и вас поодиночке всех засекут плетьми. Правды, дескать, они боятся. Ложью живут.
Келеке вскочил, кричит на Нагорного, чтобы замолчал, а тому – что за указ бандитский? Тверд в своих речах. Сбили тогда с ног комиссара, топтать ногами принялись, бить не только плетьми, но и сапогами. Потом подняли окровавленного и приказывают, чтобы признался, что поддался дьяволу и тот учит его сбивать с пути истинного правоверия. “Говори!” – орут во все глотки. Нагорный и заговорил. Бесстрашно:
– Баи запугали вас, джигиты! Ложью опутали. Бедняки всех наций – братья! Богатеи всех наций – враги им. Гоните кровососов!»
Рублев достал сигарету, закурил, но тут же спохватился. Затушил ее и сунул обратно в пачку.
В Ленинскую комнату вошел Антонов и остановился у порога. Рублев даже не услышал этого, в его встревоженном воображении рисовались сцены избиения Нагорного, он словно воочию видел кровь на его лице, на руках, видел рассеченную плетками гимнастерку и красные рубцы на теле, видел перекошенные в бессильной злобе лоснящиеся лица баев, даже слышал их срывающиеся от гнева голоса: «Говори!» – в ответ же твердое: «Гоните баев!» – и продолжал читать письмо.
«Сбили Нагорного. И тут один из пастухов крикнул: сколько, мол, волков кровожадных терпеть будем?!
Бросились, подняв палки пастушьи, несколько молодых пастухов на выручку Нагорному, но Келеке выхватил маузер и выстрелил в грудь первому подбегавшему к баям джигиту. Рассчитывал напугать, но получился обратный эффект: пастухи озлились. Навалилась толпа на баев и телохранителей главаря, скрутили им руки и в юрту затащили всех. А Келеке из его же маузера застрелили. Тут как раз и мы подскакали.
Выжил Нагорный. Месяца два не поднимался с кровати, но выжил все же. Воевал после этого опять с бандитами».
Михаил Рублев вздрогнул, услышав голос майора Антонова.
– Чьи воспоминания читал?
Сперва не понял вопроса, но и, поняв его, сказал все же, что взволновало его так сильно:
– Жел-лезные были люди. Жел-лезные!
– Что верно, то верно, – согласно кивнул Антонов. – Пограничники тех лет – геройский народ. Ни согнуть их было нельзя, ни напугать. А сейчас разве хуже пограничники? – помолчав немного, добавил: – Но попадались и тогда хлюпики. Попадались. Но наша жизнь делала из них мужественных и сильных людей. Трус и хлюпик гибнет первым. Граница – она, гвардеец, такая, с хлюпиками никогда не была и не будет в ладу… – Антонов взял со стола письмо и, посмотрев на подпись, спросил Рублева. – Как ты думаешь, знает Аржанов о Мергене? В те годы служил. Не написать ли ему письмо?
– Можно. Как выбер-ру свободное время, сообр-ражу послание.
– С секретарем комсомольской организации посоветуйся и мне покажи. А сейчас, сложи письма и собирайся в наряд. К реке пойдем. На пост технического наблюдения.
Рублев удивился. На пост раньше и днем, и ночью ходили. После задержания диверсантов прожектор с реки сняли, и теперь он в горах, а на его месте в густых колючих зарослях установили прибор ночного видения. Смонтировали его ночью. Наряды сменялись тоже ночью. Рублев уже нес там службу с Бошаковым. Задолго до рассвета вышли они с заставы, в темноте продирались через тугаи (Рублев с первого раза запомнил странное название колючих прибрежных зарослей) и, сменив наряд, который нес здесь службу с вечера, весь день наблюдали за рекой. Начальник заставы строго-настрого наказывал не выходить из укрытия днем, запретил прорубать или проламывать тропу сквозь тугаи, а подходить к посту каждый раз по новому маршруту. И вот теперь сам собирается идти на пост днем. Отпала, что ли, необходимость маскировать прибор? Ухмыльнулся, упрекнув себя: «Ишь ты, обеспокоился. Пусть начальство думает», – но все же спросил:
– А почему днем?
– Тропу дневную пробивать. Бошаков, ты и я. Пилы возьмем.
– Товарищ майор, – вошел в Ленинскую комнату с докладом старшина Голубев, – пилы и садовые ножницы приготовлены.
Замолчал, почувствовав запах табачного дыма.
– В курилку Ленинскую комнату превращают, – проворчал сердито. – Знать бы, кто это сделал?
– Тут и гадать не нужно, Владимир Макарович, – ответил Антонов. – Рядовой Рублев курил. Читал письма ветеранов, разволновался, забылся и…
– Так что ли? – сердито спросил Голубев Рублева. – Где окурок?!
Рублев достал сигарету, почти целую, из пачки и показал.
– Вот она, товар-рищ стар-ршина.
– И карманы окурками пачкать не положено, – все еще строжась, проговорил старшина. – Иди и выкинь в урну. Разволновался! Забылся! Солдат называется… На первый раз прощаю. Понял?
– Так точно! – ответил Рублев, собрал письма и обратился к начальнику заставы: – Р-разр-решите идти, товарищ майор?
Через четверть часа, взяв ножовки и садовые ножницы, вышли они с заставы и спустились вниз, в старое русло. Свернули с дороги в камыши, и сразу стало трудно дышать.
Первый раз Рублев оказался в зарослях камыша днем, когда солнце в зените и припекает так, что все живое – и птицы, и насекомые, и зверушки – стараются укрыться в тени. Ему показалось, будто попал он в парилку как раз в тот момент, когда на полке хлестал себя веником Яков Нечет и просил умоляюще, со стоном, плеснуть на каменку еще ковшик. Но если в парилке пахло распаренным веником, то в камышах воздух был затхлым, словно протухшим, и пыльным. Белая камышовая пыль сразу же легла тонким слоем на зеленые фуражки, и они стали уже не зелеными, а седыми, вскоре же вовсе белыми. Побелели, словно их обсыпали сахарной пудрой, гимнастерки и брюки, пыль въелась в голенища сапог, от нее нестерпимо першило в горле.
Так же много в камышах, как и пыли, было комаров. Они зло зудели, лезли в глаза и нос, в уши, облепляли шею, лоб и, как ни отмахивался от них Рублев, они наседали, мстя, казалось, за то, что люди потревожили их, в такую жару выгнали из тени широких камышовых листьев.
«Дает майор! – с неприязнью думал Рублев. – Что, нельзя по дороге идти?»
Антонов же, словно поняв мысли Рублева, повернулся к нему и повелел:
– Сильней приминай камыш. Чтоб не вдруг поднялся. Самому здесь ходить. По дороге нельзя. Просматривается она с сопредельной стороны в нескольких местах. И если засекут, что наряд здесь прошел, а обратно не вернулся, догадаются, что есть у нас где-то на реке пост наблюдения.
Более часа проминали они новую тропу до песчаной гряды, когда же вышли в конце концов из камышей, едва ощутимый ветерок коснулся их потных лиц, и они вздохнули полной грудью сухой, горячий воздух, полный аромата луговых цветов. Словно из ада в рай попали.
– Потр-ряс! – с наслаждением протянул Рублев и еще раз глубоко вздохнул. – И комар-ры, собаки голодные, остались в своих вонючих логовах.
Антонов, вытерев платком пот на лице и шее, скомандовал:
– Дальше – под прикрытием барханов пойдет тропа. Пригнуться – и за мной.
Пошагали меж лессовых барханов. Еще медленней, чем в камышах. Чтобы не вспугнуть фазанов. Сейчас они купаются в пыли, и, если идти медленно, фазан убежит в тугаи или за другой холм, а если быстро, то затаится за колючим кустом, а когда останется до него несколько метров, взлетит с громким криком.
– Почему, гвардеец, идем медленно? Знаешь? – спросил Антонов Рублева.
– Спешить, вер-роятно некуда, – пожав плечами, ответил тот.
– Здорово выкрутился. Но я спрашиваю серьезно. Знаешь? Нет? Тогда слушай и запоминай. Наматывай на ус.
И Антонов, продолжая медленно двигаться между барханами, стал рассказывать молодому пограничнику о том, что на утренней зорьке фазаны садятся на деревья, обычно облепляя их стаями, потом спускаются вниз и пасутся, насытившись же, перебираются на лесс. Вечером – вновь в тугаи. Когда же он стал рассказывать о том, что фазаны с шумом взлетают неожиданно, Рублев вставил свое слово:
– Видел. Потр-рясно. Как огня комок распушенный вырвался из-под ног. И криком своим пер-репугал.
– Зрелище, безусловно, захватывающее, если петуха поднимешь. А шум? Свой маршрут нарушителю демонстрировать? Не положено нам шуметь. Учись сливаться с природой. Наблюдать. Слушать. Что неясно, спрашивай. У офицеров. У старшины. У своих опытных товарищей. Но одно запомни: сам не станешь учиться – советы не помогут. А граница, я уже говорил тебе, свои законы имеет. И хочется нам или не хочется, выполнять их мы обязаны. Все без исключения. Понятно?
– Уловил.
Оставшиеся несколько десятков метров до тугаев прошли молча. Большие кусты барбариса в этом месте вплотную подступали к барханам, а иные забирались даже на лессовые склоны. Они были не так раскидисты, как их собратья, которые росли ближе к воде и под их защитой, на них не так густо висели ягоды, пока еще зеленоватые, похожие на миниатюрные «дамские пальчики», но кусты эти защищали своих более пышных собратьев от песчаных суховеев, принимая их безжалостные удары на себя, от наглого песка, который нахально протягивал свои сыпучие языки к зелени, стремясь засыпать и уничтожить ее. На границе жизни и смерти стояли эти барбарисовые охранники своих более счастливых собратьев.
– Вот так и у нас, у людского сообщества, – проговорил Антонов, обращаясь к Рублеву. – Кто-то всегда в первых рядах. На страже благополучия своих собратьев.
Вечерело. Заря угасала над тихим озерком в камышовых разливах. Оно, почти крохотное, начало подергиваться чернью и стало все более походить на большое воронье крыло. Ночь зябко опускалась на озерцо, на окружавшие его плотной стеной камыши. Все реже и реже раздавались охотничьи выстрелы. Вот они прекратились вовсе. В успокаивающимся предночном воздухе уже не проносился знакомый каждому охотнику, но всегда неожиданный тревожный свист крыльев стайки чирков или шилохвосток. Но какой охотник покинет свой скрадок сразу же после того, как закончится вечерний перелет? Нет, он подождет. Вдруг налетит запоздалая стайка. Охотники – народ упрямый и терпеливый.
Кому-то на соседнем озерке повезло: прогремел дуплет, звонко плюхнулась на воду выбитая из стайки утка и – снова тишина окутала камыши с мелкими озерами-блюдцами. Но вот заскрипели уключины, послышались всплески воды, затрещал и камыш под ногами тех, кто двинулся к местам своих стоянок. Немного погодя по краю разливов замерцали костры, разгораясь все ярче и ярче, то освещая палатки и кузова машин, то отступая под нажимом темноты.
– Ну что?.. Идти неволя, Сергеич. Костерок запалить пора бы.
Антонов не ответил. Он смотрел на костры, которых становилось все больше и больше. Воздух вокруг каждого из них, казалось, сгущался от наседавшей черноты, и эта огромная густая чернота давила свет, сжимала его, как обручем; и свет то разрывал этот обруч, то снова отступал, сжимаясь, но, собравшись с силами, вновь отвоевывал у темноты кусок камышовой стены, почти голые барханы и кромку безбрежной степи. Эта борьба тьмы и света зачаровала Антонова, и ему не хотелось ни двигаться, ни разговаривать. Она, упорная борьба та, наводила Антонова на философские мысли о вечном противостоянии тьмы и света, добра и зла, дружбы и вражды…
– Костерок, говорю, запалить самое время.
– Раз пора, значит, пора, – ответил Антонов и с неохотой вышел из своего скрадка.
Молча они пошагали по тропе, пробитой ногами охотников, к тому месту, где оставили вещмешки, бурдюк с водой и сухие дрова. Покоренные темным безмолвием, они боялись спугнуть покой засыпающей природы, и лишь когда на дальнем озерце прогремело несколько дуплетов, Янголенко сердито пробурчал:
– Охотнички! Разве возьмешь всех уток? А впотьмах и цаплю саданешь в самый раз заместо чирка. Жадность обуяла.
– Возможно, Дорофей Александрович, охотничий азарт?
– Азарт! Азарт! Выдумки чистоплюев. Ты – человек, и ум тебе даден, так и руководи собой. Азарт! Хм. Понавыдумают же чушь.
Антонов с улыбкой слушал ворчание старого охотника. Майор не мог понять Янголенко: считается лучшим охотником на всю округу, а не признает охотничьего азарта. Ему вспомнился разговор, который произошел однажды на охоте за фазанами. Несколько лет назад это было. Взяли они тогда по паре петушков и к дороге направились, где машина их ждала, а из-под ног петух поднялся. С криком. Вскинул Антонов ружье, отпустил метров на двадцать фазана и с левого, чекового ствола выстрелил. Вздрогнул петух, перевернулся и комом на землю. Радостный побежал к убитому так ловко петуху Антонов и не удержался, чтобы не похвалиться перед Янголенко:
– Удачный выстрел. Сразу наповал.
– Душегуб ты фазаний, вот что я тебе скажу. Ишь ты, не удержался. Ловкий выстрел. Хы.
Удивлен и поражен был теми словами Антонов. Какой охотник удержится, не вскинет ружье, если фазан из-под ног вылетит с трепетом и криком? Нет, он не понял тогда Янголенко, не понимал и сейчас. Ведь не что иное, как азарт охотника уводил самого Янголенко из дома днем и ночью, зимой и летом. В мясе он не нуждался: имел полтора десятка овец, всегда держал на откорме одну или даже две свиньи, еще и бычка к осени нагуливал. Были у него куры, утки, гуси, цесарки и даже индюшки. Да и не любила его жена, Антонов знал это, мясо дичи, и Янголенко частенько привозил козла убитого или сайгака на заставу. И что важно – оставлял все свое хозяйство на какое-то время без пригляда, на жену, ради охоты. Вот и в этот раз, когда Антонов попросил старого охотника провести его по заброшенным тропам старого русла, тот согласился, но поставил условие, что пойдут они в день открытия охоты.
– Зорьку вечернюю позорюем на моем озерце, оттоль уж и пошагаем по тропам.
Антонов видел, как спешил Янголенко на свой мысок, чтобы никто не опередил (много совхозных охотников выехало в тот вечер на озерковые окна в камышах), как старательно готовил скрадок, как замер и не отрывал взгляда от противоположного берега, откуда обычно тянут с полей утки на ночлег, а когда крякуха вылетела из-за камышей справа и он, замешкавшись с выстрелом, промахнулся, то сердито обозвал себя губошлепом, торопливо достал сигарету и несколько раз жадно затянулся. Это что? Не азарт?
Сейчас, однако, Янголенко отчего-то ворчал:
– Дорвутся до ружья – удержу нет…
Он ожидал, видимо, что и Антонов начнет ругать стрелявших в потемках охотников, но майор помалкивал. Замолчал и Янголенко. А когда подошли к облюбованному месту для костра, отстегнул удавку от патронташа, взвесил на руке каждую утку и, выбрав побольше и пожирней, сказал:
– Вот эту и запечем.
Антонов принялся разжигать костер, а Янголенко, распотрошив утку и посолив внутри, стал обмазывать ее толстым слоем глины, проверяя, чтобы нигде не выглядывали из глины перья.
– Эка важность, думаешь, что перо обгорит? А смотри ты, мясо паленым сразу пропахнет.
Покрутил в руке куклу глиняную, убедился, что все сделано как нужно, положил осторожно на землю. Рядом с костром вырыл яму, нагреб в нее уголь, золу из костра, уложил на них утку и засыпал сверху землей.
– Теперича давай, Сергеич, костер сюда перекантуем.
Передвинули костер, подложили дров побольше, чтобы, как сказал Янголенко, прогрелась получше уточка, и легли рядом на разостланную плащ-палатку.
– Вот лежу я, Сергеич, и соображаю, чего ради ты сам старое русло прочелночить задумал? Аль солдат после водить станешь?
– Безусловно.
– Ты третий десяток поди округлил?
– Да. Перевалило за тридцать. Но что из этого? Не думаешь ли ты, Дорофей Александрович, что пора мне в мягком кресле покоить усталые кости?
– Не грешно и остепениться чуток. Заместитель твой, что тебе огурчик нежинский. Ноне пуля его, верно, приласкала. Погодил бы малость, пока подживет рана, и послал бы его со мной. А у старшины живот через ремень пучится.
– Хватает и им работы. Дела на заставе, Дорофей Александрович, на печи лежать не позволяют. Не тебе это рассказывать. Давно ли сам в старом русле диверсанта обкладывал? Русло – самое для них надежное укрытие. Знать камыши мы должны, как свою ладонь. Вот с себя я и начинаю. Да мне и легче, я тут больше всех бывал, многое мне уже хорошо знакомо.
– Засиделся ты на заставе. Засиделся. Пора бы уж тебе…
– Надоел, получается?
– Пустое молоть зачем? Нам лучшего не нужно. Уважают тебя в народе. Поначалу всякое плели: гордец, мол, чистоплюй. Не пошел на одну свадьбу, на вторую свадьбу, вот и сказ такой пошел. Не запамятовал небось как на путь праведный наставлял я тебя? Забижал, дескать, народ. Тебя как первого гостя ждут, а ты… Прошлое это все дело, что о нем толковать, а вот Субботина давеча разыскал, с Мергеном докапываешься. Люди знают. Тебя же уважающе мыслят, что пора тебе чины добывать. На учебу в академию вашу ехать. И иное вовсе толкуют: когда один хозяин долго в колхозе или в совхозе – крепкими хозяйства бывают, а когда сменяются раз да другой – захиреют, не заметишь как. Так вот и застава. Вот поди и рассуди, где резон. По мне, так приспело тебе шагнуть вверх.
– Действительно, кто знает, как лучше? Только я такого мнения: пограничник – не мотылек. Тому можно порхать с места на место, а нам границу охранять положено. Знать свой участок лучше, чем жена кухню знает. А я вот здесь какой год, и то тебя на помощь позвал.
– А ведь убедил чуток, – согласился Янголенко, встал и начал подкладывать в костер дрова. – Пусть пожарчее. Пропечет покрепче уточку. Подремаем давай часика полтора, она и поспеет.
Вернулся на свое место, лег и уже через несколько минут стал тихо похрапывать. Голова его удобно лежала на широкой ладони, борода, густая, черная, колыхалась в такт дыханию и тускло поблескивала в отсвете костра, как вороненая сталь, а редкие седые волосы искрились, словно серебряная канитель. Антонов же никак не мог отдаться беспечному отдыху. Он время от времени вставал, подбрасывая в костер сухие поленья, ждал, когда они разгорятся, и снова ложился. Делал майор все это тихо, чтобы не разбудить спящего Янголенко. Мысли же его были далеки от тихости. Они, как все время после задержания диверсионной группы, были тревожными и волнующими. Не переставал он мысленно прорабатывать действие заставы при любом из вариантов нарушения границы, все более склоняясь к тому, что очередной переход, скорее всего, будет по реке. Спустятся, двое или трое, до старого русла, переждут несколько дней в камышах, потом – к геологам. Не успокоятся, пока не выкрадут нужные им документы. И еще одна забота: как поведут себя во время поиска молодые пограничники? Первое испытание вроде бы выдержали. И только Рублев… Да, орешек. Обузой может стать.
Невольно его мысли более всего сосредоточились на Рублеве.
Чего не хватает парню? Выучен. Сыт. Обут. Одет. Брюки, чтобы за модой угнаться, сам об этом с гордостью говорил, в хлорке травил. А мог ли он, Игорь Антонов, позволить себе такое? Один костюм имел на выход. Не новый. От брата перешел. Вот и утюжил его пред тем, как надеть, чтобы не так было заметно, что поношенный. Дома же ходил в залатанных брюках и заштопанной рубашке. А когда в армию провожали – семейный совет собрался. Обсуждали вопрос, в чем ехать. Не костюм же единственный надевать?
Постирала мать старенькие брюки, заплатки новые поставила, погладила и сказала со вздохом:
– Вот теперь, как новые.
«Пережил бы такое Рублев, не стал бы небось куражиться», – подытожил было свои размышления Антонов, но тут же поперечил себе: неестественна нищета для подрастающего поколения. Только разорительная война довела страну до такого состояния. И это понятно. А вообще-то для прогресса просто необходимо, чтобы дети росли в сытости и уюте, в обществе грамотных и воспитанных людей, от которых получали бы не только знания, но и жизненные ориентиры. К этому вроде бы идет. Не так стремительно, как было бы желательно, но идет. И плоды уже видны. Бошаков тоже имел возможность носить протравленные в хлорке джинсы, однако не носил. И Нечет не носил. И Кириллов. Но и Рублев не одинок. Хиппуют не десятки, а сотни и тысячи молодых парней и девушек. Отчего? Обезьянничают, стремясь не отставать от Запада и Америки? Может быть?.. И вдруг его осенило: извращенное отношение к жизни не просто наносное, но хорошо продуманные и ловко организованные действия тех, кто владеет богатством, неважно, накопленным праведно или махинациями и грабежом. Не хотят они никаких осложнений, поэтому через своих сынков и дочек сбивают с пути истинного молодежь, особенно активную ее часть, под предлогом приобщения к великой культуре, чтобы потом эта самая молодежь, не имея образования доброго, не имея профессии, пошла бы им в услужение, выполняя самую грязную и тяжелую работу. В услужение тем отпрыскам богатеев, которые вроде бы тоже прожигали жизнь ради процветания великой культуры.
Даже понятие культуры нации специально втиснули в узкие рамки, которые Антонов называл грубовато, но по сути своей верно: песен и плясок. Выгода прямая: не нужно, чтобы простонародье задумывалось об истинных факторах культуры нации: промышленной культуре, агрикультуре, науке, культуре военного дела, и главное – культуре правления и распределения материальных благ в обществе. Вот что кроется за безвинным вроде бы увлечением модными джинсовыми брюками и такими же юбчонками.
«Вот об этом нужно серьезно поговорить с Рублевым. И не только с ним», – решил Антонов. Мысли его вновь сменили направление. О предполагаемых маршрутах прорыва через границу думалось, но уже более спокойно. Майор не заметил, как заснул.
Первым проснулся Янголенко. Сел, потянулся и сладко зевнул. Спросил сам себя:
– Утка, должно, поспела?
Выгреб ее из-под костра. Белая прокаленная глина звенела, как кирпич после хорошего обжига, да и по твердости она не уступала кирпичу.
– Во! В самый раз достал, – постукивая по звенящей кукле, проговорил довольный собой Янголенко, повторив еще раз: – В самый раз достал. Чуток остудится и – пальчики оближешь.
Он разбил глину и снял ее вместе с перьями, разделил утку на две половины и одну из них подал Антонову.
– Держи.
– Не многовато ли?
– Бери знай. Еще добавки попросишь.
Мясо, добротно прожаренное, но не очень мягкое, пропитанное растопившимся жиром, было невероятно вкусным, и Антонов не заметил, как съел всю половину крякухи. Первый раз майор ел с таким аппетитом так вкусно приготовленную дичь.
Янголенко управился со своей половиной еще быстрей, налил чаю в кружку, отхлебнул и проговорил мечтательно:
– Вот где, скажи ты мне на милость, где еще так покойно может быть? Нигде! Только на охоте. Человек, если в корень глядеть, зародился как охотник. Как добытчик. Убил – съел. Это уж апосля обзавелся скотом. Ну и пошел дальше без удержу. Машины всякие. А что природа имеется, забывать стал. Хошь я тебе, Сергеич, тандыр-гуш приготовлю? Добывай на осень лицензию на тека. Прямо в горах и устроим пир. Выроем яму, прокалим ее и тека в нее повесим на палках. На полсуток, травой и дерном покрывши. За уши не оттянешь. Знали предки вкус в мясе.
– Хорошо, – согласился Антонов. – Лицензия за мной. Троих-четверых солдат возьмем.
– Пущай и солдаты будут. Приобщаются пущай к природе. А теперича давай еще по кружечке чайку – и пошагаем, значит. Вон, заря уже.
На востоке едва заметная полоска побелила краешек неба, а пока они допивали чай, укладывали вещи в вещмешки, полоска та стала шире, заметней.
– Ну, с богом, – благословил себя Янголенко и зашагал по тропинке в камыши.
По мере того как они углублялись в старое русло, воздух заметно менялся. Он становился затхлым, все более пропахшим болотом. Тучами поднимались комары и с остервенением налетали на потревоживших их людей. Антонов надел накомарник и кожаные перчатки.
– Что, кишка тонка? – с усмешкой спросил Янголенко, но накомарник тоже надел.
Поднимая комаров и камышовую пыль, они шли по узенькой тропке между двумя высокими стенами столетнего камыша все дальше и дальше, в самое сердце разливов старого русла. Взошло солнце, и сразу стало нестерпимо жарко. Дышалось с трудом. Хотелось поскорей выйти из этих обсыпанных мукой гниющих зарослей, подставить лицо свежему ветерку, но Янголенко и Антонов все шли и шли вперед, время от времени прополаскивая рот водой. Старый охотник переводил Антонова с одной кабаньей тропы на другую, показывая непроходимые места. У таких мест Антонов оставлял заметки. Привал они сделали часа лишь через три на берегу небольшого озерка, подернутого жирной, словно мазут, коричневой пленкой.
– Поглядишь, дно вроде топкое, а напрямки можно перешагать через него, – дал Янголенко характеристику озерку и, удобно устроившись на кочке, достал фляжку с водой. Опустил ее в воду до самого горлышка. – Пущай охолонится чуток.
Не спеша, наслаждаясь возможностью вытянуть уставшие ноги, открыли мясные консервы и позавтракали.
– Часам, должно, к десяти пришагаем к заставе, – высказал предположение Янголенко, и Антонов согласился:
– Да, не раньше. Ладно, пошли, Дорофей Александрович. Засиделись.
Не отставая ни на шаг, двигался Антонов за старым охотником, стараясь до мелочей разобраться в лабиринте кабаньих тропок, оставлял заметки, а сам уже обдумывал «план освоения», как он его мысленно назвал, старого русла. Он намеревался первые раза три сводить «стариков» – Бошакова, Нечета, Акимова, старшину Голубева и зама своего Ярмышева, после чего, уже самостоятельно, водили бы они и своих сверстников, и молодых солдат.
«Каждый день сюда группу. Каждый день».
И вовсе не предполагал Антонов, что в это самое время застава бурлила. Кипела, что называется, страстями. Случилось невероятное: у Григория Кильдяшева пропала зажигалка. Утром он проснулся, сунул руку в тумбочку по привычке, чтобы прежде всего пройти в курилку и подымить всласть сигаретой, но зажигалки на месте на оказалось. Заглянул в тумбочку – не видно. Осмотрел карманы гимнастерки и брюк, приподнял подушку – пусто.
«Кто-либо взял, что ли? Но мог бы спросить, в конце концов. Никто без спроса раньше не брал. Может, не хотел будить?» – подумал Кильдяшев и прошел к дежурному по заставе. Дежурил ефрейтор Бошаков.
– Зажигалку мою, Павел, не видел, кто брал?
– А где она была?
– В тумбочке. Туда перед сном всегда ложу.
– Нет, не видел. А ты, может, ее в другом месте забыл? Вспомни.
– Хорошо помню, в тумбочку сунул. Ехать нужно в село со старшим лейтенантом, а я вот – ищу.
– Поезжай, а я выясню у ночных нарядов, когда возвращаться станут. Куда денется? Нужно только сказать потом, чтобы без спроса больше не брали.
Вернулись, однако, наряды, сменился часовой у заставы – никто из них не брал и не видел зажигалки. И встревожилась застава, ибо пропала дорогая для Кильдяшева вещь (все знали, что это подарок любимой девушки), да и сам факт пропажи не укладывался в понятие заставской жизни. Невероятный факт. Пропала бы мыльница, флакон одеколона или пачка лезвий для безопасной бритвы, солдаты возмутились бы не меньше. Нечистый на руку пограничник – разве такое может быть? И вот солдаты начали высказывать самые различные предположения, как теперь найти вора, позорившего заставу. Тех, кто предполагал, что случилось какое-то недоразумение, что все выяснится само собой, остальные даже не слушали.
«Старики» сидели вроде бы своей кучкой и советовались, что предпринять.
– Нет, я советую: все же нужен обыск, – настаивал Семятин. – Ведь у кого-то она находится.
– Будет он ее в кармане держать. Упрятал где-нибудь, – возразил Акимов. – Много шума поднято. Вся заставы знает о пропаже.
– Майору бы доложить. Он уж точно сказал бы, что делать, – дополнил Семятин Акимова. – Но майор обыск запретит, это – как пить дать. Скажет: из-за одной паршивой овцы всех грязью нельзя мазать.
– И правильно, – вмешался в разговор подошедший Бошаков. – Один украл, всех подозреваете. А может, и воровства никакого не было. Вот еще в чем вопрос?
– Верно, Павел, – согласился Нечет. – Но разобраться нужно. Все может быть. Но если сорная трава обнаружится, с корнем ее вырвать.
– Ох! Если найдем!.. – с угрозой проговорил Акимов. – Я настаиваю на обыске. Не нужно майора дожидаться, да и старшему лейтенанту стоит ли докладывать? Сами проведем. И поступим по своему понятию.
– А как потом офицерам в глаза будешь смотреть? – спросил Бошаков и добавил: – Скоро старший лейтенант из села вернется. Доложу ему, он решит. Или начальника заставы посоветует обождать.
Угрозу Акимова и совет Бошакова услышал проснувшийся Рублев. Когда он, проснувшись понял, что застава встревожена пропажей зажигалки, то первым его желанием было сказать громко и весело: «Она у меня в кармане», – посмотреть на удивленные лица споривших, и сказать, что нашел ее на лавочке в спортивном городке. Вернулись они со службы, почистили оружие, а старший не унялся. Сходи, велел, в спортгородок. Покачай мускулы, хлюпиков граница не уважает.
Пошел без пререкания. Привык уже не перечить «старичкам». С уважением начал относиться к их немногословным советам, всегда дельным и всегда уместным. Но не особенно еще усердствовал. Подтянулся всего раза четыре, гирьку двухпудовую выжал. Двумя руками, правда, но все же выжал. И радостно стало на душе. Подумал самодовольно: «Могу же. Есть силенка!» В казарму идти собрался, но увидел зажигалку, покрытую росой. Взял, вытер о гимнастерку и сунул в карман, подумав: «Обрадуется Кильдяшев, получив завтра свой наганчик».
Хотел рассказать обо всем этом, но услышал, с какой угрозой в голосе произнес Акимов: «Ох! Если найдем!..» – промолчал.
«Вдруг не поверят?! Скорей всего, не поверят. Спросят, почему дежурному не отдал? Что отвечу?»
Вспомнил Рублев, как шли на построение солдаты, обходя его. Вспомнил их осуждающие лица, а потом абсолютное безразличие к нему, не знающему, как остановить верблюда. Он испугался. Испугался осуждающих, гневных взглядов сослуживцев, испугался немногословной, но резкой реплики Нечета, испугался «темной», которую, как он считал, могут устроить не поверившие ему солдаты.
Он претворился спящим, лежал, затаив дыхание, пока к нему не подошел Бошаков.
– Подъем. До занятий – хозработы. Тебе вокруг гаража и складов наводить порядок.
Рублев даже обрадовался, что ему предстоит работать возле гаражей.
«Там и выброшу ее».
Поспешно заправил кровать и быстро умылся.
– Я – готов, – доложил Бошакову.
– Хорошо. Бери метлу – и за работу. Уберешь – доложишь, – сказал Бошаков, а когда Рублев вышел, добавил: – Начинает понимать службу.
– Получится из него мужик. Соскребем грязь, заблестит, – согласился Нечет.
– А мне подозрительна его поспешность, – высказал свое сомнение Акимов. – Три дня назад, когда дежурил я, говорю пижону этому, что хозработа тебе – спортгородок убирать вместе с кем-то, не помню уже, то он полчаса телился. Уши свои прополаскивал да шею тер. Да и майор говорит часто, что, мол, за день человека не перевоспитаешь. Согласен я с ним. Тут не то что-то, други. Пойду-ка я к своим собачкам.
Вернулся Акимов минут через пятнадцать. Зашел в дежурку к Бошакову и возбужденно заговорил:
– Рублев украл, гадина! В гараж под ворота сунул. К гаражу подходил и вертел головой, не увидел бы кто, боялся. Ворюга. Гнать таких от границы! Пойдемте к нему, метет там!
Вышли на крыльцо Семятин, Нечет и Акимов и направились было к Рублеву, но в это время вернулся из села «газик» со старшим лейтенантом Ярмышевым.
– Товарищ старший лейтенант, воровство на заставе, – доложил Ярмышеву встретивший его ефрейтор Бошаков по обязанности дежурного по заставе.
– Говорил мне Кильдяшев о пропаже, – прервал ефрейтора Ярмышев. – Вполне возможно, что недоразумение какое-то. Разобраться нужно как следует.
– А мы уже разобрались, – вмешался Акимов. – И вора нашли. Рублев.
– Рублев? – удивленно переспросил старший лейтенант. – Не складывается. Трус и вор – несовместимо. Нет-нет, что-то здесь не так. Факты есть?
– Вот мы и шли за фактами.
Рублев увидел, что Бошаков, Акимов и другие «старики» разговаривают со старшим лейтенантом и догадался: докладывают ему о пропаже зажигалки; он продолжал старательно, не оставляя ни одной соринки, подметать возле складов, с благодарностью думая о себе, как сообразительным малом: «Хорошо я сделал, сунув в гараж. Машину Кильдяшев ставить будет, найдет свой пистолетик, посчитает, что обронил прежде и не заметил. Успокоятся все».
Но удовлетворенность моментально улетучилась, как только увидел, что старший лейтенант вместе со «стариками» направились к нему, – он оробел. Внутри похолодело. Он, правда, еще пытался успокоить себя: «Никто не видел, как я сунул туда зажигалку проклятую. Никто!»
Продолжал подметать, будто не замечал приближающуюся к нему группу. Вроде бы он так увлечен работой, что происходившее вокруг его не задевает. Даже спиной специально повернулся к ним. И вздрогнул от вопроса Акимова:
– Под ворота гаража сунул?! Пошли в гараж!
Рублев переступил с ноги на ногу, положил на плево метлу, вновь переступил с ноги на ногу.
– Я… я… ничего…
– Пошли, говорят тебе!
Открыли ворота гаража и увидели поблескивающую зажигалку-пистолет. Лежала она сантиметров в десяти от порожка. Кильдяшев молча поднял ее, старательно протер платочком и положил в карман.
Все смотрели на Рублева, а он стоял, опустив голову, с метелкой на плече. Вторая его рука висела плетью.
– Что же ты, Рублев?! Воровство на заставе! Позор на всю вселенную! – гневно проговорил Ярмышев и быстро пошел к казарме. Потом остановился и велел Рублеву: – Зайди в канцелярию.
Когда старший лейтенант увидел в гараже зажигалку, то прежняя мысль о том, что произошло не воровство, а какое-то недоразумение, отступила перед, казалось бы, неопровержимым фактом, но тут же он вновь засомневался. Оттого и пригласил на беседу подозреваемого.
Противоречивые мысли порождают неуверенность, и Ярмышев не знал, с чего начать разговор с Рублевым. А тот, войдя в канцелярию, молча остановился у порога. Высокий, тонкий, стоял он, не поднимая головы. Потом снял фуражку. Тонкие розоватые губы плотно сжаты.
– Проходи, садись, – пригласил Рублева старший лейтенант, все еще продолжая обдумывать, с чего начать разговор.
Рублев переступил с ноги на ногу и остался стоять у порога.
– Ну что же ты? Проходи, садись, – более настойчиво пригласил Ярмышев.
И вдруг Михаил изменился. Вроде бы тот же нескладный парень, но не опущенный, а уверенный в себе, готовый кинуться в бой, себя защищая.
– Не воровал я! – решительно, не растягивая и не нажимая на «р», заявил он. – Не воровал! От росы мокрая в спортивном городке лежала. Я убрал ее. Утром, думал, отдам, а тут такое… Испугался я, что не поверят.