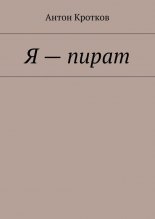Встревоженные тугаи Ананьев Геннадий

Антонов тоже смеялся, а старшина стоял пунцово-красный и молчал. Рублев слез с верблюда и встал рядом со старшиной. Ссутулился. Опустил расслабленно руки.
У заставских ворот в это время появился еще один газик. Это приехала Божена.
– Бет-Тельц, Коронадо, Литл-Крик – сколько баз! Тысячи головорезов, по которым тюрьма плачет. Тысячи изменников день и ночь учатся убивать, взрывать. Миллионы, миллиарды долларов, фунтов и марок тратятся ради того, чтобы всадить нам нож в бок! – возбужденно говорил полковник Федосеев, прохаживаясь по канцелярии от стола к двери мимо майора Антонова и старшины Голубева. – История старушки Земли еще не знала такого. Деньги, умы ученых и инженеров расходуются без экономии. Не жалеют даже людей, которые им служат. На явную смерть посылают. А результат? Рушатся их планы! А почему? Ставку на подлость делают. На подлость! На мораль звериную. Я горжусь своими солдатами, горжусь народом, который имеет таких защитников, который сумел вырастить их. Горжусь!
Всплеск эмоций вызвал только что проведенный допрос задержанного Ярмышевым и Нечетом диверсанта. Держал тот себя спокойно, говорил не спеша, с достоинством, подчеркивая свою принадлежность к храброму люду – казачеству. На вопрос о цели перехода границы, ответил точно: получил задание выяснить, что ищут геологи и будет ли иметь результат их поиска военно-стратегическое значение.
– Два раза посылали сюда агентов, но они не вернулись. Послали меня, – с ноткой гордости признался диверсант. – Я уважаю себя как разведчика. Я провел много красивых операций. Но сегодня я оказался слабей. Я уважаю силу и преклоняюсь перед ней. В чем-то я ошибся и теперь готов платить за эту ошибку. Мне велено умереть в случае неудачи, но я хочу жить. – Нарушитель осторожно извлек изо рта ампулу и положил ее на стол перед полковником Федосеевым. Помолчал. Заговорил уже иным тоном, как бы прикидывая свою вину. – Офицера я не убил, только ранил. Ущерба вашему государству нанести не удалось. Меня, конечно, осудят, я знаю. Считаю, не так большой срок дадут. Отсижу. Задавайте вопросы. Скажу все, в чем осведомлен.
И полковник Федосеев, и майор Антонов были удивлены таким поворотом дела.
– По каким маршрутам может быть повторена попытка проникновения в партию в случае вашей неудачи.
– Не осведомлен.
– Когда готовили вашу диверсионно-разведывательную группу, сколько маршрутов разрабатывали?
– Шесть.
И нарушитель подробно рассказал обо всех вариантах, раскрывая, со своей позиции, положительные и отрицательные стороны каждого.
– Ясно, – закончил допрос Федосеев. – На все остальные вопросы отвечать будете следователю.
Когда вывели из канцелярии задержанного и полковник выхлестнул эмоции, попросил Антонова:
– Давай-ка, Игорь Сергеевич, карту. Поразмыслим над вводной, которую диверсант нам подбросил.
Антонов расстелил карту, убрав со стола пепельницу и чернильный прибор, и они склонились над ней. Важно было еще раз основательно изучить маршруты, которые диверсионная группа посчитала наиболее удобными для перехода через границу. Вместе с тем они понимали, что вряд ли могут быть использованы уже провалившиеся маршруты, хотя и такое не исключено.
– Не успокоятся и после этого провала, – вроде бы отвечая на свои мысли, проговорил полковник Федосеев. – Нет. Не успокоятся. По любому маршруту могут пойти. По любому. По самому неожиданному. Дам я людей, Игорь Сергеевич, из своего резерва. Старослужащих. Проверенных в службе. Плотнейшим образом перекройте опасные направления. Договорись с геологами, пусть домик выделят для вас. На реке выставь пост наблюдения. Круглосуточный. Со сменой на месте. Только, мне видится, без прожектора, замаскировав его в тугаях. Прожектор демонстративно стоит использовать в горах. Согласен?
– Да. Вполне рационально.
– Вот и хорошо. Соседа тоже усилить придется. Особенно на правом фланге, – Федосеев будто бы самому себе определил задачу и, помолчав немного, заключил: – Вроде бы все вопросы решены. – И, повернувшись к Голубеву, хмыкнул: – А ты здорово верблюда натренировал. Как в цирке.
Лицо старшины вновь стало пунцовым.
– Я его, товарищ полковник, строго накажу!
– Кого, верблюда? – с недоумением спросил Федосеев, будто и в самом деле не понял, о ком идет речь.
– Рублева. Убрать его нужно с заставы. Трус он и нахал несусветный.
– Ого! Характеристика. И материальное подтверждение, так сказать, имеется?
– Так точно, – ответил Голубев и рассказал начальнику отряда о происшествии у юрты во время перестрелки с группой отвода. И озвучил свой окончательный вывод: – Не приобретение он для заставы. Час назад мы говорили о нем с начальником заставы, майор Антонов почти убедил меня, что можно Рублева оставить и перевоспитать, теперь я уверен – ничего не получится. Все работают, а он…
– Ну, во-первых, можно было бы и не устраивать аврала к моему приезду. Тем более после поиска.
– Извините, товарищ полковник, но никакого аврала ради вас не было. Откуда няньки у солдата? Сегодня поиск, завтра на службу ночь ни ночь, а то опять – поиск. Это наша пограничная работа. А любая хозяйка разве не после работы убирается в квартире или по дому?
Антонов слушал Голубева, соглашался с ним, что на заставе нельзя иначе, что здесь нет мирной жизни, здесь нельзя сделать завтра то, что можно сделать сегодня, ибо может случиться, что завтра будет некогда и послезавтра, – так зарастешь, что самому станет противно. Жизнь заставы подчинена, по сути, нормам военного времени. Случись сейчас нарушение границы, и солдаты, и старшина, и он, начальник заставы, да и начальник отряда полковник Федосеев – все забудут об усталости, о положенном отдыхе и сне, будут искать, пока не найдут нарушителей. А вернутся, нужно обязательно чистить оружие, убирать помещения, заправлять на вешалках шинели и куртки, чтобы висели они петлица к петлице. Еще и обувь приводить в порядок.
– И молодые пусть сразу поймут, что на заставе они в своем доме, который ухода требует, – продолжал тем временем старшина Голубев, – что на границе они, а не у тещи на блинах.
– Ты словно убедить меня собрался, что требовательность, даже строгость, разумная, конечно, для нас необходима? В этом я, Владимир Макарович, еще в войну убедился. Ты мне ответь лучше, почему верблюд на заставе?
– Старшина начальника тыла упросил, – счел нужным пояснить нарушение приказа майор Антонов. – Жена моя из верблюжьей шерсти бойцам перчатки и носки вяжет.
– Значит, хозяйственник может понять нужды солдатские, хозяйственник проявляет заботу о солдатах, а командир нет? Постановочка вопроса! Но об этом у меня с начальником тыла будет отдельный разговор. А сейчас давайте с Рублевым решим. Доложи, Игорь Сергеевич.
Антонов открыл сейф, достал папку и, найдя нужное, прочитал выдержку из автобиографии Рублева.
«Окончил десять классов. Остался временно на иждивении родителей. Не мог найти себя. Не мог определить свой жизненный путь, решая, влиться ли мне в рабочий класс, пополнив его сплоченные ряды, или стать техническим интеллигентом либо гуманитарием, поступив в институт…»
– Как провел он эти полтора года, я могу пояснить. Я видел его в Москве.
И рассказал о своей встрече с Рублевым, о гитаре, о песне, которую запела та компания для него, пограничника.
– Вот такая «кадра», как они друг друга величают, окружала Рублева, – закончил рассказ майор Антонов. – Он последние полтора года прожигал жизнь. Я согласен с Владимиром Макаровичем, что бездумные у Рублева глаза. Но мой вывод – наносное это. Бравада. Вот я и говорю: наша задача командиров-воспитателей вернуть его к полнокровной жизни.
– А если завтра снова поиск? Кто с ним рядом пойти согласится?
– Не знаю, – ответил майор Антонов. – Из солдат пока не знаю. Я – пойду. Ради Рублева. Чтобы человеком стал. Человеком! Пограничником!
– Так и порешим: останется на заставе, – поставил точку в разговоре полковник Федосеев. – Только с солдатами поговорите, чтобы все в одну точку били. Но – без перегибов. Одной ультимативностью не добиться успеха.
И словно поджидал этого момента дежурный по заставе. Постучав, вошел в канцелярию и доложил, что завтрак приготовлен.
– Спасибо. Сейчас придем. С удовольствием чайку выпью. Скажи повару, чтоб покруче заварил, да погорячей бы, – сказал Федосеев дежурному, затем обернулся к Антонову. – После завтрака Ярмышева навестим. С невестой его увижусь. Слыхать о ней слышал, а познакомиться не довелось.
– Сейчас они отношения выясняют, – предположил не без основания Антонов. – Важно очень, чем закончатся эти объяснения.
Закончился разговор их ничем. Как и первый, и второй. Божена вбежала возбужденная, нежно прильнула к бинтам, заговорила с ласковым упреком:
– Уехал. Не дождался меня. Не отпустила бы я тебя. Ранен и – сколько километров в машине. Как же это ты? Не бережешь себя.
– Не мог я, Божена. Служба. Не сердись, – размягченно ответил Ярмышев и спросил: – Совсем приехала?
И сразу почувствовал, как Божена отдалилась, хотя ее щека продолжала прижиматься к бинтам, а льняные волосы мягко лежали на его лице, вызывая блаженное состояние души.
– Трудно мне, Велен. Трудно, – со вздохом сказала она. – Мне Иван Георгиевич…
И замолчала. Испугалась того, что, назвав имя Кондрашова, обидела Ярмышева.
– Говори, Божена. Не скрытничай.
Божена молчала. Она сама никак не могла разобраться, что с ней происходит: она скучает по Велену, думает о нем, а когда с ним, вспоминает Кондрашова. Она боится этого, не хочет думать о нем, но думает. Сейчас она особенно остро почувствовала, что Кондрашов ей тоже не безразличен. Ей, однако, не хотелось, чтобы Велен, которого, как ей казалось, она любила по-прежнему страстно, даже почувствовал это. Расстроить его сейчас, когда он лежит больной, беспомощный, Божена не могла. Но и молчать было нельзя. Решилась она в конце концов немного открыться:
– Иван Георгиевич советует мне за диссертацию взяться. Помочь обещает.
Это признание сразу же вернуло память Ярмышева в недавнее прошлое, он словно вновь увидел ее, возбужденную, счастливую. Вбежала она в кабинет Кондрашова, не заметив даже его, Ярмышева. Память возвратила и ту сцену, которую увидел он, неожиданно войдя в кабинет главного инженера: их склоненные головы почти соприкасались. Каким виноватым взглядом встретила она его тогда. Ярмышев потому и спросил так настойчиво:
– А только ли в диссертации дело?
– Велен, милый! Не нужно. Кондрашов даже машину сам предложил, чтобы я к тебе приехала.
«В заботливого начальника играет?!» – с досадой думал Ярмышев, слушая оправдания Божены.
Предположения Ярмышева были вовсе не безосновательны. Кондрашов действительно играл. Начал он свою игру уже через несколько дней после приезда в партию. Божена сразу же понравилась ему, а когда узнал ее ближе, понял, что несмотря на молодость, она имела свои суждения по многим спорным вопросам геологии, смело предложила расширить район поиска, доказав это теоретически, Кондрашов почувствовал к ней еще большее влечение.
«Она – с головой, – думал он. – Любую поддержку и помощь примет, чтобы шагнуть в мир ученых. А дверь туда открывается трудно. Пружин на ней с избытком. Одна не сможет. Не в силах ей по молодости учесть всех нюансов».
Помешать ему в задуманном может только одно – свадьба с Ярмышевым, на которой будут и пограничники, и совхозные работники, и геологи. Пригласят и его, Кондрашова. А он не желал быть гостем чужого счастья.
До самых мелочей обдумал Кондрашов свое поведение. Перво-наперво он решил зажечь Божену идеей защиты диссертации и, отдалив ее духовно от Ярмышева, предложить ей свою помощь, что, само собой, сблизит их. Она уедет защищать диссертацию, он последует за ней. Она привыкнет к нему, поймет, что без него не сможет обходиться, а возможно, и полюбит.
Все шло именно так, как и предполагал Кондрашов. То, что он давал свободное время Божене, когда приезжал старший лейтенант, то, что ни разу не сказал о Велене дурного слова – все это возвышало главного инженера в глазах юной девушки, еще не искушенной в жизни, не познавшей сути долготерпеливых интриг. А когда он, сообщив о ранении Ярмышева, предложил ей свою машину для поездки на заставу, она готова была расцеловать благодетеля. И, быть может, машина эта тоже сейчас имела отношение к тому, что Божена не сказала «да».
В комнату вошла Тамара Васильевна и, увидев у кровати Ярмышева девушку, поняла, что Божена почувствовала себя неловко, но мысленно оправдалась: «Я же не знала о гостье».
Миг растерянности, и Тамара Васильевна с мягкой улыбкой подошла к девушке, которая оторвала щеку от бинтов и поднялась со стула.
– Вы – Божена? Слышала о вас от Велена Никифоровича. Слышала. Рада познакомиться! Вы уж извините, что я по-домашнему. Думала Велена Никифоровича разбудить и покормить. Кто же о нем позаботится сейчас?
«Красивая», – отметила про себя Божена. Ей понравились и мягкая улыбка, и строгая прическа, и белое лицо с первыми морщинками.
– Вот и отлично, что вы приехали. Вдвоем мы его быстро поставим на ноги, – продолжала Тамара Васильевна. – Женский уход…
– Но ему нужно квалифицированное лечение.
– Ничего. Справимся. В совхозе неплохие врачи. Пойдемте, Божена, поможете мне завтрак принести.
Божена пожала плечами: «Самодеятельность. Убеждают себя, что могут лечить. Начитались статей под рубрикой “Советы врача”. Вред один от тех советов».
Тамара Васильевна почувствовала недовольство Божены, но сделала вид, словно ничего не заметила.
– У меня все готово. Покормим Велена, и сами позавтракаем. Вы, видимо, тоже не прочь перекусить?
Божена молча встала и пошла вслед за Тамарой Васильевной. И только на кухне сказала:
– Знаете, Тамара Васильевна, мне все же думается, что рана в голову – не пустяк. Нужно серьезное лечение.
– Не знаете вы, милая, наших мужчин. Не бросит Велен Никифорович заставы сейчас. Знает, что если уедет, то на месяц. Разве такое позволительно, когда вон что на границе творится? И мой Игорь, случись с ним такое, тоже не уехал бы. А так, полежит денька два, и пойдет полегоньку. Через недельку, смотришь, совсем в строю. О заставе у них думки в первую очередь. Иначе – немыслимо. Служба у них – ни сна, ни покоя. Как на фронте. А лечить? Мы врачами волей-неволей становимся. Врачи-самоучки. И знаете еще – ласка женская. Она ведь – тоже лекарство.
Божена слушала спокойный, уверенный голос Тамары Васильевны и оценивала ее слова на свой лад:
«Ей тоже трудно, как и мужу. Любит, значит, Игоря Сергеевича. А я смогу так? Смогу ли?»
Не первый раз задавала она себе такой вопрос и не находила ответа, сколько ни думала, сколько ни гадала. И теперь он не выходил из головы. И когда накрывали на стол, и во время завтрака Божена видела, что Велен расстроен, понимая отчетливо свою в этом вину, но что она могла сделать, что сказать ему, если еще не разобралась, сможет ли жить такой жизнью, как Тамара Васильевна? Встречать и провожать? Она подкладывала в тарелку Велена вареники, добавляла сметаны, спрашивал его, не болит ли голова, не кружится ли, не остыл ли чай, а сама понимала, что не это требуется ему сейчас – ему нужно всего лишь одно ее слово. Одно. Но она не решалась сказать его.
Велена же угнетала ее заботливость, явно, как он понимал, вымученная. Впервые за время знакомства он тяготился ее присутствием. Отвечал на вопросы Божены односложно: «Да. Нет. Хорошо. Спасибо», – а сам думал: «Увела бы ее Тамара Васильевна к себе. Хоть на часок».
Но Тамара Васильевна не намерена была оставлять старшего лейтенанта одного, После завтрака она вместе с Боженой помогла Ярмышеву лечь на кровать и попросила девушку:
– Посидите с Веленом. А я со стола уберу.
Начала собирать тарелки на поднос, и тут в квартиру вошли новые гости – полковник Федосеев и майор Антонов.
– Вы все, Тамара Васильевна, хорошеете, – подошел начальник отряда к ней. – Заботы о семье, о заставе в радость вам.
– А кто же о них позаботится? Сами, что ли? Когда им? Положено нам, пограничницам. Положено.
– Как вы сказали: пограничницам? Молодчина вы, Тамара Васильевна, – Федосеев еще раз пожал ее руку, затем повернулся к Божене: – Панкова Божена? Рад познакомиться.
Божена протянула руку Федосееву, ответив стандартно:
– Я тоже весьма рада, – и замолчала.
Пауза затягивалась. На выручку пришла Тамара Васильевна.
– Пройдемте, Божена, ко мне. Не будем мешать мужчинам. Служебные разговоры начнутся.
Божена согласно кивнула.
Комната, в которую они вошли, была заполнена ярким светом. Лучи жаркого солнца пронизывали узорчатый тюль и искрились в хрустальных вазах, стоявших в серванте. В лучах солнца ярко пестрел на полу большой, почти во всю комнату, персидский ковер. На нем, сбоку, стоял журнальный столик и два мягких кресла. Они, казалось, были окутаны солнечными лучами. Лишь книжный шкаф, набитый до отказа книгами, стоял в тени, рядом с окном, и оттого, что солнце не касалось его, выглядел он в этой солнечной комнате хмуро.
Удивленная, Божена остановилась у порога. Она предполагала увидеть здесь подзоры и вышивки крестом и гладью, промереженные занавесочки на окнах – увидеть то, что привыкла видеть в фильмах о селе, то, что встречала сама, когда бывала в студенческом строительном отряде и во время учебной практики, но здесь все современно, как в добротной городской квартире. И нигде ни пылинки. Божена начала снимать туфли, но Тамара Васильевна запротестовала:
– Нет, нет. Не снимайте. Я еще сегодня не убиралась. Проходите сюда.
Хозяйка усадила гостью в кресло, села сама.
– Чем бы занять вас? Знаете что? Давайте молодость мою вспомним. Трудно тогда мы жили. Очень трудно. Но без оглядки… – Тамара Васильевна достала из книжного шкафа альбом. Полистав его, нашла нужную фотографию и протянула ее Божене. – Снимок студенческой поры. Истмат свалили с плеч и всей группой пошли на речку купаться.
На фотографии – девушки в простеньких ситцевых длинных платьях. На головах у многих – косынки. А лица так и брызжут радостью. Ребята в ширпотребовских футболках с засученными рукавами. Брюки у большинства из какой-то грубой хлопчатобумажной материи, широченные. Туфли и босоножки и у девчат, и у парней простенькие, сильно поношенные.
– Многие из нас, и я тоже, одной стипендией обходились. Стипешкой мы ее называли. После войны сразу ой как трудно приходилось всем. А еда была скудней скудного. Единственно надежная – хлеб по карточкам. Борщ постный изредка удавалось похлебать в столовой институтской. Такой день радостней праздничного казался.
Божена, слушая Тамару Васильевну и глядя на ситцевые платья и стоптанные туфли девчат, вспоминала себя, подруг и друзей своего курса. Вельвет в моде – костюмы из вельвета на Римме, Ольге и Светочке, на ней, Божене. Другие тоже не отстают. Кожа в моду вошла – у них уже и пальто и юбочки из искусственной или натуральной кожи. И брюки у всех девчат. В обтяжку, по моде. А вот чтобы с песней после экзаменов всем вместе на речку – такого не было. И вот таких лиц, чтобы у всех сразу радость и веселье – не встречала. Она даже позавидовала немного тем незнакомым девушкам, простенько одетым, но весьма счастливым. Но и другая мысль пробивалась в ее пышноволосую головку: «С таким трудом заканчивать институт и для чего? Чтобы забыть все? Стать домохозяйкой? А где же любовь к избранной профессии? Куда делись мечты студенческих лет?» Не вдруг, но Божена все же решила спросить:
– После института – сюда, на заставу? А работа, о которой все годы учебы мечталось?
– Я предполагала, что вы спросите меня об этом… Отвечу вопросом. Вы знаете, что такое четыре класса военкоматских? Нет? Это хорошо, что молодежь наша даже не слышала таких слов. Вот я вам расскажу. Приходит парень в военкомат на комиссию: повестка пришла, на учет вставать пора. А грамотешка – два или, в лучшем случае, три класса. Семью кормит. Отец в войну погиб, старший брат тоже на фронте сложил голову. Мать больна. Сколько таких семей было… А закон строгий – обязательное начальное образование. Без него – никуда. Даже призывать нельзя в армию. Вот при военкоматах школы работали, чтобы парням таким помочь. Вечерние начальные школы. Многие на заставу приезжали с начальным военкоматским образованием. Вот я их и доучивала. Факультет физики я закончила, а стала историком и литератором, физиком и географом. И конечно же учителем русского языка. Каждый день уроки.
Тамара Васильевна, встав, достала из книжного шкафа еще один альбом и показала Божене портрет мужчины средних лет.
– Вот, совсем недавно прислал фотографию. Разыскал – мы раза три переезжали. Доктор биологических наук. А вот этот – геолог. Вот этот – учитель, – поясняла Тамара Васильевна, показывая фотографии своих бывших учеников. – Забывать начинаю их имена и фамилии. Ой, сколько их разных-разных, в кружках моих училось. Иные с неохотой начинали. Чему, считали, должно быть, девчонка эта научит? Потом и нагрузка у них великая: то на границе, то на стрельбище, то на плацу, а затем уж – в Ленинскую комнату. Не обижалась я. Понимала все это и учила. Не грамоте, нет. Читать и писать они все же умели с горем пополам. Любить и ценить книгу учила. Любить прошлое народа учила. Ведь в прошлом – наше сегодня и наше завтра. Радостно было видеть, как менялись парни. А вот этот погиб. Миша Неделяев. Забайкальский казак, – показала Тамара Васильевна маленькую пожелтевшую фотографию, и глаза ее наполнились слезами. – На шинели принесли солдаты. Никогда не забуду его. Улыбчивый. Ласковый. Мне казалось, влюблен в меня был. Жадно учился. Стихи, какие ему, бывало, понравятся, запоминал с первого прочтения. На занятиях кружка часто декламировал. На том, последнем для него занятии, читал Есенина. Не дочитал. Прервала команда: «Застава, в ружье!» Часов десять они не возвращались. Изнылась я сердцем. Что с Игорем моим? Что с солдатами? И вот, смотрю, несут Мишу. Еле живой. Увидел меня, улыбнулся виновато. А я заревела. Хотя знала: надо бы подбодрить Мишу, тоже улыбнуться, сказать ему, что все обойдется, что вернется он в строй и в кружке дочитает Есенина. Знала, а не могла себя сдержать…
Тамара Васильевна вытерла платочком слезы, помолчала намного и, вздохнув, продолжила:
– Осталась я, Божена, педагогом. Только не детей учу, а солдат. И сейчас их учу. Пусть теперь десять классов у них, немало знают, а все же мимо многого прошли стороной. Как, собственно, и мы с вами в детстве. Вот вчера новеньких встречали. Спрашиваю одного, тоже Мишей звать, что любит читать, а он мне: «Вы помните рекомендации Фамусова?» Жалко мне его стало. Вот теперь думаю, чем его заинтересовать? А другим новичкам что для начала посоветовать? Хочу подыскать что-либо из пограничной тематики.
Божена молчала. Она смотрела на веснушчатое лицо, на смешно торчавший хохолок, на надпись в нижнем углу фотографии: «От бывшего ученика любимой Тамаре Васильевне. Инженер-путеец И. Колчин», – и думала о себе, о своем завтрашнем дне.
– Вам хорошо, вы – педагог, – вдруг заговорила непроизвольно Божена. – А я? Я – геолог. Что мне делать? Искать полезные ископаемые возле заставы, на которой служит муж?
– Не знаю, что вам ответить… О себе скажу. Приехал Игорь в отпуск, а мне еще год учиться. Договорились: закончу, – сразу к нему. Что будет потом, я не спрашивала себя. Так пристально не пыталась заглянуть в завтрашний день. И вот видите, живу. Полной жизнью. Грех на что-то жаловаться.
– Смогу ли я так? – вслух задала себе вопрос Божена. – Если общих целей нет, общих интересов. Я здесь, а Велен с полковником говорит. О чем? Мне знать нельзя. А ему моя геология ни к чему совсем. Сейчас мне хорошо, когда с ним вдвоем, а потом?
В спальне зазвонил телефон, Тамара Васильевна резко встала.
– Извините, Божена, вдруг что снова на заставе?!
Торопливо прошла в спальню, где на тумбочке, рядом с кроватью звонил телефон. Порывисто взяла трубку и, услышав голос Павла Бошакова, который просил разрешения прийти к ней за разрешением непонятного вопроса по математике, облегченно вздохнула. Спросила участливо:
– Устал же, Павлуша?
– Немножко, Тамара Васильевна. Но мы с Яковым позаниматься решили и споткнулись на одной задаче…
– Хорошо. Приходите оба.
Положив трубку, вернулась к Божене.
– Бошаков и Нечет просят помочь задачу решить. Я позвала их. Вы, Божена, не станете возражать?
– Ради бога, Тамара Васильевна.
Яков Нечет и Михаил Рублев лежали в секрете у подножья одной из Собачьих сопок уже четвертый час. Ветер то немного затихал, то вновь тугой волной стегал по лицу. Потом в ветру присоседился еще и мелкий хлесткий дождь. Рублев опустил капюшон куртки пониже, чтобы прикрыть лицо, но Нечет толкнул его в бок и показал кулак – Михаил, приподняв капюшон, хотел сказать: «Ну и даешь ты», – но промолчал. Вспомнил разговор с Нечетом в курилке, когда пред сбором в наряд дымили сигаретами.
– Пограничника из тебя буду делать, – объявил Яков вполне серьезно. – Майору Антонову спасибо скажи, а то бы до морковкина заговенья ждал бы ты слова от меня.
– А я смею заверить тебя, стар-рик, в няньках особой нужды…
– Точно, друг ситный. Точно. В нашем краю верно говорят: кораблю сломанному всякий ветер противен. Но пойми ты, голова садовая, плетью обуха не перешибешь. Солдаты – не та шантрапа, с которой ты вожжался. Запомни: поперек всех пойдешь – отвернемся совсем, даже не прислушаемся к слову начальника заставы.
– Постар-раюсь сделать соответствующее умозаключение, – ответил Рублев и почувствовал себя неуютно. Верблюда вспомнил. И то, что ни один пограничник не подсказал, как его остановить. А вот хохотали все. И как во время завтрака солдаты встали из-за стола, за который он сел.
«Плевать мне на вас. Вы сами по себе, я сам!» – подумал Рублев тогда, с тревогой ожидая, что еще скажет Нечет. Но тот пропустил мимо ушей ответ Рублева. Проверил, правильно ли он надел снаряжение, и посоветовал:
– Ракетницу ремнями пристегни, иначе мешать будет. Пуговицу верхнюю застегни на куртке. На границу идешь!
А когда вышли за калитку, еще раз предупредил:
– На охрану границы мы идем, а не на Арбат прохожих задирать. Твердо уяснил?
До Собачьих сопок шли молча. Когда останавливался Нечет, Михаил делал то же самое. Слушали, как ветер в тугаях злится. Когда до сопок осталось метров тридцать, Нечет лег и, подозвав сигналом Рублева, проговорил вполголоса:
– Вон там, у подножия в кустах замаскируемся. Я первым ползу. Жди сигнала.
И исчез в темноте. Как растворился. Не видно и не слышно. Ветер только бьет в лицо сердито. Огляделся Рублев. Лампочки в селе часто-часто мигают, манят к себе теплым светом.
«Вот так и бабочек, наверное, к свету из темноты жуткой тянет?»
Филином ухнул Нечет где-то справа. Почему справа, а не впереди, где, по расчетам Рублева, Нечет должен находиться? Пожал Михаил недоуменно плечами и пополз вправо. Где она, сопка Собачья? Снова филин ухнул. Еще дальше, чем первый раз. И намного левей. Развернулся Рублев и пополз торопливо. Вот она – сопка. Наконец-то. И чуть Нечета головой не боднул.
– Как дикобраз. На версту шум, – прошептал Яков недовольно.
– Летать пока не обучен моим опекуном.
Огрызнулся, будто и не предупреждал его Нечет в дежурке. Но когда Нечет, погрозив кулаком, велел откинуть капюшон, смолчал. Исполнил его приказ. Впервые за несколько лет без спора подчинился чужой воле. Откинув капюшон, спросил себя: «Ты что, стар-рик, позволяешь заталкивать себя в хомут?!»
А ветер все усиливался. Крупней стали и дождевые капли. Они безжалостно хлестали по лицу. Но это еще терпимо. Главное, начли мерзнуть ноги. Чтобы согреть их, Рублев машинально, не подумав о том, что стук демаскирует их, принялся ударять сапогом о сапог.
– Ты что?! – зло шепнул Нечет. – Меняем место. Ползи за мной. И тихо чтобы!
Переползли к подножию другой сопки. Нечет прошептал:
– Еще мне повзбрыкивай!
И снова ничего не ответил Рублев.
Сколько времени они пролежали у второй сопки, Рублев определить не мог, не знал он и когда закончится это лежание. Посмотреть бы на часы, да разве увидишь стрелки? И шевелиться в секрете нельзя, это им, молодым, еще на учебном вталкивали в головы, а Нечет, если что не так, вновь кулак покажет.
– Пора, – тихо сказал Нечет. – Отползем чуток – и встанем.
Рублев удивлен: откуда известно Нечету, что время секрета истекло? Правда, на учебном им говорили, что почти все опытные пограничники умеют и днем, и ночью определять время без часов с ошибкой всего на пять – десять минут. Но он не очень-то верил тем рассказам. Болтают, дескать, всякую чушь. Понятно, когда определяют время по солнцу. Взошло оно – утро. Поднялось на верхушку неба – полдень, скатилось к горизонту – вечер, стало быть. Не слишком хитрая наука. Но сейчас Яков Нечет его удивил. Не то, чтобы солнца – звезд даже не видно. Сопки и те едва различимы. Чернеет в темноте что-то бесформенное и страшное.
«Дает, чувак! Железно дает!»
Но еще больше поразился Рублев, когда увидел, что пришли они на заставу точно в установленный начальником заставы в приказе срок.
«Потряс!»
Хотел даже спросить у Нечета, не печенкой ли тот время чувствует, но тот приказал ему оправить обмундирование и ремень подтянуть.
– На смотрины?
– Начальнику заставы докладывать.
Вошли в канцелярию. Майор Антонов сидел за столом и читал письма. Перед ним лежала аккуратная стопка конвертов. Антонов отложил письмо, встал выслушать доклад старшего наряда. Сказал недовольно:
– Плохо, что место пришлось менять. Очень плохо. На боевом расчете поговорим об этом. А сейчас – приводите в порядок оружие и отдыхайте. А ты, Яков, зайди, как автомат почистишь.
Подождал, когда выйдут солдаты, и вновь углубился в чтение.
«Помню, было так. Из тыла шла банда…»
– Не то, – про себя сказал Антонов, отложил письмо и взял другое.
«Двадцать джигитов увел местный бай Алабек Серджанов за кордон. Неожиданно для всех ушел. Прикидывался лояльным. Потом он нам пороху подсыпал пару голов…»
– Тоже – не то.
Взял следующее письмо. Пробежал глазами. О бое двух пограничников с тридцатью контрабандистами. Скупо написано. Отстреливались, гранаты в ход пошли. В рукопашную схватились. Антонов почти зрительно представил тот бой и с восхищением подумал: «Какое мужество, какую веру в правое дело нужно иметь, чтобы вот так бесстрашно, не считая врагов, драться до последнего!» И еще подумал, что письма эти надо обязательно дать почитать всем молодым солдатам.
Постучав, вошел Нечет.
– Слушаю вас, товарищ майор.
– Расскажи подробней, как вел себя в наряде Рублев?
– Тыкался, как слепой кутенок в поисках сиськи. Плюнуть бы на него. Я так скажу, товарищ майор: осел и в Киеве конем не будет.
– Рост у него далеко не ослиный, – с улыбкой проговорил Антонов. – Рост отличной скаковой лошади. И уши вроде не такие уж длинные. Дурь только в голове. Выбивать ее нужно. Или ты – взад пятки?
– Я слову хозяин. Пообещал – не отступлюсь. Не отступятся и Бошаков, Семятин, Кочнев, Евстин. Тоже все силы приложат.
– Это хорошо. А ты ему о Собачьих сопках рассказал перед выходом в наряд? Нет? Плохо, гвардеец. Очень плохо. Ладно, исправлю я твою ошибку. Где сейчас Рублев?
– В курилке.
Антонов пошел туда. Рублев сидел на табуретке, как в мягком кресле, откинувшись к стенке, как на спинку, закинув ногу за ногу, и помахивал носком кирзового сапога. Увидев начальника заставы, встал с неохотой. Не в лицо ему посмотрел, а поверх головы.
– Садись, кури, – сказал Антонов, – и расскажи, как служба прошла. Первый же раз в секрете. Какое впечатление?
– К докладу стар-ршего ничего существенного добавить не смогу. Объясню только для ясности: ветер-р там и холодно. А на заставе – тепло.
– Испытал на себе. Час назад, как вернулся с границы. И знаешь, почему не сплю? Ждал, когда вы с Нечетом вернетесь. И письма читал. Письма ветеранов границы. Слышал легенду о Собачьих сопках? Может, на учебном рассказывали?
– На учебном в основном нар-ряды вне очер-реди отпускают.
– Это ты лишнего хватил, – усмехнулся майор Антонов. – На учебном наказывают только в крайнем случае.
– Мой командир-р был иного мнения. Любой юмор-р он пр-ринимал за кр-райний случай.
– Послужишь, поймешь службу, иными глазами на свои выкрутасы посмотришь. Но об этом мы еще не раз поговорим. А сейчас я тебе легенду расскажу. Весьма поучительная.
Майор Антонов закурил и начал рассказывать:
– Лет пятьсот назад под горой, где теперь центральный совхозный поселок, жил хан Нуреке со своим племенем. Благодатное место. Прекрасные пастбища для скота, воды в достатке. На разливах и в камышах охота богатая. В тугаях – тоже. Богато и мирно жило племя. Нуреке никого из соседей не обижал. Он даже разрешал охотиться старейшинам соседних племен на своей земле, и те были благодарны ему, дружили с ним. Внешние признаки дружбы были налицо, во всяком случае. Но и зависть, злой дух человечества, имела место. Особенно завидовал старейшина большого племени бай Ултан. Приехал он однажды поохотиться в разливах со сворой собак и со свитой. Нуреке вышел, по обычаю своему, встречать соседа. Любимая его гончая с ним. Ултан вроде бы сердечно приветствовал Нуреке, но его свора кинулась на гончую. Загрызли псы Ултана гончую. Огорчился Нуреке, упрекнул Ултана, а тот не то, чтобы извиниться, вызывающе воскликнул:
– В чем ты меня обвиняешь? Собаки мои разгорячились, а моей вины нет!
Задело подобное высокомерие самолюбие Нуреке: приехал в гости, а ведет себя как властелин. Ответ его был достоин главы большого племени и гостеприимного хозяина:
– Кто не может управлять сворой, тому не место в гостях у добрых соседей. Место тому – под подолом жены.
Все ясно: от ворот поворот. Ну и смирись, уйми свое высокомерие, поступи по законам человеческих взаимоотношений, но нет. Вскричал Ултан:
– Люди моего племени! Вы слышали, как он оскорбил меня, вашего властелина?! Значит, он оскорбил и вас. Можем ли мы терпеть?!
Налетела свита Ултана на Нуреке, как свора псов на его гончую, бить и топтать начали. На помощь своему вождю подоспели его соплеменники, окружили и поубивали ултановцев. В ответ ултановцы набег начали готовить. Предлог: месть. Истинная же цель: разорить аул Нуреке и, уничтожив все его племя, захватить богатые земли. Нуреке, однако, предугадал коварные замыслы врагов, встретил их перед аулом. Сошлись племена в кровавой схватке. Два дня, две ночи шел бой. Никого не осталось в живых. Из-за собаки, как гласит легенда, погибло два крупных племени. Тут их и похоронили. Отдельно каждое племя. Два огромных могильных кургана выросло на цветущей поляне.
Антонов раскурил начавшую затухать сигарету, затянулся глубоко и продолжил задумчиво:
– Собачьи сопки – символ мужества людей, отстаивавших свой край от захватчиков. И знаешь, Михаил, отзвук тех далеких событий нет-нет да и проявляется нынче.
Антонов рассказал о Мергене и споре в совхозе о его героизме или предательстве, который отвлекают людей от истинно созидательного труда. Кому-то выгодно мутить воду, чтобы ловить рыбку в этой мутной воде.
– Я встречался с рабочими совхоза, – сообщил Антонов. – Объяснил им, что разногласия эти возникли неслучайно и что кому-то хочется погреть на них руки. Соглашался, что ненавидеть предателей Родины нужно обязательно, что не можем мы прощать тех, кто страну свою любит только тогда, когда она дает ему блага. Но предательства Мергена – факт пока не подтвержденный, поэтому нужно искать истину, но не расходовать энергию на отвлекающие от дела разногласия. Согласились они, что не будут, пока не узнают правды, упрекать родственников Мергена. Теперь истина нужна, как воздух. Много труда и времени придется затратить, чтобы найти ее. А найти необходимо. Когда комсомольцы заставы разыскивали очевидцев подвига Субботина, писали многим ветеранам границы. Много писем у нас хранится. Вот я и надумал сегодня, что, может быть, кто из них знал об откочевке Мергена? Начал читать, а потом мысль осенила: вам, молодым, нужно передать письма. Начнете поиск. Как ты на это смотришь, гвардеец?
– Вообще-то можно, – без особого энтузиазма согласился Рублев. – Отосплю положенное и почитаю завещания пр-редков.
– Да-а, не очень я тебя убедил… Ничего, поймешь важность задания. Должен понять. Вечером я всех молодых соберу.
«Наш взводный участок (тогда не заставы, а взводы охраняли границу) упирался в район, где еще не были выбиты белоказаки. Лютовали они жуть как. Вспоминать сейчас даже страшно. Атаманил у них генерал казачий. Толстый боров, в два обхвата. Приведут к нему пленного, он приказывает раздеть и звезду на груди режет».
Виктор Кириллов остановился, достал сигарету, помял ее и положил назад в пачку. Проговорил зло:
– Садист!
– Неправильно ты говоришь. Он звезду резал. Звезду! – возразил запальчиво Рашид Батрединов. – Басмач он! Басмач!
– Вы сбегайте спр-росите, кто он – садист или контр-революционер? – вмешался Михаил Рублев.
Рашид посмотрел на Рублева. В глазах недоумение? Глупый ли он, или дураком прикидывается? А Михаил выдержал паузу и басовито, с хрипотцой, явно подражая старшине, сказал:
– Давай тогда читай, Виктор-р, дальше, р-раз нет возможности взять интер-рвью у самого генер-рала.
Виктор продолжил:
«На одном из совещаний командиров взводных участков было предложено выкрасть борова, привести в штаб полка и судить. Командир полка согласился. Он еще добавил, если уберем атамана, многие казаки перекинутся к нам.
Легко сказать – привезти. Белоказаков в том районе тьма-тьмущая. И у генерала охрана – не подступись. Надумали свадьбу в станице, где генерал жил, сыграть. И его пригласить. Приготовили все, как надо. Среди гостей – наших пятеро. Пир горой пошел. Льют и льют в борова самогон, а у него – хоть в одном глазу. Но все же поднакачали его. Ну, думают наши, выйдет до ветра, – мешок на голову – и на коней. А боров встал, покачнулся и говорит, чтобы кровать, для молодых приготовленную, ему показали. И он там спать ляжет. И невесту к себе потребовал.
Перемигнулись наши: брать, дескать, пора. Лампу затушили, хвать борова, в рот кляп, самого в мешок, на коней – и к своим. Все пикеты и дозоры обошли, без шума вернулись. Занесли мешок в канцелярию взводного участка, развязали, а в мешке – повар генеральский. Перепутали впотьмах. Вошел, должно быть, с едой в тот момент в комнату Его и схватили. Толщина-то одинаковая…»
– Повар-ра, понял! Повар-ра! Железно р-ребята ср-работали, – со смехом воскликнул Рублев. – Толщина одинаковая…
– Чего ты гогочешь? – сердито оборвал Рублева Кириллов. – Вдумайся. Жизнью они рисковали. Жизнью своей молодой. Ради жизни других. А как пикеты обошли и дозоры. Без шума вернулись. Мастерство! Ну а если бы шум. Их-то всего пятеро. Пятеро! Вдумайся. А ты: ха-ха-ха, – одарил Рублева недовольным взглядом и принялся читать дальше:
«Развернулись они молча и вышли из канцелярии. А потом слышу, кони в намет взяли. Выбежал, а их и след простыл. Куда, думаю, их черт понес? Не обратно ли?
Они и в самом деле вернулись к казакам. Прибыли на пятый день. Один убитый. Четверо израненных привезли убитого товарища и генерала толстопузого. Выполнили, докладывают, задание. А как и что там было у них – ни слова. Сняли шапки, когда товарища хоронили, а у самих слезы на глазах».
– Вот как обернулось. А ты «ха-ха-ха». Вникни!