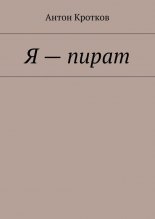Встревоженные тугаи Ананьев Геннадий

– Постой, постой, – прервал его Ярмышев и, открыв дверь, крикнул дежурному: – Всех, кто не спит, в канцелярию. – И снова повернулся к Рублеву. – Проходи, садись. Своим товарищам расскажешь, как было. Поверят ли только? Сразу бы нужно было. Как проснулся. А теперь? Теперь – не знаю…
Замолчал и сел за стол начальника заставы. Думал, что сказать солдатам. Вроде и верил Рублеву, но и сомнение не улетучивалось: «У воров отговорка всегда правдоподобна».
Через несколько минут канцелярия заполнилась. С неприязнью смотрели сослуживцы на Рублева, сидевшего возле стола начальника заставы. Рядовой Кириллов проговорил вполголоса:
– А я с ним и на учебном, и здесь, за одним столом, из одной тарелки хлебушек брал.
Рублев еще ниже опустил голову, и Ярмышев первым отозвался на слова Кириллова:
– А вот он говорит, что подобрал, чтобы отдать хозяину утром. Так он объясняет, – и перекинул взгляд на Рублева. – Доложи.
Рублев, все еще не поднимая головы, рассказал, как зажигалка-пистолет оказалась у него и почему он отнес ее в гараж. Говорил сбивчиво, без обычной манерности, и солдатам, уже привыкшим к его нарочитой небрежности, он показался жалким. Когда Рублев закончил, наступила тишина. Пауза затягивалась. И вот заговорил Кильдяшев. Резко:
– Соловьем ты пропел. А я что, склеротик? Не помню, где ее оставил? В тумбочку положил. В тумбочку! Понятно?! И тут сказки нечего рассказывать. Понравился пистолет, а мне эта зажигалка жизни дороже. Подарок!
Загудела канцелярия, как потревоженный пчелиный улей. Заговорили солдаты, обращаясь друг к другу, высказывая свое отношение к услышанному. Большинство сомневалось в искренности Рублева.
– А не мог сразу, как встал?
– В этом и загвоздка…
– А что бы не отдать дежурному, когда нашел?
– Не существенно это: сразу, потом. Испугался, побежал прятать.
И как бы высказывая общее мнение, ефрейтор Акимов сказал, глядя на Рублева:
– Выложил бы сразу, как тебя Павел разбудил, я бы не усомнился в честности твоей. А то… Понес в гараж. Сам себя в такое положение поставил, вот и нет тебе веры.
– А я не приучен сказкам верить, – проговорил Семятин. – Честный человек честно людям в глаза смотрит. А ему – голову поднять стыдно. Врет и в глаза не смотрит. Ловко же придумал легенду.
Рублев резко встал и, ссутулившийся, с втянутой в плечи головой, словно пряча ее от удара, выскочил из канцелярии. Неожиданный поступок буквально обескуражил всех. Тишина в канцелярии, словно вовсе она безлюдна. Тишину нарушил замполит:
– Не перегибаем ли мы, товарищи, палку? Правду, должно, говорит человек, а мы его – обухом по лбу.
– А что, на руках его, вора, носить? – хмыкнул в ответ Акимов. – Если с выкрутасами его миримся, то с воровством – нет. Хватит. Не верим ему.
– Думается мне, без вины виноватым делаем мы Рублева, – высказал свое мнения Бошаков. – Ты вспомни, Гриша, может, и в самом деле зажигалку в спортивном городке оставил?
– Нет. Точно помню: в тумбочку положил.
– Вот козлы упрямые, – усмехнулся Нечет. – Майора бы сюда, вправил бы кое-кому мозги.
О майоре Антонове думал и Рублев. Медленно, будто ноги его отягощены пудовыми гирями, шагал он в сторону гаража. Для чего? Не знал. Прошел мимо гаража. Вышел через тыльную калитку со двора и остановился. Стоял с низко опущенной головой, думая свою горькую думу.
«Никто не поверил. И Бошаков. Земляк называется… А Нечет промолчал. Верит ли? Нет, наверное. Как и все…»
Хотел было идти по дорожке к могиле Субботина, но увидел верблюда, который лежал возле забора в тени. Повернул к нему и тронул горб.
– Клевая житуха. Нашел тень, улегся – и доволен. Набил колючками живот и тоже доволен. Малина для тебя, а не жизнь. Понял?
Еще раз качнул горб, повернулся и пошагал к могиле Субботина. Остановился у изгороди. Стоял и смотрел на зеленую траву, на обелиск.
«Здесь похоронят? Или? Припасли как раз для тебя розу. Вернется майор, расскажу ему, если он тоже не поверит, тогда уже…»
Спустился вниз, постоял возле верблюда, прошел к летней курилке, и, увидев, что в ней пусто, решил здесь подождать возвращения майора. Он курил сигарету за сигаретой, не поднимая головы, будто с большим вниманием рассматривая носки запыленных кирзовых сапог, и вовсе не слышал, как подошла к нему Тамара Васильевна. Вздрогнул, когда она спросила:
– Что, Миша, один грустишь?
– Да так…
– Так ничего не бывает, – сказала она и присела рядом. – Я, в общем-то, к тебе шла. Книгу тебе несла. «Пограничная тишина». Сборник рассказов многих авторов. Любопытные есть рассказы. Хотела Контаровича, да Игорь, майор Антонов, – поправилась она, – сказал, что ты из писем ветеранов многое об истории границы узнаешь, вот современную и выбрала. Воениздат выпустил.
Подала книгу. Он взял ее, не поднимая головы.
– Спасибо.
– Что с тобой, Миша? Не дома ли что случилось?
– Нет.
– А ты мне в столовой в первый день так и не рассказал о родителях своих. Может, сейчас…
– Рабочие они. Отец – столяр. В «Бюро добрых услуг». Мать – на швейной фабрике.
И замолчал. Достал очередную сигарету и закурил.
– Стало быть, здесь, на заставе, что-то произошло? Пойдем-ка ко мне, расскажешь все. Зачем в себе грусть или обиду носить? Пойдем-пойдем, – настойчиво позвала Рублева Тамара Васильевна и встала.
Рублев сунул книгу под мышку, нехотя поднялся и, ссутулившись, пошел следом за ней.
Пробыл у нее пару часов. Пил чай, рассказывал о зажигалке, о родителях, о себе и снова о зажигалке. С обидой повторял, что ему не поверили, хотя он говорил правду. Тамара Васильевна угощала его печеньем, конфетами, вареньем, слушала исповедь, стараясь не перебивать, лишь время от времени задавала вопросы по-матерински мягко, заботливо. А потом поднялась.
– Пора тебе, Миша. Скоро боевой расчет. А на него, ты же знаешь, опаздывать нельзя. И не отчаивайся. Все встанет на свои места. Но от тебя многое будет зависеть. Очень многое. И вот, по-моему, что тебе необходимо понять: командиры строги, даже безжалостны бывают не оттого, что у них черствые сердца. Ответственность большая. Граница! Не имеют они права ни себе, ни тем, кто им подчинен, послабления давать. Дома ты мог делать, что хотел, а здесь жизнь другая. И с товарищами проще веди себя. Кичиться будешь, останешься без друзей. А без них нельзя. Ну, иди-иди, Миша, а то опоздаешь.
Вышел он от Тамары Васильевна успокоенным, но чем ближе подходил к казарме, настроение менялось. Вспомнилась угроза Акимова: «Ох, если найдем…» – и слова Кириллова: «А я с ним из одной тарелки хлеб брал…» – вспомнил осуждающие, гневные взгляды сослуживцев и поежился.
В помещение не пошел. Снова сел в курилке и принялся перелистывать книгу, не вчитываясь в текст, не обращая внимание даже на иллюстрации. Все думал с тоской: «Не верят. И Тамара Васильевна только пожалела, а не поверила. Если бы поверила, пошла на заставу, замолвила бы словечко». Рублев, думая так, не мог знать, что Тамара Васильевна хотела пойти к Ярмышеву, поговорить с ним, но сдержала себя. Не могла она, жена начальника заставы, перешагивать определенные рамки. Единственно, что она могла сделать – рассказать мужу о разговоре с Рублевым, а потом, во время занятий, поговорить с Бошаковым и Нечетом.
Грустные мысли Рублева прервал Бошаков:
– Рублев, на боевой расчет!
Встал молча, посмотрел на калитку с надеждой, не отворится ли она, но не отворилась – не возвратился еще майор Антонов. Прошел в казарму и встал в строй в пыльных сапогах.
– А ну, марш чистить! И живо! – построжился старшина Голубев, осматривавший строй пред тем, как доложить старшему лейтенанту, что застава на боевой расчет построена.
Молча вышел Рублев и направился к крыльцу, возле которого было оборудовано место для чистки сапог. Ссутулился, чувствуя на себе презрительные взгляды солдат. Сапоги почистил быстро, но в строй не поспешил. Остался стоять, устремив неподвижный взгляд на сопку, где облитые горячими солнечными лучами деревья окружали обелиск, словно часовые у знамени. Вздохнул тяжело, услышав сердитый голос старшины:
– Рублев! Где ты пропал? В строй!
Слышал, но не понимал, что говорил об обстановке на участке заставы старший лейтенант Ярмышев, машинально отозвался, когда была названа его фамилия, а затем время службы: часовым заставы с двенадцати часов.
Прошел, после боевого расчета, в курилку. Ждать прихода майора. Сидел один. Никто к нему не подходил. Не хотели. Вот и пустовала курилка, обычно всегда говорливая, либо веселая, либо озабоченная, судя по обстановке. И майор не возвращался.
В одиннадцать часов поднялся и прошел в Ленинскую комнату, зная, что она в это время обычно пуста. Кто лег поспать часок-другой перед выходом в наряд, кто уже собирается на службу, проверяет оружие, телефонные трубки, следовые фонари, рации. Прошел мимо дежурки торопливо. Дверь в Ленинскую комнату закрыл. Сел на то место, на котором всего пару дней назад читал письма ветеранов. Вспомнил о толстом поваре, которого по ошибке выкрали вместо генерала, грустно усмехнулся: «Герои…»
Вздохнув тяжело, достал из кармана ручку и неоконченное письмо домой, оторвал от него часть чистого листка и написал на нем: «Не брал я, ребята, зажигалку». Свернул вчетверо, и только положил в боковой карман, как в Ленинскую комнату вошел майор Антонов. Весь белый от камышовой пыли. Сел рядом с Рублевым и задал вопрос:
– Знаешь, почему тебе многие не поверили?
– Все не поверили.
– Не все. Старший лейтенант поверил. Нечет.
– Нечет?!
– Да, Нечет. Бошаков тоже сомневается, что хотел своровать ты. А вот остальные… Не думал ты, почему?
– Думал. Я же им все рассказал как на духу, а они…
– Когда рассказал? После того как тебя за руку схватили. Почему не отдал зажигалку сразу, как проснулся?
– Побоялся…
– Думал, обвинят в воровстве? С какой стати? Не верит человеку только тот, кто сам на сделку с совестью идет. Те, дружки твои прежние, они, безусловно, не поверили бы.
– Я именно о них вспомнил. Вот и испугался.
– А ты прикинь: на одну доску поставил и тех, кто честь и совесть потерял, и тех, кто автомат в руках держит, не знает что такое день, что ночь. Разобраться тебе пора уже во всем. Пора… Отмети наносное, возьмись за ум, стань самим собой. Ясно?
– Да.
– А сейчас – спать.
– Но мне на службу.
– Отменил я назначение старшего лейтенанта. Выходной. Все может по дурости случиться.
– Нет, товарищ майор. Я пойду на службу, – с необычной для себя твердостью заявил Рублев, достал из кармана записку и подал ее Антонову. – Вот. Вы верите, Нечет верит… Пойду я на службу!
Майор Антонов прочитал записку, посмотрел изучающе на Рублева, помедлил немного с ответом, потом согласился:
– Хорошо. Иди, готовься к службе.
Майор Антонов закончил список и передал листок Ярмышеву.
– Вот твоя группа. Я договорился с геологами. Домик для нас выделили. С богом, как говорится.
Ярмышев пробежал глазами по списку. Все продуманно: вожатый с собакой, старшие наряда, молодые солдаты, повар. Фамилии Нечета и Рублева рядом. В самом начале.
«Не упускает из виду Рублева. Верно, так и нужно».
– Колебался я вначале – тебе на пост к геологам ехать, либо старшине. Понимаю, что тебя с Боженой…
– Не о ней сейчас думаю.
– Ой ли?
– Не выходит она из головы, это – верно. И с Рублевым не все так складно, как хотелось бы. Как он, если что, не подведет ли? Туговато придется.
– Туговато – не то слово. Трудно. Однако главное, не трудность, но необходимость. Обстановка диктует: надо.
Майор Антонов замолчал, подошел к окну, постоял в задумчивости и, вернувшись к столу, вынул из лежавшей на столе пачки «Беломора» папиросу. Закурил без спешки, продолжая думать о чем-то своем, словно не решаясь высказать это, заветное, но, затянувшись пару раз, все же заговорил. Назидательно.
– Людям верить нужно, обязательно нужно. Без этого жить нельзя. Но прежде, чем поверить в человека, познай его. В делах его, в беседах с ним. Откровенных беседах, чтобы по душам, а не казенно. А так, вслепую. Я Рублеву твердо поверил лишь в Ленкомнате, когда он душу мне распахнул. Тебе он тоже хотел, но ты свидетелей собрал. Он жене моей высказал все, что тебе собирался сказать. Она его успокоила хоть чуть-чуть. А ты же – комиссар. Начали мы с тобой, Велен Никифорович, человека из него делать, вот и продолжим доводить начатое до ума. Но – по-умному нужно. Согласен?
– Если с первого дня поддержал, теперь о чем речь может идти? Моя ошибка не только для меня урок, но и ему, похоже, на пользу.
– Избегай подобных полезных, так сказать, шагов.
– Уже дал себе слово. А вообще-то я так думаю: месяц-другой минует, и не узнаем мы Рублева. Жизнь заставская приучит его к дисциплине, а все остальное приложится.
– Приглядись внимательней: он уже изменился. Важно, не перегнуть, а исподволь влиять. Он же – человек. Не обижай его недоверием. С тобой же он едет. Кстати, назначил я его в твою группу потому, что поспешили парни с осуждением, теперь стыдятся смотреть ему в глаза. А на посту меньше людей. Пока там будете, время сотрет остроту конфликта. Часа через полтора – трогай.
К назначенному начальником заставы времени группа собралась в летней курилке. Вещмешки и ящики с боеприпасами и продуктами сложили в кузов машины и теперь, ожидая, когда дежурный по заставе объявит построение, курили. Только не было среди солдат Рублева.
– Михаил обижается, должно, на нас, – проговорил, вроде бы ни к кому не обращаясь, ефрейтор Акимов. – Избегает. Молчит.
– А как иначе? Что, мы ему плевок в лицо, а он нам в ножки с благодарностью?
– Крепенько переборщили, – поморщился Кириллов. – И я тоже: с одной миски с вором…
И не предполагали они, что Рублев не обижался ни на одного сослуживца, даже на ефрейтора Акимова, который особенно упорно пытался доказать его виновность. И на Кильдяшева, главного виновника скандала, тоже не злился – Михаил думал о себе. Он сегодня как бы со стороны глянул на себя. И пока нес службу часового заставы, и после, когда сменился и чистил оружие, и в постели все время думал о случившемся, о разговоре с майором, и сделал окончательный вывод: «Нет. Выкрутасами доверия не обретешь. Даже обещаниями быть примерным. Что слова? Те пятеро, молча вышли из канцелярии. Привезли генерала, исправив свою прежнюю оплошность. На смерть явную пошли. Молча!»
Но он пока что не знал, как вести себя сегодня, когда нет повода проявить себя. Он один сидел в Ленинской комнате, ожидая команды на построение. Подошел к гитаре, лежавшей на столе и, не поднимая ее, принялся перебирать струны. Гитара зазвучала тихо и грустно.
– Назначенные к геологам, выходи строиться! – крикнул дежурный.
Рублев не сразу выполнил его команду. Перебирать струны перестал, но продолжал слушать, как медленно угасают грустные звуки. Потом решительно взял ее, прошел в спальню к своей тумбочке, вынул книгу, которую принесла ему Тамара Васильевна, и тогда только пошагал на выход.
Пограничники стояли в строю, но старшего лейтенанта Ярмышева еще не было, и Рублев подумал: «Хорошо. Не опоздал. Не будет замечаний».
Вышли Антонов, Ярмышев и Голубев. Дежурный по заставе подал команду: «Смирно!» – и доложил, что пограничники, назначенные в наряд, построены. Антонов поздоровался со строем, спросил, все ли здоровы и могут нести службу, затем подошел к Рублеву и спросил:
– Ты кроме тех, что пел в троллейбусе, знаешь песни?
– Так точно, товарищ майор.
Антонов повернулся к замполиту:
– На машину – и вперед.
А старшина Голубев, продолжая стоять рядом с Антоновым, то и дело одергивал гимнастерку. Антонов улыбался, понимая, чем озабочен старшина, все же подождал, пока машина выедет за ворота. Лишь после того спросил:
– Ты чем-то недоволен?
– Гитару думаю, как списать. Но срок службы ее не вышел. Придется платить. Кому? С Рублева спрос маленький!
– Цела, Владимир Макарович, будет гитара. Цела. Разве не увидел: Рублев взял себя в руки. Может, и закусит еще удила, если вожжа под хвост попадет, но тут мы с тобой виноваты будем. Нельзя пока требовать от него чрезмерно, – и вдруг задал неожиданный вопрос: – А в детстве ты не мечтал играть на гитаре?
– А то! Только на гармошке мечтал. В ту пору гитарами не увлекались. И песни другие пели, не нынешние пустышки.
– Смешно, Владимир Макарович, требовать, чтобы нынешняя молодежь наши песни пела. У каждого времени – своя музыка. Прав лишь ты в том, что песня должна приобщать к прекрасному, к человечности. Поднимать дух. Помню, идем мы со стрельбища или с тактической, еле ноги двигаются, а помкомвзвода как скомандует: «Запевай!» – вздрогнет строй, плотней ряды сомкнет. Суровые песни мы тогда пели и мысли суровые рождались. Усталость как рукой, бывало, снимет.
Не вдруг закруглилась беседа Антонова и Голубева, принимая все более возвышенный характер, а машина, что везла пограничников к геологам, прытко пробежала до предгорья, и теперь поднималась все выше и выше. Ярмышев не отрывал взгляда от пенисто-белой речки.
Он всегда, когда поднимался в горы возле стремительной Ташхемки, сравнивал ее с вот так же быстро несущейся жизнью, на пути которой тоже валуны и водопады. Даже клыкастые скалы. Неожиданные. Мысли его сегодня были и об Антонове. Так взволновали его последние назидательные слова. И еще: посылает на службу и извиняется, что иного выхода нет, И в самом деле – нет. А мог бы и не оправдываться. Приказал бы и все. Он начальник заставы, он – организатор службы. И всегда вот так: по-семейному, по-доброму. И как его не будешь уважать?
Не сразу Ярмышев понял Антонова, сделав вывод, что он скорее воспитатель, чем командир. И старший лейтенант стал учиться у него, иногда злясь на себя за то, что сам никак не может так спокойно и уверенно действовать в сложных обстоятельствах. Первые дни Ярмышев даже удивлялся. Перевели его сюда из соседнего отряда. Первый, прежний его начальник, как теперь понимал Ярмышев, был крут на расправу. Иной раз не только солдатам доставалось, но и ему, молодому лейтенанту. Особенно после того, как начальник заставы возвращался со сборов или совещаний и находил какую-либо ошибку в распределении нарядов на службу.
– Оставить заставы нельзя! Все перепутают! – серчал он и начинал вносить поправки в планы охраны границы задним числом. – И чему только вас учили столько лет?
Или придет на занятие, послушает, а потом в канцелярии выговорит:
– Слишком, лейтенант, скромен ты. Не выйдет из тебя хваткого офицера.
И все. А что нужно для того, чтобы стать «хватким» офицером, ни слова.
Когда же Ярмышева перевели сюда, сказав при этом, что у него такая перспектива: набраться опыта у «зубра», потом и заставу принимать, он, сравнивая Антонова с прежним начальником, разочаровался: «Тот был ворчун и крикун, а этот уговаривальщик. Нисколько не похож на “зубра”. Наберешься здесь опыта. Как же…»
Но с каждым днем с удивлением понимал, что майор Антонов будто читает его, Ярмышева, мысли, словно угадывает его намерения и незаметно, исподволь диктует свою волю, помогая и словом, и делом. Точно такие же отношения у Антонова, как замечал Ярмышев, были со всеми солдатами и сержантами заставы. Никогда майор не повышал голоса, но каждое его слово было настолько обосновано и высказано четко, что убеждало любого.
Думая сейчас обо всем этом, Ярмышев не обходил вниманием и свою личную проблему: отношение с Боженой. Что принесет встреча с ней? И чем выше машина поднималась в горы, приближаясь к геологам, тем настойчивей мысли о Божене вытесняли все остальные, и постепенно он стал думать только о ней.
После того дня, когда девушка приезжала к нему, раненому, они не встречались. Не единожды он мысленно продолжал с ней разговор, начатый тогда. Он убеждал ее, что над диссертацией можно работать и здесь, что готовиться (она – к сдаче кандидатского минимума, он – в академию) могут вместе по всем предметам – он каждый день ждал ее, но она не приезжала.
«Так ли уж занята?» – с обидой думал старший лейтенант и все отчетливей начинал понимать, что Божена не хочет выходить за него замуж, не может бросить свою профессию не только из-за диссертации.
«Скорее всего – Кондрашов».
И отбрасывал эту мысль, вспоминая их встречи, то, как доверчиво прижималась она к нему, и тогда они оба (так всегда казалось Ярмышеву) забывали обо всем, принадлежали только друг другу. Но в пику тем воспоминаниям, всплывали другие: склоненные головы, ее и Кондрашова, над столом, ее смущенный взгляд. Сердце Ярмышева тоскливо сжималось…
В стороне осталась Ташхемка, машина выехала на плоскогорье, миновав его, повернула в ущелье. Ни одного слова не сказал Ярмышев водителю, когда же ущелье, хмурое, настораживающее, осталось позади, скомандовал:
– Останови. Перекурим.
Вылез из машины. Незабудки, голубые, как глаза Божены, приветливо закивали ему своими головками, а ветерок, наполненный ароматом альпийского луга, ласково начал гладить разгоряченное лицо.
Выпрыгнули из кузова солдаты. Только Рублев остался наверху. Стоял, словно заворожили его горы. Такую красоту он видел первый раз в жизни. Высокое-высокое небо, солнце какое-то прозрачное и совсем не жаркое. Лучи его скользят по зубастым вершинам, вроде бы падая с них вниз и теряясь в ярких цветах и зеленой траве.
– И дик, и чуден был вокруг весь божий мир, – начал Рублев вполголоса читать стихи. Потом помолчал немного и добавил: – Потряс! Вот бы чувихи… – и осекся. Посмотрел по сторонам, не усмехнулся ли кто из пограничников, услышав его слова.
В кузов влез ефрейтор Бошаков. С букетом незабудок. Сел рядом с Рублевым.
– В Москве бы, Миша, с таким букетом появиться, проходу бы не дали. На каждом шагу бы слышал: где купили? где продают?
Рублев согласно кивнул.
– Любая чувиха, – начал было он, но тут же замолчал, низко опустив голову.
– Ничего, земляк, отвыкнешь от жаргончика. Отвыкнешь, раз хочешь этого, – поняв состояние Рублева, ободрил его Бошаков.
Солдаты садились в машину. У каждого кроме Нечета букеты цветов.
– Давайте так, пока здесь, чтобы цветы все время на тумбочках стояли, – предложил Кириллов.
– Дело, – поддержали его многие, только Нечет не согласился:
– На цветочки решили смотреть и вздыхать? – с усмешкой проговорил он. – Все еще дом не можете забыть. Не солдаты, а карамзинская Лиза. Я думаю…
– Зря ты, Яков, так, – прервал Нечета Бошаков. – Цветы службе не помеха.
– Ну, раз комсорг «за» – умолкаю, – картинно вскинул руки Нечет, но все же добавил: – Автомат еще цветочками украсить и – полный порядок на границе.
Никто не ответил Нечету. Не стали с ним спорить. Молодые потому, что не хотели перечить человеку, перед мастерством которого преклонялись, учились у него службе и старались подражать ему; «старики» же знали: бесполезно спорить, не переубедишь его. Нечет считал, что жизнь пограничника должна быть по-корчагински суровой. Без остатка воин обязан отдавать себя учебе и службе. Он любил говорить: «Голубки сизые не для солдат. Воротишься домой, сколько хочешь разводи голубков в своей душе. Когда будешь от границы подальше. А здесь – автомат у тебя». Когда же его пытались убедить, что никому не заказано любить, ненавидеть, мечтать, он отвечал:
– Пыл души поберегите для критики и перевоспитания разгильдяев.
Точно так же мог ответить он и сейчас.
Машина тронулась, и совсем скоро подрулила к домику, отведенному для них геологами.
– Разгружайтесь, – приказал старший лейтенант. – Я – к главному инженеру.
Ярмышеву хотелось увидеть Божену у Кондрашова, и вместе с тем он надеялся, что ее сейчас там нет.
«Лучше вечером объясниться».
Дверь все же открыл с волнением. Божены в кабинете не было. Кондрашов поднялся, развел театрально руками.
– Очень рад, Велен Никифорович, что не забываете навещать наш райский дикий уголок. Очень рад. Редко, правда, в последнее время.
Ярмышев, казалось, не заметил иронии в словах главного инженера. Он молча пожал протянутую руку и сел.
– Значит, деловой ветер занес вас сюда? – продолжал Кондрашов. – Чем могу быть полезен? Домик выделен. Надеюсь, устроит вас. Вероятно, есть необходимость собрать на инструктаж людей?
– Да. Вечером. С работ снимать не следует. Срочности никакой.
Встал, приложив официально руку к козырьку, вышел из кабинета главного инженера. Постоял на крыльце и, решив, что Божена может быть дома, на всякий случай пошагал к ней.
Постучался, открыл дверь и поразился тому, что увидел. Комната была жалкой, неуютной: окна без привычных нейлоновых штор казались пустыми глазницами; этажерка без книг чем-то напоминала стремянку, приставленную к стенке; полосатый матрац, скатанный вместе с подушкой и синим шерстяным одеялом, лежал у спинки железной кровати, а рядом, на полу, сиротливо стояли пухлый рюкзак и два чемодана. На столе ни книг, ни тетрадей, только один наполовину исписанный листок. Над листком склонилась головка Божены, повязанная серой шелковой косынкой, которую Велен никогда не видел у нее прежде.
Божена встрепенулась, порывисто встала, щеки ее вспыхнули, и лицо, обрамленное серым шелком косынки, стало необычно растерянным и оттого привлекательней, чем всегда. Ярмышев подошел к ней.
– Вот, тебе писала. Думала, вдруг не увижу, – сдерживая волнение, призналась она. Скомкав письмо, добавила: – Теперь это не нужно.
– Ты будешь счастлива? – спросил он, хотя собирался задать ей совершенно иной вопрос.
– Не знаю, Велен! Не знаю… Но мне кажется, я не могу поступить иначе. Я хочу, чтобы ты понял и, если сможешь, простил бы меня. Что бы ты обо мне не думал…
– Какое теперь имеет значение то, о чем я думаю?
– Нет-нет! Имеет, Велен, имеет! Ты должен понять. Там, у тебя, когда ты лежал раненым, я поняла, что не в силах отказаться от помощи Ивана Георгиевича. И ты понимаешь, почему. Я его…
– Не напрягайся. Зачем мне слушать те слова, которые ты когда-то говорила мне? Прощай. Будь счастлива.
И словно не заметив, что Божена потянулась к нему, он повернулся и, окинув прощальным взглядом пустую, обшарпанную комнату, направился к двери.
– Велен, подожди!
Он не остановился.
«Зачем я ходил к ней, – ругал себя Ярмышев. – Не верилось, что потерял ее? Теперь убедился?!»
С горькими мыслями вернулся к солдатам, хотя вовсю старался не показать им, что выбит из седла. Проверил, верно ли расставлены раскладушки, составил план охраны границы, городка и карьеров, с учетом, конечно, дежурства самих геологов, для чего тоже разработал отдельный график. Вместе с Нечетом и Бошаковым составил распорядок дня, проинструктировал геологов, пел вместе с солдатами песни под гитару, на которой, как оказалось, Рублев играл прекрасно, потом высылал наряды и проверял их службу, но не забылся во всей этой колготности – мысли о Божене ни на минуту не покидали Ярмышева.
«Уехала! Не создана для тревог! Ее стихия – наука. Клялась в любви. А есть ли вообще любовь? Такая, чтоб не раздумывать о стихиях?» – задавал он себе вопросы и не находил на них ответа.
Вспомнился разговор с начальником политотдела округа, когда прибыл к месту службы после училища.
– Женат?
– Нет.
– Трудно придется. Трудно…
Он не придал особого значения тем словам, и только теперь осознал их глубокий смысл.
Ракета, прочертив зеленую дугу, погасла, и уже через минуту дежурный радист докладывал на заставу, что в горах нарушена граница, передал распоряжение старшего лейтенанта Ярмышева расчету прожекторной установки разделиться и усилить освещение местности, вызвал наряды с рациями, чтобы старший лейтенант поставил им новую задачу. Сам же Ярмышев и ефрейтор Акимов с собакой тут же выехали на машине к месту перехода. Неслась она на максимальной скорости.
Бошаков с Рублевым и Нечет с Кирилловым побежали от геологической партии, чтобы перекрыть ущелье, по которому мог пройти в тыл нарушитель. Геологи патрулировали поселок.
Первыми обнаружили нарушителя прожектористы. Они, как им и была поставлена задача в приказе, скрытно меняли позиции и включали свет каждый раз на новом месте и с разными промежутками времени. Полчаса бесшумно стояли они в трехстах метрах от поворота к геологам, затем неожиданно включили прожектор и увидели человека. Он упал, будто подкошенный яркими лучами, но тут же вскочив, кинулся к скалам и скрылся за ними. Прожектористы, подав сигнал о прорыве через границу, начали действовать так, как приказал им старший лейтенант по рации: два человека остались у прожекторной установки, остальные начали преследовать нарушителя.
У дороги они потеряли след. Днем и на каменистой местности, хотя и с трудом, все же можно идти по следу: То камушек сбит, то травка примята, то осыпь потревожена, ночью же ничего не видно. Нужна собака, но она когда подоспеет! Побежали по двум ущельям, которые начинались в сотне метров от дороги и шли почти рядом, разделенные лишь нешироким зубчатым хребтом. Ущелья эти тянулись километрах в четырех от геологической партии и переходили в степь.
Пограничники двигались хотя и быстро, но осторожно, осматривая каждый куст барбариса или закуток в утесах. Опасались они и возможной засады – не только смотрели, но и чутко прислушивались.
А старший лейтенант и вожатый с собакой уже подъезжали к тому месту, где прожектористы засекли нарушителя. Вот оно – это место. Собака след взяла сразу же.
К этому времени Бошаков, Рублев, Нечет и Кириллов пересекли альпийский луг и начали взбираться на хребет. Первым – Бошаков, за ним – Рублев и Кириллов. Нечет – замыкающим. Бошаков поднимался легко, будто не вверх поднимался, а рысил по ровному месту. И бесшумно. Из-под ног же Рублева и Кириллова то и дело скатывались вниз камешки. Нечет недовольно буркнул:
– Недотепы!
Когда поднялись на хребет, Бошаков остановился, подождал молодых солдат и заговорил вполголоса:
– Ты, прежде чем наступить на камень, ногой его ощупай. Вздрогнет если, ставь ногу рядом, не тронь его. В горах…
– Тренировать их нужно, а не только объяснять, – перебил Бошакова Нечет. – Займусь я с ними. Забудут цветочки и гитару, пока не станут по горам, как теки скакать. Оно ведь так: научишься хромать, когда нога заболит.
– Не совсем так. Но дома договорим. Сейчас – вперед, – приказал Бошаков.
Спустились в такой же последовательности. Нечет и Кириллов остались в ущелье. Укрывшись в барбарисовых кустах, замерли. А Бошакову с Рублевым предстояло перевалить еще один хребет. Рублев устал. Он напрягал все силы, чтобы не отстать от ефрейтора, но это ему уже не удавалось. Бошаков остановился.
– Дай автомат.
– Нет. Я сам…
– Сам, сам! Дай сюда. Время упустим, уйдет нарушитель.
Стало немного легче, и Рублев поначалу поднимался за Бошаковым почти по пятам, но вскоре снова отстал. Путь им пересекла осыпь. Довольно широкая, метров тридцать. Бошаков остановился, решая, обходить ее или идти напрямик. Ни вправо, ни влево конца осыпи не видно, обход займет много времени. Стало быть, через осыпь. И пошел, проваливаясь в сыпучей гальке по щиколотки. Рублев – за ним. Сделал несколько шагов и упал. Поднялся было, но вновь завалился набок. Бошаков вернулся, помог подняться и приказал:
– Держись за мой ремень.
– Я сам…
– Держись!
Пересекли осыпь. Рублев отпустил ремень, но Бошаков обернулся и решительно так:
– Держись. До самой вершины!
Рублев старался поспевать за Бошаковым, но с каждым метром все крепче сжимал ремень, чувствуя, что сам, без помощи земляка не сможет сделать ни шагу. Гимнастерка облепила мокрое тело, с подбородка падали крупные капли пота, его тошнило, сквозь разноцветные круги, плавающие перед глазами, он едва различал спину Бошакова, хотя уже заметно светлело.
До вершины хребта осталось несколько метров, Бошаков скомандовал: «Ложись!» – и пополз по-пластунски между камнями. А Рублев, где упал, так и остался лежать, уткнувшись лицом в холодный гранит, как в мягкую подушку. Ефрейтор оглянулся, увидел лежащего без движения Рублева, хотел вернуться, чтобы вновь взять его на буксир, но передумал: «Пусть отлежится чуток. Один понаблюдаю».
Выполз на хребет и, укрывшись за скалой, осмотрел ущелье. Никого. Предутренняя тишина. Не шелохнутся кусты барбариса, все будто замерло, только змеится между тальником ручеек. Пенится, спешит, чтобы внизу, у подножия гор, затеряться в высокой сочной траве. А раз тихо все, можно и Рублеву время уделить. Обернулся и посмотрел на него. Тот все еще лежал не шевелясь.
«Не заснул бы? Тренировать нужно, погонять по горам», – и позвал громко:
– Давай-ка, Миша, бинокль.
Рублев и в самом деле начавший засыпать, сперва не понял просьбы, он только услышал как бы спросонья голос Бошакова и с трудом оторвал голову от гранита.
– Бинокль, говорю, давай.
Пересилив усталость, Рублев с трудом подполз к Бошакову и подал ему бинокль. Но тот велел: