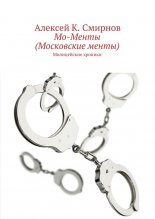Солдат великой войны Хелприн Марк

— Понятно, Hobeit! — Алессандро проорал «Hobeit» во всю мощь легких, так что его услышали в бальном зале, и некоторые танцоры с недоумением посмотрели на пол.
— Избыток усердия ни к чему.
— Вам тоже.
Клодвиг не услышал последней реплики Алессандро, зато услышали итальянцы. Они очень хорошо знали, о чем говорит его тон, хотя Клодвиг пребывал в полном неведении, и думали, что Алессандро или законченный идиот, или отчаянный храбрец.
Клодвиг повернулся к своим помощникам и слегка кивнул — так особа королевской крови могла кивнуть муравью. Потом назвал всех по имени: Либорий, Мамерт, Маркварт, Непомунк, Набор, Одо, Онно, Ратод, Ратвард, Панкратий, Хиларий, Над, Полипарк, Гандольф, Килиан, Кацилия, Сутувнин и Кортельц.
— Это же шутка, — сказал Алессандро.
— Не понял?
— Вы пошутили.
— Насчет чего?
— Это не имена.
Все помощники выступили на шаг вперед, крепко сжимая трости, готовясь пустить их в ход.
— Не надо! — крикнул один из итальянцев Алессандро, но едва закрыл рот, как трость одного из помощников рассекла воздух, и итальянец рухнул на пол, держась за живот.
Клодвиг сощурился и сделал шаг к Алессандро.
— Я собираюсь отправить тебя туда, — рявкнул он, указывая на потолок, — потому что ты красивый. Но не сейчас! — Его улыбка показалась Алессандро безумной. — Так или иначе, ты должен быть послушным. Мы это требуем.
Алессандро моргнул.
— Ну? Можешь ты быть послушным?
Итальянцы затаили дыхание.
— Да, я могу быть послушным, — ответил Алессандро, разочаровав соотечественников. — Я мастер послушания, но в итальянском стиле. Конечно, имея в подчинении столько итальянцев, вы знаешь, что я имею в виду, Hobeit.
— Нет, не знаю, — возразил Клодвиг, с искренним любопытством.
— Хотите узнать?
Клодвиг кивнул.
— Дело вот в чем, — ответил Алессандро, сощурился, шагнул вперед и со всего размаха врезал Клодвигу в челюсть. Вложил в удар всю свою силу и ярость.
* * *
Алессандро висел на цепях, подвешенный к потолочной балке, Клодвиг хлестал его плетью, а оркестр наверху играл «Голубой Дунай». Алессандро знал этот вальс с далекой юности. Слышал его в горных хижинах и танцевал в посольствах.
В Зимнем дворце, с обреченным императором Австро-Венгрии над головой, он висел на цепях, и его избивал слуга-психопат в напудренном парике. Помимо его сестры, все, кого он любил или к кому чувствовал привязанность, умерли, некоторые прямо у него на глазах, в пламени, расстрелянные, зарубленные, взорванные. Сотня итальянцев в пижамах, несомненно, тоже могла подтвердить, мир просто подошел к концу. «Голубой Дунай», невероятно красивый вальс, теперь казался жестоким и неприятным. Будь Алессандро революционером или циником, он бы возненавидел офицеров в белых штанах и золотых галунах и роскошно одетых женщин, которые проплывали в танце над его головой, но ненависти он не испытывал: он пребывал в мире, созданном им самим.
С каждым ударом плети Клодвига комната наполнялась красными и желтыми вспышками, но после удара Алессандро совершенно не менялся. Даже Клодвиг, собиравшийся бить его до того, как тот обвиснет на цепях, был в ужасе, потому что за час порки Алессандро ни разу не вскрикнул.
В какой-то момент он обошел Алессандро, чтобы посмотреть, жив ли тот. Алессандро следил за ним взглядом и улыбался самому себе, потому что знал: он полностью контролирует себя. Не Клодвига, не Хофбург, не войну, не мир, а себя.
На каждый удар, на каждый звук блестящей музыки наверху Алессандро слышал другую музыку, пусть и тихую, за которой уже не было никакой музыки вовсе, и эта другая музыка идеально сочеталась и с танцами наверху, и с пыткой в подвале, потому что соединяла их воедино и в равной степени превращала в ничто. Он содрогнулся, волосы встали дыбом, электрический разряд пробил тело.
— Что такое? — изумленно спросил Клодвиг, потому что, несмотря на льющуюся кровь, Алессандро вдруг запел.
* * *
Штатские редко понимают солдат. Те, кто видел войну, навсегда будут воспринимать ее естественным состоянием мира, а все остальное — иллюзией. Бывший солдат уверен: когда время ослабит мечту мирной жизни и все подпорки уберут, он вернется в состояние, которое его сердце считает родным. Он грезит о войне и вспоминает ее в мирное время, занимаясь чем-то еще. Мир губит его. Он столкнулся лицом к лицу с великим и загадочным, каковым является смерть, но не умер, и не может не задаваться вопросом, почему?
Когда Алессандро достаточно поправился, чтобы работать, Клодвиг пришел к нему и заплакал. Он, как выяснилось, никогда не бил человека, который при этом бы не кричал, и это вызывало у напудренного парика угрызения совести, усиленные близким окончанием войны и великими изменениями в Зимнем дворце.
— Скажи, что я могу для тебя сделать, — спросил Клодвиг, усевшись на кровать Алессандро.
— Для начала, чуть отодвинься.
Клодвиг выглядел печальным и расстроенным.
— Что я могу для тебя сделать? — повторил он.
Алессандро поднес ладони ко рту, потом сложил рупором.
— Мне нужна информация, — прошептал он.
— Информация?
— Имя пилота одного самолета, который летал над горами прошлой зимой, и где его можно найти.
— Пилота?
— Меня восхитило его мастерство. Он потряс нас всех, даже будучи врагом, и я хочу сказать ему об этом лично. Теперь, когда война почти окончена, я с удовольствием пожму ему руку.
— Он красивый?
— Да, — кивнул Алессандро, — очень.
— Тогда я этого не сделаю! — прокричал Клодвиг, его лицо исказилось.
— Не настолько красивый.
— Не настолько?
— Нет.
— Как он выглядел?
— Он выглядел как византийский сосуд, как амфора.
Клодвиг слушал, как зачарованный.
— Его уши напоминали глиняные ручки, лицо пятнали маленькие красные и золотые керамические квадраты. Летел он головой вниз, шасси — кверху, такой храбрец.
— Я этого не сделаю, — ответил Клодвиг. — Все, что ты говоришь о нем, печалит меня.
Алессандро принял отказ Клодвига.
— Но я пришел, чтобы сказать другое. Поскольку ты еще выздоравливаешь, я не заставлю тебя таскать мусор, скрести котлы или убирать навоз. Вместо этого ты будешь убирать подносы из коридоров.
— В каком смысле?
— Во дворце всегда живет много людей, гости, придворные. Когда они что-то просят, когда бы то ни было, днем или ночью, им приносят это на подносах. Иногда они вызывают лакея, чтобы забрать поднос, но чаще делают проще: выставляют поднос в коридор. Нам не нужны лакеи, чтобы забирать подносы. Прежде это делали итальянские военнопленные. Тебе надо быть ниже травы и тише воды, кланяться, если столкнешься с кем-нибудь из гостей или придворных, а когда будешь нести поднос, смотреть ты должен исключительно в пол. Если идешь без подноса и кого-то увидишь, глубоко поклонись и не понимай глаз. Видишь ли, они постоянно трахаются друг с другом, а мы должны оставаться невидимыми и сами ничего не видеть.
— Какая альтернатива?
— Ты когда-нибудь выгребал навоз?
— Допустим, кто-то из этих людей проснется в четыре утра и попросит артишоки и черную икру или суфле из семги. Повара встанут и разожгут печь?
— Повара ждут и печи разожжены. Все наготове. Все исполняется мгновенно. Кухни здесь размером с Палермо.
— Потрясающе, — усмехнулся Алессандро.
— У меня такое впечатление, — сказал Клодвиг, — что король Италии живет довольно просто, даже с какими-то лишениями. Ничего такого у него нет и в помине, верно?
— Верно, — кивнул Алессандро, — но у него есть специальный резиновый трон с электрическими шарами, и шляпы, напоминающие мертвых страусов.
— Электрическими шарами? — Клодвиг наклонился ближе.
— Hobeit, вы знаете, почему вороны черные?
— Нет, никогда об этом не думал.
— Они отвратительные на вкус и черные, чтобы хищники знали, что они вороны и на вкус отвратительные.
— Почему они не желтые?
— Они живут в холодном климате, а черное поглощает тепло. Им не нужен камуфляж, вот они и используют преимущество своего цвета, который вбирает в себя солнечный свет.
— Почему ты задаешь такие вопросы? — спросил Клодвиг.
— Чтобы напомнить вам, Hobeit, что невозможно спорить с природой.
Следующим вечером Алессандро вышел на работу. Зимние ветры достаточно выстудили город, чтобы печи топились и в огромных залах, и в просторных коридорах дворца. Несколько часов один из помощников Клодвига водил его по коридорам. Он обратил внимание, что все, мимо кого они проходили, выглядели потрясенными и удрученными.
Алессандро решил, что такое настроение связано с состоянием империи и началом зимы, но пусть даже до весны погода не сулила ничего хорошего, он не мог понять, почему некоторые женщины плакали, проходя мимо, а некоторых мужчин так шатало, что они едва шли. Он видел, как бьются их сердца, приподнимая сшитые по фигуре рубашки и жилетки.
— Почему все эти люди так подавлены? — спросил Алессандро проводника.
— А ты не знаешь?
— Нет.
— Сегодня Австрия капитулировала. Война закончена.
Алессандро остановился. Подумал о детях Гварильи.
— Какая напрасная жертва. — Он покачал головой. — Когда меня освободят?
— Италия взяла в плен сотни тысяч. Обмен пленными — часть договора о перемирии, и кто знает, когда это произойдет? Произойдет, конечно. Может, весной. Не волнуйся, ты тоже поедешь домой.
— Зачем?
* * *
Алессандро начинал работу в десять вечера и заканчивал в восемь утра. Теоретически ему полагалось быть невидимым ночным портье, который ходил по коридорам в туфлях на мягкой подошве, встречая только полуночников-аристократов, перебегающих из одного номера в другой, но в начале его смены обитателей дворца отличала бодрость духа. Они словно убегали от степного пожара, потому что в десять они были пьяны от бренди и шампанского и в приподнятом настроении после пяти или шести чашек кофе и шоколада.
Такое сочетание тонизирующих субстанций плюс вальсы, разносившиеся по дворам и коридорам, вызывали забытье, в полной мере соответствующее ожиданию завершения одного образа жизни и насильственного начала другого.
Хотя Алессандро предлагалось отводить взгляд, он этого не делал. Он искал глаза, а через них — души всех, кто ему встречался. Половина передвигалась по широким коридорам, мягко отталкиваясь от одной золоченой стены, чтобы проделать долгий путь к другой.
Они проплывали мимо Алессандро, разговаривая сами с собой, или пробегали мимо, часто в слезах, глядя в пол, чего ждали как раз от него. Пение знаменитых сопрано и баритонов, слышное даже в коридорах, оркестры, играющие музыку, сочиненную в те времена, когда империя процветала, шествуя в светлое будущее, пылающие камины и горящие свечи, разговоры на французском и английском среди людей голубой крови, ощущение корабля, идущего ко дну… Алессандро следил за всем с неослабным вниманием.
Хотя эти люди обменивались высокопарными, обтекаемыми придворными фразами, в которых каждому слову отводилась роль жемчужины для ювелира-императора, в час или два ночи, когда музыка смолкала и народ расходился, Алессандро слышал истинный концерт империи: мужчин, разговаривавших, как женщины, женщин, разговаривавших, как мужчины, щелчки задвижек, вздохи, бурчание, пердеж, крики, рыдания, удары плетей, споры, столь яростные, что вызывали мысли о паре черных ягуаров, сцепившихся в изумрудных джунглях, бормотание под нос, какое слышится, если человек в одиночестве беседует сам с собой, потому что даже среди аристократов, а может, именно среди аристократов, война проредила многие семьи.
Им требовались песни цыган и евреев, сицилийские баллады, моравские стенания, музыка сердца, возрождающегося после поражения, а они располагали разве что музыкой исступления и господства, которая, едва взмыв в воздух, пикировала на землю и разбивалась, точно стекло. Военнопленные жили в подземной казарме, и свет проникал в нее только через маленькие окна под потолком. Ряды деревянных коек, накрытых тонкими серыми одеялами, стояли вдоль стен и по центру. Помещение освещали две газовые лампы под выбеленным потолком.
Они много работали, их плохо кормили (одна из особенностей итальянцев — невозможность расцветать на картошке с солью), они лишились морального духа. Большинство попало в плен в первых сражениях, и военные новости до них не доходили. Услышав, что война закончилась и Италия победила, они окончательно впали в отчаяние, потому что для них ничего не изменилось, и они думали, что они до скончания веков будут ходить в пижамах, а садисты-охранники будут их бить и целовать. Когда Алессандро говорил, что до освобождения осталась пара месяцев, они отказывались ему верить.
Манера говорить, независимость характера выделяли его как лидера, и его благорасположения искали и социалисты, и анархисты, которым нравилось раздавать указания и команды и наказывать тех, кто в недостаточно поддерживает их идеи. Наказывали, естественно, против своей воли (наказаниям, думали они, предстояло отмереть, когда в мире воцарятся их идеалы), вынужденно, но с энтузиазмом.
Им препятствовали сильные религиозные чувства среди солдат, живших в подземной казарме. Они верили истово и молились открыто, а воспоминания о доме и мире переплетались у них с церковью и ее священными символами. Ведя пропаганду, социалисты и анархисты превратили казарму в поле боя с религией, и среди вымотанных военнопленных то и дело вспыхивали жаркие теологические дебаты.
Было восемь утра, Алессандро лежал на кровати, ожидая, пока уйдет дневная смена, чтобы поспать, и тут к нему подошла делегация из троицы военнопленных, настроенных доброжелательно, но готовых к идеологическому диспуту. Дискуссию он вел лежа, напоминая больного, окруженного студентами-медиками. Он наблюдал за маленьким красным клещом, который попал в гладкую выбоину размером с ноготь большого пальца в боковом поручне койки. Клещ пытался выбраться, карабкался по гладким стенкам к краю выбоины, но всякий раз падал обратно и принимался разочарованно бегать по дну. Но тут же предпринимал новую отчаянную попытку.
— Ты образованный и храбрый, — обратился к Алессандро глава делегации.
— Правда? — переспросил Алессандро.
— Здесь в самом разгаре серьезная борьба, — заявили они, не умея вести разговор о пустяках, — и мы хотели бы знать, веришь ли ты в Бога.
— Господи Иисусе, — вырвалось у Алессандро.
— Это означает, что веришь?
— Да, — ответил Алессандро.
— Можешь ты доказать его существование?
— Только не разумом.
— Почему нет?
— Разум исключает веру, — ответил Алессандро, наблюдая, как кроваво-красный клещ вновь рванул вверх. — Он сознательно ограничен. Не функционирует, когда дело касается религии. Средствами разума можно достаточно близко подойти к доказательству существования Бога, но абсолютного доказательства не найти. Все потому, что в границах разума ничего абсолютного нет. Причина в том, что разум зависит от постулатов. Постулаты не требуют доказательств, но при этом необходимы для разума. Бог — постулат. Не думаю, что Бог заинтересован в доказательствах Своего существования, следовательно, не заинтересован и я. В любом случае, у меня есть профессиональные причины верить. Природа и искусство преданно вращаются вокруг Бога. Даже собаки это знают.
— Есть способы поспорить со слепой верой, — ответствовал глава делегации. — Мы сможем сделать это позже, но скажи, что, по-твоему, ты получаешь от веры?
— Ничего, — без запинки ответил Алессандро.
— Ничего? Тогда ты действительно веришь?
— Я никогда не воспринимал серьезно религиозные наставления, — ответил Алессандро, — потому что они излагались языком разума. Я спрашивал всех, кого вы только можете себе представить, от монахинь в детстве до епископов, философов и теологов позже, почему вы говорите о Боге языком разума? И они отвечали, потому что Бог обременил тех, кто верит в Него, способностью доказывать Его существование исключительно на языке Его врагов, а доказать Его существование на этом языке невозможно. «Тогда зачем доказывать?» — спрашивал я. Их ответы показали мне, что в Бога они верят не сильнее вашего. Можете вы представить себе группу людей на берегу во время шторма, оглушенных прибоем, с растрепанными ветром волосами, слезящимися глазами, пытающимися доказать существование ветра и моря? Я не хочу больше того, что у меня есть, мне этого достаточно. И благодарен за это. Я не ожидаю ни награды, ни вечной жизни. Понимаю, что мне суждено оставлять очередные куски своего сердца в тех или иных местах, но все равно люблю Бога каждым атомом моего естества, и буду любить, пока не упаду в тьму небытия.
— Ты благодарен за то, что у тебя есть? — спросили они, их губы искривились в горьких улыбках. Потом лидер добавил: — Ты кусок дерьма в подземной темнице, ты сидишь на картошке с солью и служишь умирающим отбросам умирающего мира. За это ты благодарен?
— Да, — ответил Алессандро после короткого раздумья.
— Почему?
— Я знаю, кем я был, что имел, чего мне недоставало. Я закрываю глаза и вижу лица. Даже закрывая глаза, я вижу свет. И я знал человека в Альто-Адидже, миланца, который держался за свою винтовку и после того, как ему отрубили пальцы. Разве это не странно? — спросил Алессандро. — Я верю в Бога безо всякой надежды, в Бога великолепия и ужаса, а вы не верите, потому что хотите, чтобы вас обнадежили, потому что хотите какого-то коллективного духа, как Сам Господь, чтобы знать, что вели себя правильно и не страдали иллюзиями. Вы больше всего боитесь опереться на балку, которая может переломиться.
— Эти иллюзии — твои иллюзии, — ответил глава делегации, — и твое наказание. Если бы ты сумел освободиться от них, почувствовал бы нечто такое, что мог бы понять как божественность. Освободился бы от тяжкого бремени.
— Я освободился бы от бремени любви и прибыл бы к воротам смерти без решимости, без целеустремленности, без борьбы.
— Скажи, — спросил его глава делегации, — зачем решимость у ворот смерти?
— Жизнь так быстротечна, что целиком проходит у ворот смерти, и ценность решимости в том, что она ускоряет жизнь.
— Я нахожу, что понять это трудно.
— Разумеется, находишь, — подтвердил Алессандро. — Разумеется, находишь. Ты не видишь света. Свет ничего тебе не говорит. Не несет для тебя никакого послания.
После их ухода он лежал на своей койке, глубоко несчастный, и пытался думать о Риме, представлял себе розовые здания и светло-зеленые пальмы, солнечные зайчики, прыгающие с крыши на крышу, черные тени под сенью парков, брызги воды, пляшущие над фонтанами под синим небом.
Он пытался, поглаживая лоб и вспоминая себя больным ребенком, когда отец держал его на руках, а мать медленно проводила рукой ему по лбу, найти утешение. Рубашка его отца пахла трубочным табаком, и руки матери говорили ему то, что он не запомнил бы, если б услышал. Высокая температура вызывала судороги, они боялись, что могут его потерять, и уже сделали все, что могли, поэтому просто держали его на руках и гладили по голове. Учащенно дышавший ребенок не отрывал глаз от окна, потому что ставни закрыли, но свет проникал в щели и врывался через трещины.
Снег падал галлюцинаторными серыми полосками за древними окнами дворца, Алессандро сидел за длинным деревянным столом, на котором ели военнопленные. Он и тысячи других злились и приходили в отчаяние от того, что оставались военнопленными, когда война уже закончилась, и думали, что, скорее всего, уедут домой к Рождеству. За окном таял свет, фонари становились ярче и теплее, цветом напоминая янтарь или солнце в Африке. Алессандро медленно ел картошку с солью. Каждому военнопленному давали пол-литра пива, чтобы картошка пахла хоть чем-то, и настроение немного улучшалось.
Он сел поближе к тому месту, где обычно сидели уборщики навоза. Ждал их возвращения из школы верховой езды и думал о побеге. Форма с золотыми галунами и медалями и липпициан[92] позволили бы ему добраться до любого места в столице. Он знал, где находится военное министерство. Мог говорить на пристойном немецком, причем с венгерским акцентом. Ему не составило бы труда изобразить нетерпеливого начальника, потребовать необходимые ему сведения, а получив их, он бы отправился на поиски пилота, даже на дальнюю границу империи. Но большинство пилотов, скорее всего, уже демобилизовались и жили в столице или недалеко от нее.
Размышления Алессандро прервало появление уборщиков навоза. Выглядели они не военнопленными, а рабочими, которых подвергают нещадной эксплуатации. Они почти четыре года выгребали липпицианский навоз и за это время, похоже, уже смирились с тем, что деваться некуда.
Поначалу Алессандро сосредоточился на двоих, которые выглядели более аккуратными и цивилизованными, чем третий, неопрятный гигант с мясистыми красными губами и глазами навыкате, но эта парочка не пожелала и слышать о том, чтобы поменяться работой. А если Клодвиг узнает, а он обязательно узнает? Да и зачем Алессандро это нужно? К чему дергаться, когда до освобождения совсем ничего? Они не пожелали иметь с ним никаких дел.
С неохотой он повернулся к гиганту, от его выпученных, налитых кровью глаз его мутило.
— А ты как? — спросил Алессандро.
— Что как?
— Не хочешь поменяться со мной работой?
— Что надо делать?
— Ходить по коридорам и время от времени поднимать подносы. Можешь доедать оставленный шоколад, креветок, рогалики, послушаешь музыку.
— Что такое креветки? — спросил гигант.
— Морские продукты, — ответил Алессандро.
Гигант поерзал на скамье.
— А смысл? Почему ты хочешь оставить свою работу и взяться за мою? Зачем мне это надо? Тебе-то какая выгода?
— У меня… у меня начинаются жуткие головные боли, если я не провожу какое-то время на воздухе и не даю себе физическую нагрузку. Не люблю я работать под крышей, даже зимой. У большинства людей нет потребности быть под открытым небом, и они высоко ценят мою теперешнюю работу.
— Мне нравится моя работа, — ответил гигант. — Мы можем спать на сене, и никто нас не дергает.
— Вас что, не охраняют?
— Троих-то человек? С какой стати?
— Но вы же можете взять лошадь и ускакать?
— Да кто умеет скакать на лошади? — гигант огляделся. — На что мне это? Я никогда не слышал о креветках. — Его глаза блеснули, насколько могли блеснуть.
Алессандро воздержался от дальнейших вопросов, понимая, что накопившееся внутри может ненароком прорваться наружу. Так человек, раз за разом пересчитывающий монеты, обязательно выронит хотя бы одну.
— А кроме того, — на лице гиганта появилась похотливая улыбка, — ничего в твоей работе не сравнится с тем, что я имею в своей.
— В смысле?
— Клодвиг гомик. Все лакеи гомики. И многие наши парни, проведя столько лет без женщин, теперь тоже гомики.
— Но не ты.
— Не я. — Улыбка стала шире, из уголков рта потекли слюни.
— Потому что ты… ты…
— Что такое, не можешь этого сказать? Может, ты тоже гомик? Говори. Я это делаю.
— Делаешь что? — осторожно спросил Алессандро.
— Сношаю лошадей.
— И жеребцов тоже?
— Разумеется, нет. Только дам. Встаю на табуретку, закрываю глаза и представляю себе, что сношаю Квальяльяреллу, но вот попав домой, я, наверное, уже никогда не смогу опять сношать Квальяльяреллу. Наверное, придется найти работу в зоопарке. Когда-нибудь я поимею самку носорога, а может, и жирафиху.
— Как насчет слонихи?
— Только не слониху. Ни они, ни гиппопотамихи меня не привлекают. Итак? — Гигант самодовольно посмотрел на него. — Что в твоей работе есть лучшего, чем в моей?
* * *
Ночью, когда Алессандро шагал по пустынным коридорам дворца, у него было время обдумать ситуацию. В залах с высокими потолками, такими огромными, что с одного конца он плохо видел другой, черные тени разбавлялись оранжевыми отсветами от пламени в больших каминах. Такие места, по его разумению, могли притягивать призраков.
Между двумя и шестью утра подносы попадались редко, и он без опаски мог — хотя это и запрещалось — посидеть на одном из золоченых стульев, которые встречались по пути. Клодвиг избил бы его, если бы увидел, но Клодвиг и его лакеи вышагивали с такой помпой, что Алессандро слышал их издалека, да и человек движущийся бросается в глаза, в отличие от человека сидящего. Алессандро надо было лишь следить за тем, чтобы не заснуть. Однажды он заснул, и его разбудил лакей, заоравший: «Чего разоспался?» Но лакей обслуживал польскую герцогиню и даже не знал, что Алессандро из военнопленных.
Иногда Клодвиг сам пробегал по коридорам, охотясь на спящих слуг, но Алессандро слышал о его приближении еще до того, как тот заворачивал за угол, и успевал опуститься на колени, делая вид, что собирает крошки под стулом, на котором сидел. Клодвиг всегда щупал сиденье, но Алессандро собирая крошки, дул на обивку, и это срабатывало.
За неделю до Рождества Алессандро — планы побега пошли прахом — стоял в конце коридора длиной с полкилометра рядом с одной из огромных печей, в пять раз выше человеческого роста, белой с золотыми листьями. Восходящие потоки воздуха заставляли плясать языки пламени, и тени метались по стенам и потолку, точно крылья больших черных птиц.
Часы показывали половину пятого утра. За обедом Алессандро и другие военнопленные слышали оркестр, репетировавший за обеденным залом для лакеев. Снова и снова, раз сто пятьдесят, с фаготами, гобоями, флейтами-пикколо, окруженными духовыми и струнными, как певчие птицы — кустами, они играли мелодию швейцарской народной песни, исполняемой йодлем, и теперь Алессандро не мог выбросить ее из головы. Она в полной мере соответствовала холодным туманам и снегу за окнами дворца. И как же ему хотелось отправиться в высокие горы, сверкающие ослепительным льдом, куда он всегда уходил, чтобы сбросить человеческие сомнения.
Чуть покачиваясь взад-вперед, невероятно уставший, со «Швейцарским йодлем» в голове, не дающим покоя душе, он общался с отцом. Как и в жизни, рассказывал новости. Хотя Европа обрела мир, он, Алессандро, оставался военнопленным в форме-пижаме с красными нашивками на манжетах и плечах. Бродил по коридорам австрийского императорского дворца с сумерек до зари, собирал подносы, с которых крал шоколад и креветок, пробовал лучшее шампанское, теплое и выдохшееся, со дна бутылок.
Помимо этого его рацион состоял из картошки и соли. Он спал днем, а ночью играл в «поймай-если-сможешь» с похожим на летучую мышь лакеем в напудренном парике.
Для побега Алессандро требовалось найти способ поменяться работой с человеком, который мечтал о сношении с самкой носорога, украсть одну из самых знаменитых, не говоря уже о том, что дорогих, лошадей, проехать по Вене в присвоенной форме, проникнуть в военное ведомство, говоря по-немецки с венгерским акцентом, а потом добраться до Альп, белых и бескрайних, и пересечь их на своих двоих. Только так он мог попасть в Рим.
* * *
В шесть утра, стараясь подавить видения, вызванные усталостью, двигаясь медленно, чтобы сберечь силы, Алессандро шел мимо теплых подвальных кухонь, где жарились и пеклись тысячи блюд, повара выдавливали содержимое кондитерских шприцов, словно боролись с анакондами, уставшие военнопленные по локоть в теплой мыльной воде оттирали присохшую еду. Им предстояло работать двенадцать или пятнадцать часов, и раннее утро никогда не считалось самым легким временем.
Он проходил мимо кладовых и складов упряжи, мимо плотницкой мастерской и салонов париков, миновал коридор, где сидели легионы лакеев, ожидая звонка, и подпрыгивали, как черт из табакерки, когда на огромной доске из красного дерева начинали дребезжать их звонки. Прошел арсенал, где ровными рядами ждали сотни смазанных винтовок и сверкающих штыков. И перед вымощенным камнем поворотом в длинный тоннель, который в одном направлении вел к Испанской школе верховой езды, а в другом — к Зимнему манежу, он поравнялся с прачечной.
Тридцать медных котлов размером не меньше кареты стояли над языками горящего метана, которые покачивались из стороны в сторону, словно букеты сахарной ваты. В кипящих морях, пойманные под медными куполообразными крышками, плавали платья, рубашки, формы, нижнее белье, пальто, полотенца, постельное белье, скатерти и гобелены империи. Очередь лакеев и служанок, некоторые с корзинками, другие с маленькими тележками, выстроилась к длинному прилавку, за которым с полдесятка приемщиков получали или выдавали множество различных предметов, или прошедших через котлы, или только туда направляющихся. Приемщики то и дело исчезали в темном лесу железных стоек, чтобы вернуться с ворохом одежды или постельного белья. Алессандро встал в очередь, наблюдая за процедурой. От приемщиков его отделяло порядка двадцати лакеев и служанок. Слишком тихим голосом — Алессандро ничего не слышал, женщины называли кодовый номер и вскоре уходили с роскошными шелковыми или бархатными платьями. Очередь двигалась быстро, и Алессандро не знал, что и делать, пока хрупкий лакей не выложил на прилавок яркую форму, сверкающую медалями, и объявил, что оставляет ее по просьбе лейтенанта Фрессера. Невысокий старичок унес форму в темный проход между стойками.
Несколько минут спустя Алессандро стоял перед толстой женщиной с сильными руками и в очках. Старичок исчез в море одежды, так что Алессандро ровным и спокойным голосом заявил:
— Лейтенант Фрессер должен получить форму прямо сейчас.
— Она должна быть готова сегодня? — строго спросила женщина.
— Нет, ее принесли сюда недавно.
— Требуется пять дней, чтобы распороть ее, почистить и сшить заново, — объявила женщина, радуясь тому, что может обучить раба премудростям стирки высшего уровня.
— Лейтенанта Фрессера срочно вызвали в армию.
— Если он не будет жаловаться, что мы не успели закончить. — И женщина не сдвинулась с места, пока Алессандро на это не согласился, а он нарочно не спешил.
Потом она исчезла и вернулась с формой, которую подняла точно новорожденного.
— Она?
— Да. Вот его медаль за битву у Сборники-Сетаслава.
Алессандро поспешил прочь. Отметив, что форма, похоже, его размера, скрутил ее, сунул под мышку, вернулся в пустую казарму, положил под матрас, где она была в большей безопасности, чем королевские бриллианты. Ну кому придет в голову заглянуть под матрас итальянского военнопленного?
Алессандро выпил воды, почистил зубы и улегся на кровать. Через месяц-другой, может, к весне, его бы обязательно освободили. Ему, однако, хотелось покинуть Зимний дворец не в серой колонне военнопленных, а на белом коне. Хотелось проехать по Австрии и пересечь горы не в вагоне третьего класса, но опередив остатки отступающей австрийской армии.
Он знал, что война еще в нем и останется надолго, потому что солдаты, пролившие кровь, солдаты навсегда. Им уже не подойдет мирная жизнь. Даже если они где-то и осядут, их замучает скука, а закрывая глаза, они будут видеть своих погибших друзей. Этого они не смогут забыть, не забудут никогда, не позволят себе полностью залечить раны войны, именно так будут выражать любовь к друзьям, которые не дожили до окончания войны. И они не переменятся, потому что стали такими, оставшись в живых.
На одном из верхних этажей находился длинный коридор с привычной печью в каждом конце. Поскольку туда вела спиральная лестница, а находились в этой части этажа только три многокомнатных номера, использовались они редко. Селили там гостей невысокого ранга, и они знали, что не должны путаться под ногами. Обычно эти люди приезжали из далекой провинции и ложились спать рано. Зачастую коридор оставался в полном распоряжении Алессандро от сумерек до зари.
Он бесстыдно спал на ковре и набивал печь углем, пока она не раскалялась добела. Пламя отражалось от разрисованных морозом стекол, от ангелов под потолком. Они подмигивали, их крылья подрагивали, точно крылья колибри, и по стенам бегали магические тени. И снег, бьющий в окна, а потом исчезающий, напоминал галлюцинации заключенного, страдающего от меланхолии и усталости.
Алессандро проводил много часов, мечтая о Риме и юге, шея болела от усилий, которые он затрачивал, чтобы держать голову, чтобы его глаза, казалось, могли уловить невидимый свет воспоминаний. Через него будто шли электрические разряды, и, будь он из металла, от него летели бы искры. Такое случалось с часовыми на Изонцо, когда призраки и видения приходили к ним в предрассветные часы, сердце бешено колотилось, глаза широко раскрывались, словно читая невидимую книгу.
Примерно в три утра, когда снежинки кружились за окнами, словно морские брызги на картине, изображающей шторм, Алессандро услышал тихую музыку, доносящуюся из одного номера. Она становились все громче, словно те, кто ее играл, сначала боялись, что получат нагоняй, а потом постепенно освоились.
Такой музыки Алессандро слышать не доводилось. Он не узнавал ни инструментов, ни мелодии, создавалось впечатление, будто она доносится с огромных и безжизненных равнин другого мира. Он подумал, что ему это снится.
Приближаясь к источнику звука, чувствовал себя таким уставшим, что пытался вспомнить собственное имя и не мог, словно только наполовину проснулся от зимней спячки. Ему запретили смотреть на гостей двора, не говоря уже о том, чтобы заглядывать в номера без приглашения, но он повернул ручку и тихонько вошел, защищенный только вопросами и предложениями, вроде: «Вы послали за мной, чтобы забрать грязную посуду?» или «Шеф рекомендует сегодня суфле из семги».
Оказавшись в прихожей, он уловил особый дымок, заставивший все его органы чувств бить тревогу и требовать возвращения в коридор. Но он выиграл эту борьбу и прошел в гостиную, откуда и доносилась музыка, теперь громкая, охватывающая со всех сторон, невероятно завораживающая.
Под облаком сизого дыма, висящего в комнате, несмотря на окна, открытые настежь, так что на пол сыпался снег, трое музыкантов, скрестив ноги, сидели на персидском ковре. Индусы, турки, а может, и цыгане, с инструментами странных пропорций и в форме луковицы, какую давно уже забыли на Западе. Украшенный орнаментом гриф струнного инструмента длиной не уступал росту человека, который на нем играл, а основание выглядело как тыква. Это и была тыква. Барабаны звучали резко и отрывисто. Не гремели, звуком напоминая не орудийные залпы, а быстрый перестук козьих копыт. Алессандро не мог понять, для кого играют музыканты? Для себя? Для какого-то аристократа? Для сатира, который развлекается за ширмой с египетскими сексуальными игрушками? Оглядев комнату, Алессандро не увидел ничего, за исключением большущей платформы вроде бы с грудой одежды, снятой с погибших в бою. Удивился, каким образом эта груда могла попасть в гостевой номер Хофбурга, занятого индийскими музыкантами, играющими под облаком опиумного дыма. Может, подумалось ему, это религиозный объект, святыня, как Кааба в Мекке. А может, шатер, в котором развратный австрийский аристократ лежит, попыхивая кальяном или растлевая кузину.
Потом шатер двинулся, сместился слева направо, назад, поднявшись по центру, прежде чем опасть, Алессандро осознал, что с того места, где он стоит, он видит перед собой чей-то затылок. Думая, что это мужчина или женщина сидит на стуле под каким-то навесом, двинулся в обход, чтобы взглянуть на лицо. В этот самый момент колонна синевато-белого дыма вырвалась из ноздрей.
И когда Алессандро оказался лицом к лицу с человеком, который выдохнул дым, у него отвисла челюсть. Это существо — что-то огромное — сидело на стуле, который чуть ли не полностью исчез под ним. Груда одежды оказалась всего лишь несколькими плащами, наброшенными на женщину, которая держала в правой руке конец трубки, ведущей в емкость с водой. Ее левая рука чуть подергивалась, повиснув в воздухе, большущая, вся в жировых складках.
В одном из эссе Алессандро написал, что лицо невозможно описать словами и даже изобразить скульптурно, что это исключительно вотчина художников, потому что оно полностью зависит от бесчисленных вариаций света и цвета, для которых у языка не хватает слов, а у скульптуры нет форм. У языка нет ни малейшего представления о бесконечных углах и пересечениях, образующих улыбку, не только в словах, но и в цифрах. На десяти печатных страницах Алессандро рассуждал о беспомощности фотографий и многих картин, об ужасном несоответствии статуй и посмертных масок, даже несоответствии в смерти лица самому себе. Только великие художники могут передать лицо, утверждал он, а поэтам нечего и пытаться.
Через секунду, однако, стоя перед этим необъятным существом, он осознал, что если и прав, то не полностью. Теперь он видел, оцепенев от потрясения, что лицо, пожалуй, можно совершенно адекватно описать словами, передать фотографией или посмертной маской… если только оно достаточно уродливо. Подбородок отсутствовал. Зато челюсти поражали размерами. Нижняя, покрытая дряблой кожей и бородавками, из которых росли жесткие черные волосы, напоминала балкон в опере. Бледные десны кровоточили, потому что зубы боролись друг с другом, лежали, точно скрещенные мечи или распростертые тела, наклонялись внутрь и изо рта, пытались закрыть пространство между ними. Да, по отдельности они восхищения не вызывали, напоминая клавиши пианино или фишки для маджонга, только черные и коричневые, а от некоторых остались лишь обломки, словно их взорвали динамитом.
И с этого уродство только начиналось. Большие мясистые губы выглядели как губчатые бамперы портовых буксиров, и изнутри на розовом виднелись кровоточащие трещины и струпья. Крылья поросячьего носа раздувались от затрудненного дыхания, глаза до такой степени вылезали из орбит, что Алессандро в ужасе подумал, что они сейчас вылетят в него, точно пробки из бутылок шампанского.
И тут он задрожал от благоговейного трепета.
— Я тебя знаю, — прошептал он, думая, что все-таки грезит.
— Я прячусь, но многие меня знают, — ответила она заторможенно из своего опиумного или гашишного транса.
— Ich traumte, ich tanzte mit einem Schwan! — процитировал Алессандро. — Мне снилось, что я танцую с лебедем! Er hatte die wunderbarsten flauschigen Polster an dem Fussen. У него были такие удивительные белые пушистые подушечки на лапках. Und er war auf einem Mondstrahl in mein Zimmer gekomme. И он вплыл в мою комнату на лунном луче.
Она шевельнулась. Казалось, она пытается что-то вспомнить, но, то ли находясь под действием наркотиков, то ли тронутая воспоминаниями тех далеких дней, когда она была — относительно, естественно, — сильфидой, ничего не сказала.
Не зная, что еще прибавить, Алессандро все же пытался продолжить разговор, но ему удалось только выдавить из себя вопрос: «Сколько вы теперь весите?»
Тень пробежала по ее лицу.
— Пятьсот шестьдесят кило.
— Но спиральная лестница…
— За окном есть балка, крюк и блок, — тут она склонила голову, насколько могла, от стыда. — Там был ты? — спросила она.
Алессандро кивнул.
— Я помню. А теперь ты военнопленный, пусть даже война закончилась.
— Думаю, да, да.