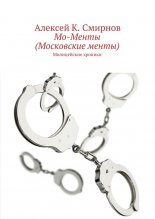Солдат великой войны Хелприн Марк

Лошадей подбрасывало в воздух на гейзерах крови вперемешку с грязью в клубах дыма, переворачивало, и на землю они падали уже спиной вниз — мертвыми. Людей разрывало на куски, превращало в ничто или ударной волной вколачивало в землю. Некоторые, кому осколком пробило щеку или плечо, пошатываясь, брели в поле, но многие, даже раненые, поднимали винтовки и палили по самолетам.
Окровавленные лошади метались по снегу. Некоторые волокли за собой убитых всадников, чьи ноги застряли в стременах. Другие хромали, тяжело дыша. Когда мимо проскакала лошадь, таща за собой убитого улана, Алессандро увидел, как второй с конца самолет сбрасывает бомбы. Они камнем полетели вниз и пробили стену лазарета, в окне которого секундой раньше он видел Ариан. Дом начал складываться, полетела белая пыль, и тут бомбы взорвались. Дом в три раза вырос в размерах, разлетелся на части, а на его месте возник шар оранжевого огня, который завис в воздухе на невероятно долгое время. Но все-таки схлопнулся, и языки пламени заплясали уже у самой земли. Там, где только что стояло здание в два с половиной этажа, теперь остались яростно пылающие руины высотой в какой-то метр. Алессандро пришлось прикрыть руками глаза, чтобы защитить их от слепящего жара.
Самолеты, вновь на бреющем полете, возвращались назад. Летели вдоль колонны, поливая из пулеметов в тех, кто остался в живых. Пули ударяли в землю, в мертвых лошадей, в стены. Только теперь пулеметные расчеты сумели изготовиться и открыли огонь.
Алессандро охватила невероятная скорбь. Наказание было слишком велико. Оно заключалось в том, что Бог бросил его на поле боя и тем самым избавил от смерти.
Грузовик для перевозки орудий с маленьким грузовым отсеком полз по залитым солнцем лесам, крутым серпантинам дорог, через зеленые долины, где горные речки спешили на встречу с Адидже. У дороги, по которой то и дело провозили гаубицы или маршировали колонны пехоты, деревья пели на ветру и раскачивались из стороны в сторону, не замечая происходящего.
Алессандро стоял на правой подножке. Ветер и солнце обжигали лицо. И хотя он скользил над самой землей, у него создавалось ощущение полета, а когда они проходили крутые повороты серпантинов, он зависал над пропастью глубиной в добрые пятьсот метров, не видя ничего, кроме тяжелых перламутрово-серых облаков. Сосредоточенно вглядываясь вперед, водитель в больших защитных очках удерживал машину на дороге. Время от времени боковым зрением видел пассажира, стоявшего на подножке и ухватившегося руками в меховых рукавицах за никелированный кронштейн зеркала заднего обзора.
Когда они подъехали к лесу, где погиб миланец, Алессандро повернулся, чтобы оглядеть деревья. Бригады сменили диспозицию, лес опустел. Трактор проехал по временному мосту, проложенному поверх австрийских окопов, и, натужно ревя двигателем, начал подниматься на гребень. Дальше, если не считать нескольких пригорков, где летом, защищенные от ветра, росли дикие цветы, территория оставалась ровной до самой Чима-Бьянки. Они неспешно продвигались вперед, а впереди сверкала снежная шапка самой Чима-Бьянки. Но некоторые вспышки на нижних отрогах горы не имели никакого отношения к солнцу: определенно то было делом человеческих рук.
— Что это за вспышки ниже уровня снега? — спросил Алессандро.
Водитель повернулся, с радостью ухватившись за возможность поболтать.
— Какого уровня снега? Тут снег везде.
— Тогда под уровнем ледников, — уточнил Алессандро.
— Вспышки из орудийных дул, — прокричал водитель. Силой ветра половину его слов уносило обратно в легкие. — Австрийцы стреляют из орудий прямо, и снаряды падают на наши укрепления. Траектория та же, что и при стрельбе на ровной местности, только здесь не ствол орудия направляется вверх, а земля идет под наклоном.
— Понятно, — кивнул Алессандро.
— Скажем так, не орудие поднимается, а цель опускается. Орудия стреляют прямо, поэтому с такого расстояния мы смотрим в дуло. Им нравится стрелять во время обеда. У них обед раньше нашего, это всего лишь перекус, вот они и стараются испортить нам аппетит. Обстрел продолжается минут пятнадцать, потому что они не могут позволить себе тратить много снарядов. Сам понимаешь, как сложно доставить снаряды на такую высоту.
Алессандро слушал вполуха, но водитель продолжал.
— В общем, они стреляют раз в несколько минут — просто чтобы не давать нам покоя. В бинокли они видят нас как на ладони, знают, когда мы едим, и целятся в наши полевые кухни, но мы заказали в Больцано трубы и теперь отводим дым от тех мест, где готовится еда. Австрийцы стреляют по дыму, а мы едим без помех. Я проголодался. Неподалеку есть хорошее местечко для остановки. У тебя есть еда? — Алессандро не ответил, и водитель переспросил, уже громче: — У тебя есть еда?
— Да. Бутерброд и термос с чаем.
Они остановились на поле, укрытом от ветра и заваленном мертвецами. Водитель развернул свой завтрак и присел на подножку, Алессандро разлил чай из термоса. Взял кружку с дымящимся чаем, отхлебнул. Потом поставил кружку на капот, надел рукавицы. Под легким ветерком вышел на середину поля.
Из-под снега торчала желтая трава, которую никто не скосил прошлым летом. Трупы в форме — после боя не прошло и двух недель, — лежали по одному и группами. Немцы, австрийцы, венгры, итальянцы. Некоторые погибли в рукопашном бою, но большинство — от пуль, когда бежали по полю к окопам на каждой стороне или от осколков артиллерийских снарядов. Они лежали в неестественных позах. Спящий не мог бы принять такой позы: изогнув шею, ссутулив плечи, зарывшись головой в снег. Даже те, кто лежал на спине, не выглядели спящими, потому что смотрели в небо широко раскрытыми глазами с отвисшими от изумления челюстями.
Три сотни отцов, братьев, сыновей лежали на этом поле. Их семьям сообщили, что они пропали без вести. Если бы близкие знали, что с ними произошло, каждый труп увезли бы, нежно омыли водой, грязные щеки целовали бы, руки гладили бы родители, дети, жены. Но они лежали под открытым небом и разлагались, как ветки.
Хотя регулярная армия все еще оставалась на равнине у подножия Чима-Бьянки, и по ее частям стреляли орудия, не давая солдатам спокойно поесть, альпийские стрелки вгрызлись в восточный склон и начали войну среди гор.
Здесь, в разреженном воздухе и на голой, без единого деревца, земле, где одно неосторожное движение могло стоить жизни, шла другая война. Это на уровне моря, где в воздухе хватало кислорода, воюющие державы использовали миллионы солдат, которые ни в чем не знали нужды, да им еще помогали чудовищные машины, которые ездили по рельсам, летали над землей, плавали по воде. Здесь все сводилось к считаным единицам, которым приходилось затаскивать на большую высоту охапки дров и вещмешки с амуницией. Чтобы доставить один снаряд для мортиры, выстрелить который — секунда, а вероятность попадания в цель чуть ли не нулевая, одному сильному мужчине целый день приходилось карабкаться в гору.
Жилые помещения зачастую балансировали над пропастью, а то и просто подвешивались на тяжелых цепях, которые приносили команды альпинистов. Каждый погонный метр доски, ложка сахара и капля керосина доставлялись по железной дороге, в кузове грузовика, на спине мула, в вещмешке человека. Окопы вырубали в доломите вручную — на холоде и в таком разреженном воздухе, что вновь прибывшие поначалу едва не теряли сознание. Но, пусть в воздухе и ощущался недостаток кислорода, ветра хватало с лихвой. Иногда он набирал такую силу, что аванпосты в прямом смысле сдувало в пропасть. Ветер мешал и меткой стрельбе, но это как раз значения не имело: враг находился на очень уж большом расстоянии, и огонь вели лишь для того, чтобы показать, что та или иная высота или гребень достигнуты или заняты. Война здесь велась не столько между армиями, сколько между каждой армией и территорией, и проверка заключалась в умении не победить противника, а добраться до него.
Восточный склон Чима-Бьянки являл собой нагромождение гребней, вершин, долин — прямо-таки неземной ландшафт, который еще и выглядел обманчиво, не давая определить точное расстояние до того или иного места. Отвесные стены, уступы, небольшие ледники, белые от снега плато казались то очень уж близко, то вдруг невероятно далеко. Даже постоянная сверка с картой не останавливала землю от непрерывных изменений. Едва начинало казаться, что ты определился с взаимным положением двух ориентиров, и ты отходил на другое место, все разом становилось иным. Точность карт оставляла желать лучшего, и суждение, вынесенное при сравнении указанного на карте и увиденного глазами, обычно оказывалось таким же неверным, как и сделанное на основе только виденного.
В мирное время изменчивость горного ландшафта имела какое-то значение лишь для заблудившихся групп спортсменов: им приходилось растягивать запас пищи на несколько лишних дней, которые уходили на обратную дорогу. Иногда альпинисты выбирали неправильный маршрут и теряли кого-то из своих под лавиной или от холода, но такие трагедии случались редко.
Война все изменила. Героические усилия требовались для того, чтобы захватить ту или иную вершину, а когда битва заканчивалась, солдаты, которые шли вперед, вдруг обнаруживали, что на самом деле они отступали или они и их друзья страдали и умирали, чтобы оставить за собой бесполезный клочок земли, далекий от любой стратегической цели. И битва затихала от осознания, что все происходящее слишком напоминает сон, ибо горстки людей, сражавшиеся за вершины и долины, не просто выполняли волю Рима или Вены, но становились игрушками времени, пространства и альпийского воздуха.
Когда Алессандро прибыл в штаб бригады, чтобы узнать, где ему назначено сражаться с врагом, ему пришлось ждать у бункера, где майор, которому предстояло решить его судьбу, определял судьбы людей, прибывших раньше. Он просидел на скамье рядом с вещмешком пять или шесть часов под яркими лучами солнца, которые отражались от каменной стены за его спиной. Такое тепло он ощущал только в Сицилии.
Каждые полчаса появлялся штабной сержант и говорил Алессандро, что надо подождать еще полчаса. Наконец, после десяти таких заявлений, ни в одно из которых Алессандро не поверил, сержанту стало неудобно, и он решил проявить дружелюбие.
— Хочешь покажу кое-что интересное? — спросил он и двинулся в обход бункера. Алессандро подхватил вещмешок. — Нет, оставь здесь. Это рядом.
Они поднялись по лестнице на обложенную мешками с песком огневую позицию, где вахту нес туповатый часовой, которого солнце прожарило до цвета копченого бекона. Он едва шевельнулся, даже когда на позиции появились двое посторонних.
В круге мешков с песком стояла мортира и две тяжелые металлические стойки. На одной крепился зенитный пулемет, на другой — бинокль в рост Алессандро. Сержант снял металлические колпачки с окуляров и передних линз, развернул бинокль в нужную сторону, потом отступил на шаг и предложил Алессандро взглянуть. Бинокль был нацелен на гребень, расположенный в трех-четырех километрах от штаба бригады.
Прильнув к окулярам, Алессандро, словно по волшебству, увидел группу людей на бруствере окопа. Одни ели, другие разговаривали, третьи разглядывали долину в обычный бинокль и подзорную трубу, установленную на треноге. Все в меховых плащах, словно принадлежали к одному монашескому ордену, а когда они ходили вдоль окопа, ветер раздувал полы. С винтовками за спиной, с лицами, скрытыми глубокими капюшонами, они не выглядели живыми людьми.
— Это враг, — объяснил сержант приникшему к биноклю Алессандро.
— Почему они так закутаны? — спросил Алессандро.
— Они располагаются выше, а там холоднее.
— Это немцы?
— Немцы, венгры, болгары, кто их знает, но ты можешь поглядеть на них вблизи.
— На кого?
— На врагов.
— Думаешь, они так близко?
— Можно разглядеть даже пальцы у них на руках.
— Ты соприкасался хоть с одним из них? — спросил Алессандро.
— Соприкасался? Разумеется, нет. Так близко к ним не подберешься.
— А мне случалось. Их кровь окатывала меня, точно теплый душ. Я знаю, как они пахнут, видел пломбы у них в зубах.
— Ты что — дантист? — изумился сержант.
— Нет, — сказал Алессандро. — А ты?
Майор выглядел аристократом. Алессандро подумал, что он мог быть сыном поклонника Мафусаила, который жил на вилле, чудом уцелевшей при потопе. На стенах висели картины, в библиотеке хранились книги на латыни и древнегреческом. Майор читал их и впитывал знания, дистанцируясь от большей части человечества, пока все-таки не влился в него. И теперь сидел перед ним, богатый, утонченный, великолепный, в зеленой, с красным перышком, фуражке альпийских стрелков и просматривал какие-то бумаги в бункере на высоте двух тысяч метров над уровнем моря.
Будучи ветераном многих поединков, Алессандро не мог не спровоцировать оппонента.
— Сколько десятков пыльных томов на греческом и латыни вы прочитали, пока вокруг колыхалось болото, насекомые жужжали над мраморными мавзолеями, а моль ела твидовые охотничьи куртки вашего отца? — спросил он, не удосужившись отдать честь.
Рот майора открылся. Он словно всасывал холодный воздух, чтобы принести облегчение только что обожженному языку.
— Чего? — переспросил он, забыв про военный устав точно так же, как и рядовой, вошедший в бункер с видом генерала, командующего этим сектором.
Зная, что майор слышал каждое слово, Алессандро сел, не отрывая от него глаз, и продолжил:
— Вы стреляли по тарелочкам из английского ружья, так? Вы научились пить аквавит и читаете Апулея. Ваш отец все время тревожился, что фундамент виллы разваливается, а у него нет сил сгрести опавшие листья. Он был убежден, что они могут послужить причиной отравления, если гниль попадет в источник воды.
— Мой отец?
— Седые baffi[72] и выпученные глаза. Он носил халаты и писал ручкой из черного дерева и золота. Вы не помните? На болоте.
— Мой отец был инженером, — защищаясь, ответил майор, его голос начал набирать силу. — Мы жили в квартире на виа Колы ди Риенцо. Какая еще моль ела его твидовые охотничьи куртки? Не было у него никаких твидовых охотничьих курток.
— Откуда мне знать гардероб вашего отца? — негодующе вопросил Алессандро. — Или вы видите во мне его портного?
— Ты первым упомянул про твидовые охотничьи куртки.
— Я высказал догадку, основываясь на доступных мне сведениях.
— Каких еще сведениях?
— Вашем лице.
— Ты кто вообще такой? — удивленно спросил майор. — Ты даже не отдал честь. Сидишь тут на моем стуле.
— Та моя часть, что находится повыше ног и пониже талии, со стороны спины, разделенная на две половинки и круглая, устала, — ответил Алессандро.
— Ты понимаешь, — спросил майор, наклоняясь над столом, — что людей расстреливали и за меньшие нарушения субординации?
— Нет, я этого не понимал, но в «Звезде морей» они дохли у меня на глазах, как мухи. Постоянно. — Прежде чем продолжить, Алессандро откашлялся. — Меня тоже пытались расстрелять, но промахнулись, или меня в последний момент вывели из строя. Как это случилось? Не имеет значения. Я узнал слишком поздно, понял после того, как уже ничего не мог изменить, что я неуязвим. Это, конечно, не аура, а комическая неуязвимость.
— Комическая неуязвимость?
— Да. Это шутка. Мне выдан laissez-passer[73], и я наблюдаю, как других разносит в клочья. Это все дело рук этого ублюдка, этого карлика Орфео. Он за всем этим стоит.
— Не понял.
— Вы думаете, Джолитти[74] и кайзер ведут эту войну? Франц-Иосиф?
— Не они?
— Всем рулит карлик, от первого выстрела до последнего, карлик Орфео Кватта. Если бы я только знал! Вы и представить себе не можете, сколько он подписал несправедливых, неоправданных, произвольных приказов на расстрел. Он бросал в костер целые бригады. Я не верил ему, когда сидел рядом с ним, переписывая португальский контракт, но он, скорее всего, говорил правду. Он говорил мне, что один из писцов моего отца, туринец по фамилии Сандуво, нашел способ заставлять кур откладывать по семь яиц в день. Курам играли на клавесине какое-то рондо и натирали их несмываемыми чернилами. Орфео собирался украсть этот способ и начать разводить кур, но боялся, что Сандуво, узнав об этом, его убьет, поэтому Орфео решил первым делом убить Сандуво. Разумеется, Сандуво шутил, но, думаю, это не остановило Орфео.
— И убил?
— Сандуво выловили из Тибра. Он ударился головой и утонул. Хотя, скорее, по голове его ударили.
— Какое это имеет отношение…
— Мне следовало убить Орфео еще тогда. Просто не пришло в голову. Когда он высунулся из окна, чтобы бросить монетки мнимым оперным певцам из Африки, я мог его столкнуть. Мир бы сохранился, и все, кого я любил, остались бы живы. Я бы ходил с вечеринки на вечеринку, переспал бы с четырьмя сотнями иностранок, как Фабио, и плавал бы на весельной лодке по Тибру. Читал книги и старел, наслаждаясь едой и питьем. Осенью прогуливался бы по виа Колы ди Риенцо в твидовых охотничьих куртках вашего отца с проеденными молью дырами.
Поскольку майор не знал, что и думать, он достал сигарету из алюминиевого, выданного армией, портсигара. Предложил Алессандро, получив отказ, щелкнул армейской зажигалкой, закурил и задумчиво уставился в потолок бункера.
— Пол его стенного шкафа, пусть и обшитого кедровыми досками, усеивали катышки моли, — добавил Алессандро.
— Почему ты насмехаешься над моим отцом? — спросил майор.
— Я любил вашего отца, — ответил Алессандро. — Он был таким же, как мой собственный. Как я же могу насмехаться над ним? Я насмехаюсь только над собой.
— Почему?
— Почему? Потому что, стоит мне к кому-нибудь привязаться, как этот человек умирает.
— Даже свежее пополнение, которое мне присылают, испытывает усталость от войны.
— Нет у меня никакой усталости от войны, — рявкнул Алессандро. — Меня воспитывали и готовили для битвы. Я больше двух лет на передовой. Я не устал. Я не боюсь. Я не лишен здравого смысла. Наоборот. Я причина смертей, и не только в сражениях. Если уборщица умирает в своей постели в Трастевере, солдат гибнет при разрыве артиллерийского снаряда, африканский вождь умирает от заражения крови, вызванного укусом страуса, все это одно и то же, так? Зачем проводить разграничения? Сомневаюсь, что это дело рук Бога. Для туриста в Пинакотеке Брера все картины одинаковы, как бы они туда ни прибыли, на поезде, на лошади, в автомобиле. Я не устал. Просто негодую из-за всех этих смертей.
— Это плохо. И что ты намерен делать? Ты не можешь оживить мертвых.
— Знаю. Пытался.
— Не понял. Ты пытался?
— Что ж, дело ясное, — кивнул Алессандро. — Полагаю, вы думаете, это иррационально. Так и есть. Но рациональное в ходу только в материальном мире. Но почему я должен ограничивать себя рациональным?
— Потому что тебя не поймут, если не ограничишь.
— Наоборот. В любом случае благоразумие иррационально, и те, кто рационален, на самом деле иррациональны, как и все остальные.
— Что?
— Вы человек современный. Наверняка. Вы признаете теорию эволюции, так?
— Ну да.
— Естественно, это основа вашего мышления. И теория энтропии, вы ведь с ней знакомы?
— Да, знаком, — подтвердил майор.
— И тоже признаете ее?
— Не знаю.
— Большинство признает. Они думают, что то, что справедливо для реальных физических процессов, можно приложить и к космологии.
— Что приложить?
— Только это. Вы верите в теорию энтропии, которая утверждает, что все процессы стремятся перейти на более низкий уровень организации и энергии, и в эволюцию, заявляющую, что история жизни — переход от простого к сложному, то есть с точностью до наоборот. Такие люди, как вы, верят в обе эти теории. Это de rigueur[75]. Такое благоразумие рационально? Я говорю, да пошли вы. Всю жизнь я посвятил возвращению мертвых только для того, чтобы понять, насколько это бессмысленно.
— Что ты делал, устраивал сеансы? Ты мистик?
— Я учился концентрировать силы и чувства и пытался соединять их, как музыку, как песню, с собственной жизнью, превращать во что-то новое. Это и песня, и не песня, нечто, имеющее собственную жизнь, движущееся в своем направлении и утягивающее тебя за собой. Я не играл на музыкальных инструментах, но изучал теорию музыки и знаю постулаты Аристотеля[76], и музыка невероятно меня трогает. Я не играю ни на чем, за исключением барабанов, на которых может сыграть каждый, и не сочиняю музыку.
— Ох, — прервал его майор, обмяк на стуле, застыл.
— Я критик. Я пишу эссе о произведениях искусства. Это то же самое, что быть евнухом в гареме, но безответная любовь самая сладкая, и я держу положенную дистанцию. Я могу вбирать в себя критерии красоты, которые меня учили находить, запасать их, а потом усилием воли выдавать со скоростью пулеметного огня в любой угодной мне последовательности. Образы, тысячи, сотни тысяч образов. Мое поле деятельности — эстетика живописи. Из уважения к ней я держу в голове образы, сжатые в крошечные квадратики, такие, как миниатюры Одериси да Губбио и Франко Болоньезе, словно маленькие почтовые марки. Каждая сияет. Все равно, как вы смотрите в огневую камеру через глазок или в одно из этих пасхальных яиц с картинками внутри или наблюдаете за ярко освещенной и далекой частью города в телескоп с искрящимися линзами. В каждой рамке густо-красное, зеленое, темно-синее, цвета, которые итальянцы не научились смешивать так же хорошо, как англичане и датчане, хотя мы в совершенстве овладели всеми другими цветами. Когда я прокручиваю их перед мысленным взором — «Портрет Биндо Альтовити», «Бурю», птиц, другое, дарованное мне не только художниками, но и солнцем, когда оно садится или светит на здания цвета шафрана, виды идеально спланированных площадей, галерей, внутренних двориков — я вижу нечто живое, как песня, и в песнях, которые поднимаются в моей памяти, будто вращающиеся столбы дыма, из темноты оперных залов в свет прожекторов, чтобы вращаться в пустом пространстве наверху, я вижу лица людей, которых люблю, лица моих родителей, Гварильи и Ариан… и они почти живые.
— Но они не живые.
— Нет.
— Почему?
— Мои образы не годятся для воскрешения мертвых. У искусства нет предела, кроме этого. Вы можете подойти завораживающе близко, можете сжаться под его ударами, но вернуть мертвых в мир живых вам не удастся. Бог словно высвободил силы искусства, чтобы человек мог подойти вплотную к Его владениям, оказаться на грани понимания Его намерений, но в самый последний момент Он захлопывает дверь тебе в лицо и говорит, оставь это мне, а все, что тебе открылось, это урок. Увидеть красоту мира все равно что положить руки на направляющие, которые тянутся, не прерываясь, сквозь жизнь и смерть. Прикосновение к ним дает надежду, что, возможно, кто-то по ту сторону, если та сторона существует, тоже касается их.
— Кто такая Ариан? — спросил майор.
Алессандро словно не услышал. Повернулся к двери, посмотрел на прямоугольник синего неба в дверном проеме. Майор выдвинул ящик стола и достал револьвер в кобуре, обмотанный кожаным ремнем.
— Ты не офицер, — сказал он Алессандро, — но, пока ты будешь служить под моим началом, можешь носить личное оружие. Это кольт.
— Почему? — спросил Алессандро.
— Из-за того, куда я собираюсь тебя послать. Надеюсь, что там ты будешь меньше думать об искусстве и больше — о войне, чтобы ты смог пережить войну и провести остаток жизни, думая об искусстве. После того как привыкнешь к высоте после долгих маршей и спусков в долину, я собираюсь послать тебя в такое место, где ты станешь самым далеко продвинутым на север итальянским солдатом на всей линии фронта. Никто не будет воевать выше тебя, и никому не будет так одиноко.
— Почему?
— Потому что, — ответил майор, — именно этого ты и хотел. Пришел сюда, чтобы просить меня об этом.
Возможность видеть из одной точки весь мир, такой огромный и такой синий, поражала. Небо вокруг синевой и глубиной ничуть не уступало небу над головой, а внизу облака, бегущие к горизонту, напоминали белый пол. Алессандро казалось, что он на небе, а не под ним. Поэтому, хотя и не только, чуть ли не постоянно у него было ощущение полета — он чувствовал не головокружение и не непрерывное движение, а какую-то ауру легкости, отъединенности и покоя. От голубого льда отражался холодный и ослепительный свет. Сливаясь со светом неба, он приковывал внимание и вызывал восторг, и казалось, что привычный мир канул в небытие, а он, Алессандро, перешел на другой, более высокий уровень, где даже свет не такой мягкий и теплый, как внизу.
Тридцать человек вместе с Алессандро разбудили в темноте, в час ночи, и собрали на плоском снежном поле у лагеря. Разбившись на группы по пять, они привязались друг к другу веревками и проверили амуницию. Помимо необходимого для скалолазания, взяли с собой дневной запас еды, керосин, оружие. Некоторые получили дополнительный груз в виде электрических фонариков, мотков веревки, колец и крюков на случай, что ранее вбитые в скалу потребуют замены. И, разумеется, каждый нес винтовку, штык, ледоруб, петли, альпийский молоток и кошки.
Алессандро при подъеме никогда не тащил на себе такой вес. Отдельную лепту вносила, конечно, винтовка, которая вместе со штыком, лямкой и пятьюдесятью патронами весила пять килограмм. На солдатских шапках крепились шахтерские лампы с толстыми свечами. Горели они на удивление ярко и не оставляя копоти, поэтому полированные отражатели оставались чистыми.
Алессандро проснулся, предчувствуя встречу с холодом и ветром. Почти всегда в горах утро бывает холодным и сырым, потому что ветер тащит наполненные влагой облака через скалы и снежные поля. Начинать подъем в завывающей тьме, наверное, самое неестественное занятие для человеческого существа, но утро, когда Алессандро забрался на «Пост 06», выдалось теплым и сухим. Казалось невероятным, что небо, обычно бурлящее, точно горящий фосфор, было тихим, а ведь обычно выдавало гром, взрывы и шум моря. Звезды светили ярко и призывно, словно еще до восхода луны освободились от всего, что увидели за день, когда не могли говорить. Но теперь разыгрались, и их свет заливал снежные равнины.
Снаряжение проверяли, перчатки приходилось снимать и надевать десятки раз, пока солдаты подтягивали веревки, закрепляли пряжки, завязывали узлы. Один солдат подходил к каждому с маленьким факелом, все наклонялись, а он зажигал свечу в шахтерской лампе. После того как были зажжены все, каждый опустил стеклянный щиток, распрямил спину и вонзил кошки в снег, готовый к выходу на задание.
Все шесть групп построились в одну колонну, Алессандро оказался в хвосте. Он наблюдал, как огоньки движутся по леднику, словно звезды на марше. Каждая лампа не просто светилась точно маленькое желтое солнце, но и создавала круг желтого света, который метался из стороны в сторону перед человеком, у которого она крепилась на голове. Процессия светящихся точек и кругов продвигалась по снегу ползущей змеей, ее многочисленные сегменты все время подрагивали. Скоро они подошли к растрескавшейся части ледника. Солдаты прыгали через расщелины, иной раз балансируя на краю, чтобы не упасть, вгоняли в лед ледорубы и только благодаря этому не падали вниз.
Потом колонна пошла на штурм крутого серого склона, обращенного к югу, с которого солнце согнало почти весь снег. Кошки скользили по камням и вгрызались в мелкозернистую землю. Было впечатление, будто идешь по песчаной дюне, а на тебя сыплются камни из-под ног тех, кто впереди. Камни скользили по лодыжкам, но некоторые взлетали в воздух, ударялись о другие камни, вновь отскакивая, набирая скорость. Где-то впереди раздавался крик, все сразу опускали головы, чтобы камень не попал в лампу, и он со свистом пролетал мимо, будто артиллерийский снаряд. Потом лучи шахтерских ламп вновь устремлялись вперед, и подъем продолжался.
Луна взошла и села, а они все шли и шли по ледникам, крутым склонам, плоским озерам чистого льда, где можно было скользить как на коньках. Когда останавливались перекусить, быстро замерзали на ветру, и их начинало безудержно трясти, когда продолжали путь, им скоро становилось жарко. Воздух становился все более разреженным, они жадно хватали его ртами, а когда взошло солнце, уже сидели на заснеженной площадке на тысячу метров выше основного лагеря.
Рубашки затвердели от соли, дышали солдаты точно раненые, никто не разговаривал. Вместе с солнцем поднялся ветер, такой холодный и резкий, что замораживал воду во фляжках. В небе не было ни облачка за исключением белого ковра у самого горизонта. Солнце продолжало подъем, ветер стих, воздух заметно прогрелся. Перестав дрожать, они поели. Те, кто забыл задуть свечи, сделали это, и они двинулись дальше, на этот раз уже по снегу, поднимаясь по невероятно крутому горбу к высокой каменной стене.
Шли несколько часов, снег хрустел под кошками, мерное металлическое позвякивание вгоняло в гипнотический транс. В столь разреженном, готовом совсем улетучиться воздухе до ноздрей Алессандро уже долетал запах его одежды. Ее только недавно постирали, но костры в окопах основного лагеря пропитали материю дымным солоноватым запахом, похожим на запах смолы, и хотя здесь не росли никакие деревья, Алессандро вдруг представил себе, что находится в лесу.
Когда солнце поднялось достаточно высоко, колонна остановилась на слепящем снегу, в него вогнали ледорубы, чтобы они послужили вешалками для курток с капюшонами, пока солдаты снимали свитера и заталкивали их в уже набитые рюкзаки. Потом надели куртки, поели сухарей, запивая их ледяной водой из фляг. Когда собрались вновь тронуться в путь, уже поднявшись на пятьсот метров от заснеженной площадки, где останавливались на долгий привал, далеко внизу вдруг начали стрелять австрийские пушки.
Сначала они видели вспышку, потом долетал грохот выстрела, за ним повторяющееся эхо, постепенно затухающее. Стреляли три или четыре орудия, по выстрелу в минуту, так что эхо одних выстрелов накладывалось на эхо других, создавая ощущение грохочущего потока воды.
— Сейчас не время обеда, — поделился Алессандро с солдатом, который шел впереди. — Почему они палят?
— Они палят по нам, — ответил тот.
— По нам?
— Да. Но достать нас не могут. Снаряды падают на ледник западнее, и мы даже не видим, как они взрываются. Они заметили нас в свои телескопы, и им не нравится, что мы зашли так далеко им в тыл. Они бесятся из-за того, что они у нас как на ладони. Когда мы еще только строили этот наблюдательный пункт, они послали отряд, чтобы нам помешать, но мы уничтожили его артиллерийским огнем еще до того, как он пересек ледник. Понятно, что их это злит. Взрыв снаряда на льду — все равно что в зеркальном зале. Убивают осколки льда, он же и становится могилой.
— Скажи, а почему они стреляют, зная, что нас не достать.
— Хотят вызвать лавину. Пятнадцать наших солдат похоронены у этого горба.
— А пятнадцать спаслись?
— Никто не спасся. Тогда вахту несли по две недели. Мы увеличили этот срок, чтобы снизить риск попасть под лавину. Не волнуйся, снега сейчас не так и много, и он сухой. А кроме того, три четверти склона позади, то есть наиболее опасный участок мы уже прошли. Чем выше мы поднимаемся, тем меньше будет лавина, и тем больше наши шансы на выживание.
На отвесной стене торчали выступы самых разных размеров. По мере приближения на снегу прибавлялось и камней, и валунов. Похоже, австрийцы оказали итальянцам услугу: обстрелом организовали камнепад до того, как они сюда добрались.
Подножие стены высотой в несколько сотен метров и край снежного горба длиной в два километра, встретившись, образовали ледяной рубец, который, словно палец, улегся в узкую расщелину между ними. Столь миниатюрное соединение двух огромных масс навеяло Алессандро воспоминания о береге моря. Пока солдаты отдыхали у стены, более тихие, чем обычно, в голову лезли мысли о том, как легко здесь сорваться, Алессандро стал рассказывать о многообразии Атлантики. Он видел снимки домов во Франции и Испании, которые спокойно стояли себе метрах в пяти от границы набольшего прилива, возвышаясь над ней всего метра на два. То есть фактически расстояние до моря составляло менее пяти с половиной метров. Округлив это расстояние до шести, он поделил полученное число на двенадцать тысяч километров открытого водного пространства — до юга Аргентины — и сделал вывод, что вся эта масса воды невообразимого веса и объема никогда не поднимается более чем на свою двухмиллионную часть, то есть невероятно стабильна, из чего следовало, что границы океана так же миниатюрны и неподвижны, как тонкая полоска льда между снегом и каменной стеной.
— И какой ты из этого следует вывод? — с ноткой враждебности в голосе спросил солдат, сидевший рядом.
— Что мир природы бесконечно более надежен, чем мир человека, — ответил Алессандро, — и в нашу короткую жизнь мы должны прямо-таки летать, а то не узнаем, что такое движение. Если бы нам было отпущено больше времени, мы могли бы стать более степенными и счастливыми.
— Ты псих.
— Естественно. А ты?
— За дело, — скомандовал офицер. — Разбейтесь на шесть пар. И побыстрее, чтобы мы могли убраться отсюда. У австрийцев с лавиной не получилось, но послеполуденному солнцу такое по силам.
Хотя для доставки припасов в это место требовалось тридцать человек, последние пятьсот метров рюкзакам, передаваемым от команды к команде, предстояло путешествовать по веревкам. На наблюдательном пункте, по-прежнему невидимом на поверхности каменной стены, ждали одного лишь Алессандро. Другие распределялись по маршруту, на скальных выступах или держась за вбитые крюки, протаскивая груз с помощью веревок и блоков.
Алессандро и солдат, который рассказал ему про лавину, были головной парой. Солдат пристально посмотрел на Алессандро.
— Ты уверен, что знаешь, как это делается?
— Я уже несколько лет по скалам не лазил, поэтому поначалу буду тормозить с etriers, но, если крюки уже вбиты, справлюсь. Я трижды забирался по западной стене Чима-Бьянки. В третий раз шел первым.
Его слова произвели должное впечатление.
Алессандро добрался до первого крюка и быстро закрепил etrier. Скоро, поднимаясь быстрее, чем от них могли ожидать, оба солдата оказались в ста метрах над снежным горбом. Мир казался страшно далеким. Вновь все стало простым и понятным: если закрепить карабин на крюке, безопасность гарантирована. Движение дальше вызывало определенный страх, но очередной щелчок карабина приносил облегчение, и эта повторяемость циклов страха и облегчения приносила огромное удовлетворение. Добравшись до широкого уступа, где они закрепились за более мощный крюк, чем все остальные, Алессандро просиял, пусть всего на секунду. Он ощущал такую же радость, которую, несмотря на все потери, болезни, разочарования, испытывают старики, находя безмерное счастье в малом: сидеть под деревом, наблюдать за скачущими с ветки на ветку птичками, пить чай из фарфоровой чашки с золотым ободком.
— Все как до войны, — поделился он со своим напарником по связке.
Второй солдат вдыхал сладковатый запах горного лишайника.
— Да, — согласился он. — Подумай, как хорошо, когда час проходит за часом, а в тебя никто не стреляет, и так из года в год. Не жизнь, а мечта.
— И никто этого не ценит, — сообщил Алессандро окружающей пустоте.
— Кроме нас, да и хрен с ними.
В двадцати пяти метрах над ними появилось радостное бородатое лицо. Тут же исчезло в наблюдательном пункте, а в следующее мгновение к ним полетели две веревки с петлями на концах. Ударились еще об один выступ на полпути вниз и медленно заскользили дальше. Вскоре зависли перед лицом Алессандро.
— Счастливо оставаться, — попрощался с ним второй солдат. — Он объяснит тебе, что от тебя потребуется.
— А что он собирается делать? — спросил Алессандро, глядя на две покачивающиеся петли. — Повесить нас?
— Затащит тебя наверх.
— Без страховки?
— Он свое дело знает. Я бы не волновался.
Алессандро отцепился от крюка, встал на уступе, который теперь, в тысячах метров от дна долины, показался узковатым. Вставил ноги в петли, взялся за веревки. Когда наблюдатель это увидел, исчез вновь, и в то же мгновение Алессандро почувствовал, как веревка с его левой ногой поднимается. Он продолжил движение, сгибая колено, и уперся ногой в стену. Наблюдатель закрепил левую веревку и подтянул правую. Так подъем продолжался шаг за шагом. В мирное время Алессандро страховала бы веревка, завязанная на талии. Теперь пришлось обойтись без нее.
Если бы он сейчас сорвался с веревок, то по пути обязательно ударился бы о какой-нибудь выступ и, отброшенный от каменной стены, полетел бы на снежный бугор, но возможно, приземлился бы недостаточно далеко от стены, чтобы заскользить вниз. С другой стороны, место приземления значения не имело: исхода это не изменило бы, даже если бы он без помех долетел до дна долины. Алессандро подумал, что в таком разреженном воздухе человек не услышит свиста собственного падения и не почувствует ветра.
В тот самый момент, когда он положил руки на каменный бруствер, через который перекинули веревки, наблюдатель затараторил:
— Ты новенький. Я тебя не знаю. Откуда ты взялся?
— Новенький, — признал Алессандро, все еще стоя на петлях. — Можно войти?
— Как там внизу? Я не говорил с ними уже пять дней, с тех пор как сели батареи.
— Не возражаешь? — Алессандро подтянулся на руках, напрягая пресс, чтобы забраться в наблюдательный пункт.
— Давай помогу.
И помог так активно, что оба повалились на груду веревок, крюков и пустых рюкзаков. Оглядев вырубленную в скале пещеру, Алессандро сразу спросил, придется ли ему спать в одеялах, которыми наблюдатель пользовался в последний месяц.
— Есть для тебя новые одеяла, а еще кое-какие сюрпризы. Не так здесь и плохо, если не тяготит одиночество. У нас теперь семь книг, и наверняка прислали еще одну. Если война продлится еще пять лет, сюда доставят шестьдесят пять, и это будет самая высокогорная библиотека мира.
— А как же Потала? — возразил Алессандро.
— Это еще кто?
— Знаменитый монастырь в Тибете.
— Да пошел он.
Потом Алессандро с наблюдателем принялись затаскивать грузы. Пока их поднимали на веревках, наблюдатель тараторил как пулемет, объясняя задания, выполнять которые предстояло Алессандро, и маленькие хитрости, без овладения которыми на наблюдательном пункте не обойтись. Когда весь груз доставили по назначению, наблюдатель устроил Алессандро экскурсию по наблюдательному посту, продемонстрировал, как открывать амбразуры, менять аккумуляторные батареи, записывать координаты. Показал, как наводить большую подзорную трубу, соединенную цепью с пластиной на потолке (чтобы трубу случайно не уронить вниз), на австрийские позиции, рассказал, где и что тут находится: в этом, проведя месяц на наблюдательном пункте, он разбирался как никто. Рассказал про опасности, грозящие наблюдателю, и средства защиты, имеющиеся в его распоряжении. Особое внимание уделил телефонному аппарату, который стоял на столе в центре пещеры. Провода уходили вверх, к деревянному брусу на потолке, словно в какой-то римской конторе, а не в пещере, вырубленной в камне у самой вершины горного пика на высоте нескольких тысяч метров.
Сотни катушек телефонного провода подняли под самое небо, соединили между собой, армировали, а потом спустили вниз с другой стороны вершины. Линия связи по вертикальной стене подходила чуть ли не к самому леднику, но огибала его по снежным полям, потому что трещины на леднике могли ее порвать. Замаскированная под снегом, она тянулась до самого штаба. В дневное время от наблюдателя ожидали донесений каждые два часа. Ночью Алессандро иной раз могли будить удары молотком по крюкам, которые вбивали в скалу далеко внизу.
После того как наблюдатель отбыл, Алессандро остался один в чудо-пещере, которую обустраивали в скале три сотни альпийских стрелков и строителей. Ради нее пятнадцать человек погибли под лавиной, а еще двое сорвались со стены.
Они вырубили пещеру глубиной семь, высотой два и шириной четыре метра. Она уходила в глубь горы — с идеально ровными и сухими гранитными стенами, полом и потолком. Два канала шли через гранит еще на десять метров вверх, под углом к потолку. На выходе их прикрывали водонепроницаемые колпаки. И хотя каналы были узкими, дым от ламп и печи для готовки быстро уходил через них, а спирали, которыми он поднимался, напомнили Алессандро цирковых акробатов, работавших в шатрах, освещенных свечами: бедные цыганские цирки в прибрежных сицилийских городках, где представления проходили под шум прибоя; прибалтийские цирки, где всегда было светло и тепло, даже если сизые тучи вовсю поливали их дождем; римские цирки с ярко раскрашенными тентами, сверкающими огнями, нарядными циркачами, полностью соответствующими красивому городу.
Одна стена пустовала, отчего пещера казалась больше. На ней начертили решетку, и каждый наблюдатель заполнял одну строку от стены до стены: имя, фамилия, даты пребывания и комментарий. «Боттаи, Рудольфо: „Я был первым. Отправьте мне почтовую открытку, поделитесь впечатлениями». «Лабреро, Ансельмо: „Любую женщину встречу с распростертыми объятиями, даже с бородавкой на носу». «Чечени, Микеле: "Я предупредил об австрийском наступлении пятого». «Аньело, Джузеппе: "Я убил несколько врагов, пытавшихся захватить этот пост. Ранен в плечо». «Гостанза, Бенито: "Почему не говорить с самим собой? Я говорю постоянно».
Алессандро тут же написал свои имя и фамилию, даты пребывания и комментарий, потому что не хотел целый месяц пытаться втиснуть мудрость веков в одну строку. Получилось следующее: «Теперь я в большей безопасности, чем любой человек в Италии. Мне не терпится отправиться в полет». Пусть гадают, что это значит, подумал он, хотя, наверное, большинство решит, что он мечтал стать летчиком. А может, и нет… особенно после того, как проведут месяц, глядя на облака и птиц, улетающих от войны в такие края, где животные никогда не слышали орудийного выстрела.
Другую стену занимали стеллажи из толстых кедровых досок, аромат которых заполнял пещеру. На них в армейском порядке лежали припасы и снаряжение, которые доставили сюда с великим трудом и немалой ценой. Многое осталось от прежних наблюдателей, и Алессандро лишь добавил то, что прибыло вместе с ним, чтобы точно знать, чем располагает: тридцать отдельно упакованных порций хлеба, макароны, джем, сахар, порошковый суп, сухофрукты, шоколад, вяленая говядина, маленький мешок картошки и лука, две банки семги, два небольших панеттоне[77], две литровые бутылки красного вина, пучок моркови, полтора килограмма сыра, два куска мыла, коробка зубного порошка, тампоны с йодом, бинты, аспирин, настойка опиума, шесть выстиранных шерстяных одеял, подушка, восемь рулонов туалетной бумаги, десять гранат, двадцать сигнальных ракет, «Маузер-98», пятьсот патронов в десяти коробках по пятьдесят в каждой, штык, медицинская аптечка со всем необходимым для первой помощи, альпийский топорик, два десятка болтов с крюком и кольцом, сто пятьдесят метров веревки, коробка с крюками и гвоздями, клещи, отвертка, восемь дополнительных сухих батарей для телефона, две огромные бутыли, в которые вода поступала из маленькой цистерны по шлангу с краном у стены, и восемь литров керосина для готовки и освещения вместе с запасными фитилями для ламп и несколькими коробками спичек.
Середину пещеры занимал огромный дубовый стол, который собрали уже здесь после того, как отдельные его части подняли на веревках. На нем расположились телефонный аппарат с четырьмя подключенными к нему аккумуляторами, подзорная труба, от которой к потолку тянулась цепь, секстант, необходимый для определения координат, оптический дальномер, журнал ежедневных наблюдений, шифровальная книга, коробка карандашей и перочинный нож, чтобы их точить, бинокль — и такого хорошего бинокля не было даже у короля, керосиновая лампа с начищенным отражателем. Тут же лежали и книги: Библия, «Скарамуш» Рафаэлло Сабатини, путеводитель Бедекера «По Швейцарии», изданный в 1909 году, с подзаголовками «Северная Италия, Савойя и Тироль», «Неистовый Роланд», французское издание «Пармской обители», «Справочник бойскаута» в двух частях, маленький томик Данте «Новая жизнь» и очень уж короткая английская порнографическая новелла (Алессандро прочитал ее еще до того, как распаковал вещи), в которой легко узнаваемый принц Уэльский отправился в Париж, чтобы провести время в теплом бассейне с шестью самыми прекрасными и развратными женщинами, исследовавшими все части его тела всеми частями своих, а то и забывая о нем и занимаясь исключительно друг другом. В конце прекрасные руки-ноги, упругие груди и раскрытые рты до такой степени облепили толстое пузо принца Уэльского и его торчащие причиндалы, что Алессандро невольно вспомнил о шпеньке для закрепления каната в бочке с кальмарами.
В наружной стене имелась большая «дверь», через которую он залез в пещеру, и по узкому прямоугольному окну с каждой стороны. Все три отверстия закрывались стальными ставнями с петлями наверху. Маленькое окошко открывалось по центру ставни, которая закрывала «дверь», а саму ставню, очень тяжелую, приходилось поднимать и опускать лебедкой. Стальной люк вел на крышу. Лестница отсутствовала, так что приходилось подтягиваться. От крыши, по существу узкому уступу, вырубленному в скале, вертикальная стена в сто метров уходила к самой вершине, напоминавшей иглу размером с коновязь. Уступ-крыша служила отхожим местом. На нее вылезали, отклячивали зад, ухватившись за два крюка, и лишнее летело вниз, почти на тысячу метров.
Алессандро зажег лампы. Лишь тонкая полоска оранжевого света осталась на западе, огни австрийских и итальянских окопов сверкали в темноте, которая опустилась на них часом раньше.
Он сложил пустые рюкзаки, отправил их на полки, расстелил постель (койка стояла у стены с надписями) и приготовил все необходимое на случай ночного нападения австрийцев, хотя полагал, что вероятность такой атаки гораздо меньше, чем днем. Тем не менее он закрыл ставни на засовы, почистил и зарядил «маузер», повесил «кольт» и штык на колышки рядом с койкой. Колышки, аккуратно вбитые в гранит, напомнили ему принца Уэльского, и он заснул, грезя прекрасными надушенными женщинами с розовой кожей и возбужденными, развратными взглядами. Но когда проснулся глубокой ночью, воспоминания об их прекрасных телах вызвали воспоминания об Ариан, и он чуть не завыл от отчаяния.
Возможно, потому, что изоляция — мать методичности, порядок, который поддерживал Алессандро на заоблачном наблюдательном пункте, мог бы дать сто очков вперед даже мостику флагмана Королевского флота. Когда звонил телефон, он уже сидел рядом, полностью подготовившись к передаче донесения. Доукладывал четко, по-военному, словно всю жизнь только этим и занимался. В первые два дня он дважды предупредил итальянские аванпосты о готовящихся воздушных атаках. Из-за сильного ветра и разреженности воздуха не слышал самолетов, но видел в подзорную трубу, как они огибают самые восточные пики Швейцарии. По одному он бы их не заметил, но эскадрилья из пяти, двигающихся синхронно, позволяла разглядеть их — с помощью подзорной трубы — на расстоянии в сотню километров. Его донесение оценили по достоинству, но и предупредили: если он может обнаружить австрийскую эскадрилью за сто километров в мире, скованном льдом, тогда, возможно, кто-то мог заметить и его. И он никогда не расслаблялся, часто поглядывая на люк, ведущий на крышу, и прислушиваясь к ударам по крюкам, которые забивали в скалу внизу. Крюки могли забивать медленно и бесшумно. И враги, подбирающиеся к нему, могли ночью подняться на чуть-чуть, а потом уйти до следующей ночи. Не следовало исключать и другой возможности: австрийцы могли подняться на вершину с другой стороны, никем не замеченные, а потом в полнейшей тишине спуститься к наблюдательному посту на веревках.
В пещере царил холод. При открытых стальных ставнях, а открытыми они оставались большую часть времени, вода замерзала. Ветер порой задувал так сильно, что от перепада давления у него закладывало уши. Случалось, что гипнотическое посвистывание ветра в щелях между ставнями и стеной резко прибавляло громкости и могло перекрыть гудок пассажирского экспресса. У него не получалось ни игнорировать звук, ни что-либо делать до прекращения этого дикого шума, от которого вещи вибрировали на столе, сползая к краю, и сваливались с крючков.
Во время грозы с громом и молниями, которая случилась через два дня после его прибытия, вибрации от ветра достигли такой силы, что сбросили на пол сразу все гранаты. Алессандро лицезрел этот кошмар сидя на веревочном стуле, завернувшись в одеяло и с кружкой горячей воды в руках. Внезапно раздался дикий визг, а в следующий миг гранаты уже прыгали по каменному полу. Бежать было некуда, открыть железную ставню и выкинуть гранаты он не успевал, так что оставалось только ждать взрыва, который размазал бы по стенам его плоть и кровь. В этот момент, глянув на кружку с горячей водой, он подумал, что это последнее, что он видит, и ощутил безмерное сожаление, потому что выглядела жестяная кружка грустнее грустного. Но гранаты не взорвались, и с того момента он хранил их на полу, положив рядком.
Скоро он устал от сексуальных приключений принца Уэльского. После пятого или шестого прочтения визиты в парижский бордель возбуждали не больше, чем ежедневная прогулка в магазин скобяных товаров. Через три дня он вскрыл посылку с наклейкой: «Сюрприз: не вскрывать три дня». В посылке лежал свежий лимон. Возможно потому, что он периодически замерзал и оттаивал, вкус стал довольно странным, но Алессандро использовал его, чтобы подкислить семгу (одну банку) и две кружки чая.
В один присест он мог прочесть лишь несколько строк «Новой жизни». Они обретали магические свойства, и он видел, как они плавают в темноте под потолком, поют и кувыркаются в воздухе, словно неизвестные науке рыбы в глубинах моря.
Днем он часами просиживал на веревочном стуле, завернувшись в одеяло, прислушиваясь к редким ударам сердца. Когда их становилась меньше сорока в минуту, а конечности немели от холода, Алессандро заставлял себя двигаться. Чтобы подняться и отбросить одеяло, приходилось превозмогать боль, но Алессандро это делал и начинал медленно кружить по пещере. Сначала его шатало, но потом мышцы все больше включались в работу. Он останавливался, нагибался, шел дальше. Когда чувствовал, что вновь ожил, несколько часов делал физические упражнения, пока не начинал тяжело дышать, ему становилось жарко, его прошибал пот. Этим он восстанавливал форму. Большая высота, скудное питание и физическая нагрузка закаляли душу. Он перестал читать, но прочитанное само всплывало в сознании — иногда фразами, а то и по одному слову. К примеру, слово bellezza[78] вращалось, как сверкающее спицами колесо, останавливалось, вращалось в обратную сторону, словно женщина, которая хотела, чтобы ею восхищались. Потом призрачно улыбалось, пульсировало тошнотворным зеленым светом и взрывалось серебряными искрами, которые исчезали в черноте. Другие слова исполняли другие танцы. Иногда сталкивались перед ним в воздухе то ли в поединке, то ли соблазняя друг друга.
Вечерами после обеда он наблюдал за пламенем лампы. Когда завывания ветра усиливались, оно двигалось, словно бездна пыталась его загасить. Ветер и тьма, казалось, говорили: если только пламя сдастся и погаснет, оставив после себя лишь белый дымок, ветер наберет невероятную силу и станет безмерно холодным, засвистит миллионом флейт высоко над горами льда и утащит во мрак, туда, где у пространства нет границ, а время вечно… но огонь продолжал гореть, колыхаясь за тонким, хрупким стеклом, и освещал комнату, превращая все вокруг в золото.
Австрийцы не могли сконцентрировать силы для наступления или погреться на солнышке под открытым небом, пока Алессандро видел их из своей вырубленной в скале пещеры и направлял снаряды по входам в их тоннели и окопы. Иной раз по его наводке снаряды разносили бункеры, вскрывали тоннели, рвали людей в клочья. Понятное дело, австрийцам такое не нравилось.
В четыре часа утра звонок телефона вырвал Алессандро из глубокого сна. Он скатился с койки, нашел в темноте стол, схватил трубку.
В ухо ударил треск статических помех.
— Да?
— Алессандро? — осведомился незнакомый голос, продираясь сквозь шум.
В темноте, с одеялом на плечах, сжимая в руке трубку, еще туго соображая, Алессандро чувствовал, как его шатает.
— Что?
— Это ты?
— Это король.
— Я хотел убедиться, что еще до тебя не добрались.