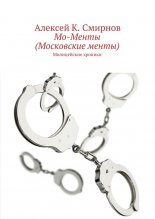Солдат великой войны Хелприн Марк

— Нет! — вскричал он, и еще больше крови прилило к лицу. На лбу вздулись вены. Девушке даже показалось, что Алессандро вот-вот хватит удар.
Она предложила вызвать экипаж, чтобы довезти его до станции, но весь багаж Алессандро состоял из рюкзака, он сказал, что пройдется пешком, и отшагал десять километров в утреннем тумане, который натянуло с Адриатики. Из тумана до него доносились голоса. Он не мог объяснить даже самому себе, с чего на него напала такая меланхолия, и не мог определить голоса. Они напоминали хор в опере, а после стольких винтовочных выстрелов и разрывов снарядов слышал он не так чтобы очень, да и растворялись голоса в шуме прибоя или дождя, тяжело обрушивавшегося на воду.
Хотя видимость была почти нулевая, Алессандро казалось, что дорога прекрасна. Узкая, песчаная, зажатая между деревьев, кроны которых смыкались над ней как под солнцем, так и при ветре.
Хоть и понимая, что это неправда, он чувствовал, что в Риме кто-то будет его ждать. Возможно, срабатывала магия больших городов, создающих иллюзию любви и семейной близости даже для тех, кто лишился и первого, и второго. Яркий свет, уличная суета, разнообразие сгрудившихся зданий притягивают одиноких людей, и независимо от того, что они знают, в глубине души они чувствуют: кто-то ждет их, чтобы обнять с любовью и нежностью.
Хотя Ариан не проходила ни по каким спискам, ни убитых, ни пропавших без вести, ни даже служивших в медицинских частях, он ездил из города в город, искал, но никаких следов не находил. Города его отторгали, их тепло и утешение так и оставались иллюзией, но, едва его поезд добирался до окраины и медленно полз между литейных цехов, свалок и гаражей, которые сопровождают железнодорожные пути чуть ли не до городского центра, в нем вспыхивала надежда, энергии прибавлялось, он защелкивал замки чемодана, готовый к марш-броску по улицам города.
На станцию он прибыл в десять утра. Поскольку из гостиницы он уехал в субботу, расписание поездов укладывалось в две короткие колонки. Поезд в Анкону и Рим отправлялся в 11.32, в Болонью и Милан — в 13.45, в Равенну и Венецию — в 10.27.
Он хотел посидеть в буфете и почитать газету за чашкой чая и круассаном, но и газетный киоск, и касса не работали. Город, хотя Алессандро и видел его на склоне холма, находился достаточно далеко, а хмурой буфетчице не хотелось заваривать чай или объяснять, почему у нее нет круассанов.
Ему пришлось удовлетвориться томатным супом с хлебными палочками и обойтись без газеты.
— В субботу утром никто не путешествует? — спросил он, заплатив за суп.
— Да кто здесь есть-то? Лето закончилось. Все спят.
Алессандро сел за столик перед открытыми дверями, за которыми открывался вид на пустующие рельсы. Туман заползал в буфет, где когда-то туристы прятались от жары. Буфетчица куда-то исчезла, и Алессандро остался на станции в одиночестве. В компании рюкзака, лежащего на соседнем стуле, с хлебными палочками в левой руке, постукивая ногой по мраморному полу, он ел суп и прислушивался к тиканью часов.
Станционные часы попались невероятно громкие. Тик-так разносилось далеко окрест. Алессандро взглянул на них и увидел, что уже двадцать шесть минут одиннадцатого. Под громовое тиканье он наблюдал, как секундная стрелка описала по циферблату круг и минутная передвинулась на одну черточку. 10.27. Алессандро положил ложку в суп и взялся рукой за рюкзак. Секундная стрелка продолжала ползти по кругу. Алессандро услышал шум паровоза.
Поезд вполз на станцию. Он шипел, вздыхал, плевался искрами. Люди спрыгивали на платформу. Двери открывались и закрывались. И хотя поезд направлялся в Венецию, Алессандро поднялся, подхватил рюкзак и вышел на платформу.
Там стоял кондуктор, поглядывая на часы, подняв руку, готовый дать отмашку машинисту на паровозный гудок и продолжение движения.
— Поехали! — сказал он, увидев Алессандро.
За Равенной, среди болот, тянущихся до самого горизонта, мчащийся на всех парах поезд вынырнул из тумана под ярко-синее небо. Солнце придало сочности всем краскам, будь то зелень травы или белизна кучевых, похожих на барашков облаков над головой.
На сиденьях у окон имелись таблички, указывающие, что эти сиденья предназначены для инвалидов войны. Разница между инвалидами и просто ранеными заключалась в том, что раненые могли поправиться. Алессандро не знал, может ли он сесть у окна. Конечно, если бы он сел, а мимо проходил человек без руки или без ноги, ему пришлось бы уступить место, но вдруг безрукий или безногий оказался бы всем довольным и гордым? А если бы это был преступник, потерявший руку или ногу отнюдь не в бою? Тогда Алессандро все равно пришлось бы встать? Или следовало начать мериться шрамами, раздевшись и показывая их друг дружке? А вдруг шрамы заведомо проигрывают ампутированным конечностям и металлическим пластинкам на затылке? А как они котируются в сравнении со стеклянным глазом? Или эти места зарезервированы для слепых? Но зачем слепому сидеть у окна? Разве что воздух свежее и послеполуденное солнышко пригревает.
Сперва Алессандро попытался убедить себя, что сел в поезд, идущий в Венецию, потому у него оставалась еще неделя отпуска, и он воспользовался шансом попасть в Венецию без туристов, в сезон или туманов, или золотистого солнца. Но, убеди он себя, это была бы ложь, разрушающая мечту.
Никакого отпуска он не продлевал. Плевать он хотел на отпуска. В армии никто не давал ему отпусков, а до того ему, эссеисту и искусствоведу, они и не требовались. Он ехал в Венецию, потому что после стольких лет депрессии ощутил какой-то намек на подъем.
— Ваш билет? — раздался голос кондуктора. — Я обращаюсь к вам уже в третий раз. Вы что, глухой?
Алессандро от неожиданности отпрянул, чем испугал кондуктора, который тоже отпрянул вслед за ним.
— Мой билет?
— Да, билет. Это поезд, и для проезда нужен билет.
— На этом поезде?
— Куда вы едете?
— В Венецию. У меня нет билета. Мне надо его приобрести.
— Сколько лет вы там не были? — спросил кондуктор.
— Почти четыре года, — ответил Алессандро после короткого раздумья.
Когда кондуктор ушел, Алессандро сунул билет в карман и опять уставился в окно, как солдат, который поднимается на приступку для стрельбы и чувствует, что его сердце бьется быстрее, потому что он оказывается лицом к лицу с врагом. Море, как и Венеция, лежало на северо-востоке, и поезд по широкой дуге заворачивал вправо, спеша к конечному пункту.
В Венецию он прибыл достаточно поздно и пока добирался от вокзала до моста Академии, сумерки сгустились. Взошла луна, огромная и полная, она уже почти столкнулась с куполами церкви Санта-Мария делла Салюте, но в последний момент разминулась с ними и поднялась выше, сияющая и невесомая, как песня.
Лайнеры стояли на якоре в канале Святого Марка, увешанные гирляндами огней, от чего казались то ли белыми городами, то ли подсвеченными снежными горами. Неспешное движение по каналу разрывало серебристый ковер, постеленный на него луной, волны расходились к берегам. Люди потянулись по улицам к площадям, чтобы, пусть и в теплых свитерах, посидеть за столиками открытых кафе. А почему бы и нет, погода идеальная, воздух чистый, туристов самая малость.
Алессандро нашел пансион неподалеку от моста, оставил рюкзак на середине кровати, на которой хозяйка, по ее словам, одновременно укладывала пять солдат или восемь голландских туристов, а также использовала ее для пьяных: такая ширина гарантировала, что они с нее не свалятся.
Он вновь вышел на открытый воздух — в кафе в саду за кованой оградой. Голода не чувствовал, но его начало мутить, и он заставил себя поесть, чтобы набраться сил для того, что предстояло.
Еду заказал простую: сома в белом вине, хлеб, салат и минеральную воду. Когда официант принес хлеб, Алессандро почувствовал слабость и высокую температуру. Когда оплатил счет, сердце выпрыгивало из груди, он тяжело дышал, потел, острая боль пронзала все тело.
Обратный путь до пансиона дался ему с огромным трудом. В какой-то момент он пришел в отчаяние, подумав, что повернул не туда и теперь ему придется идти назад. Хозяйки не было. Он нашел свою комнату, запер дверь, заполз на огромную кровать.
Окно открыл еще раньше, и луна, теперь холодная и белая, как полагалось зимней луне, светила так ярко, что у него заболели глаза. Впрочем, глаза болели, куда бы он ни смотрел. Стонать он не решался, боясь, что его услышат и отправят в больницу. Поэтому дышал тяжело, но не издавая ни звука. Вместо этого жестикулировал, размахивая руками в воздухе или сжимая кулаки, и обнаружил, что этот язык полностью подходит ему, а может, даже вообще самый лучший. Движение приносило более приятные ощущения, чем крики, пусть даже по скрипу кровати хозяйка могла подумать, что он привел женщину, и утром попыталась бы взять с него плату за двоих.
Что бы ни вызывало недомогания, пищевое отравление, или инфекция, подхваченная от кого-то из постояльцев отеля, или что-то еще, действовало это быстро и безжалостно. Спустя несколько часов луна ушла из комнаты, теперь заливая холодным светом дома на другой стороне канала.
Перспектива умереть в одиночестве на кровати, где одновременно могли спать восемь голландцев, и печалила, и бесила Алессандро. Скачки на лошадях, подъем по отвесным склонам выше облаков, все эти штыки, разрывы снарядов, пулеметные очереди — ничто не смогло его одолеть, а жалкий микроб свалил на кровать в дешевом отеле. Хозяйка найдет его утром, на похороны не придет ни одна душа, и его погребут вдали от родителей, в безымянной могиле, вырытой во влажной и вонючей земле на одном из островов лагуны.
Сил совсем не осталось. Он схватился за рюкзак и уткнулся в него лицом, словно в любимую женщину. Почувствовал кожаную лямку, которая показалась ему теплой и нежной рукой Ариан, посмотрел на лунный свет, падающий на камни по другую сторону канала. Где-то вдали женщина чистым и нежным голосом запела прекрасную арию, под звуки которой Алессандро приготовился встретить смерть.
Кто приходил в музей за полчаса до закрытия и медленно поднимался по ступеням, не глядя на картины? Любой смотритель в любом музее нервничает, когда на вверенной ему территории появляется такой человек, потому что именно такие небритые люди с остекленевшими глазами вытаскивают ножи из-под пиджаков или курток и уничтожают картины, трогающие души людей. Именно они выхватывают молотки, чтобы откалывать носы мраморным мадоннам. Они набрасываются на картины, потому что видят в них десницу Божью, и это их разъяряет, поскольку в них самих ничего такого нет и в помине.
Музейный смотритель, который напоминал французского станционного охранника, хрупкого сложения, с прилизанными черными волосами, слабый здоровьем и много пьющий, следовал за Алессандро по начищенному полу, прихрамывая, с написанным на лице страхом и предчувствием дурного. Чем-то он напоминал пса, не решающегося броситься на незваного гостя.
Алессандро развернулся и в упор уставился на него.
— Вы что, собираетесь ухватить меня за задницу? — рявкнул он.
Смотритель поджал губы, собрался с духом.
— Это музей, — ответил он.
— Я знаю, что это музей, — фыркнул Алессандро.
— Это все, что я хочу сказать.
Алессандро отвернулся и продолжил путь из зала в зал, пока не оказался перед картиной Джорджоне.
— Это «Буря», — пояснил смотритель, держась в непосредственной близости.
— Вижу, — буркнул Алессандро.
— Картина очень красивая, и никто не знает, что она означает.
— И что же, по-твоему, она означает?
— Думаю, скоро пойдет дождь, и этот парень не может понять, почему она решила вымокнуть, — ответил тот.
— Возможно, так оно и есть, — не стал спорить Алессандро.
— Говорят, никто никогда не узнает.
— Это прямо история моей жизни. — Голос Алессандро звучал как-то особенно тепло. Так говорят о поражении, которое прошло так близко от победы, что могло ее поцеловать. — Я воевал, мир сотрясала буря, а она сидела под пологом света, целая и невредимая, с младенцем на руках.
— Вы воевали? Тогда, возможно, это и правда вы. — Мнение смотрителя об Алессандро внезапно переменилось в лучшую сторону, он решил, что видит перед собой одного из множества несчастных солдат, бродивших по улицам больших городов, душой и разумом застрявших в воспоминаниях о войне. — Вы найдете женщину, женитесь, а потом, раз-раз, и у вас появится малыш.
— Все не так просто.
— Почему?
— Просто поверьте.
— Ладно, я вам верю.
Алессандро чувствовал поднимающийся ветер и слышал шелест листьев на деревьях, которые гнулись и раскачивались. Дождь приближался, свет казался безмятежным и обреченным одновременно. Солдат оставался спокойным, потому что ему довелось пережить не одну бурю, и женщина оставалась спокойной, потому что держала у груди движущую силу истории и источник неуничтожимой энергии. А молния между ними соединяла и освещала их.
— Иногда люди приходят сюда, долго смотрят на эту картину и плачут, — поделился наблюдениями смотритель.
После паузы, в которой, казалось, что-то очень быстро нарастало, Алессандро спросил:
— Кто? Солдаты?
— Нет, не солдаты.
Алессандро обернулся к смотрителю.
— Кто?
— Разные люди.
— Какие?
— Вы что, хотите, чтобы я назвал их имена?
— Расскажите о них.
— Зачем?
— Я один из них, правда? Я хочу знать.
— Музей сейчас закроется.
— Завтра вы здесь будете?
— Буду, но не скажу ничего такого, чего не могу сказать сегодня.
— Так скажите сегодня.
— Что вы хотите знать? Мне их описать?
— Да. Опишите.
— Ладно. Один господин, лет на десять старше вас…
— Переходи к следующему.
— Я же ничего не сказал!
— Он меня не интересует. Продолжайте.
Смотритель глянул на Алессандро так, будто вернулся к первоначальному мнению о его психическом состоянии.
— Приходил еще один парень…
— Он меня тоже не интересует.
— Это какой-то бред.
— Продолжайте.
— Полагаю, старая женщина вас тоже не интересует…
— Нет.
— …которая потеряла мужа.
— Нет.
— Или женщина… которая приходила… с малышом. — Алессандро не перебивал, но смотритель словно этого ждал и замолчал сам. — С малышом, — повторил он и после долгой паузы добавил: — Она стояла перед картиной и плакала.
Алессандро почувствовал, как электрические разряды покалывают позвоночник, а по рукам бегут мурашки.
— Когда она приходила? — спросил он ровным голосом.
— Довольно давно. Весной. Шел дождь, и было холодно. Я был в шерстяном костюме и на обед ел суп, потому что было холодно.
— Если вы это помните, — осторожно сказал Алессандро, — значит, у вас замечательная память на детали.
— Не такая уж замечательная, — покачал головой смотритель, — но, знаете ли, когда целыми днями стоишь и смотришь на картины, учишься замечать подробности. Если ты, конечно, не идиот. Запоминаешь.
— И как она выглядела? — спросил Алессандро.
— Очень хорошенькая.
— Какого цвета волосы?
— Светлые, но она итальянка.
— Откуда вы знаете?
— Потому что, — смотритель определенно гордился тем, что запомнил, — она говорила по-итальянски. А с малышом она говорила еще и по-французски. Чувствовалось, что она хорошо образована, а такие люди говорят со своими детьми на французском.
— Цвет глаз?
— Не помню. Я никогда не запоминаю, какого цвета у людей глаза.
— Одежда?
— Этого я тоже не знаю, вот моя жена сказала бы вам. Она помнит, кто в чем был и сорок лет назад.
— Ваша жена ее видела?
— Нет-нет, если бы видела, то сказала.
— А вы видели ее всего один раз.
— Насколько я помню. Но это не означает, что она приходила только один раз.
— Что еще вы о ней знаете?
— Ничего. Малыш вел себя хорошо. Не плакал.
— Что еще?
— Ничего. Это все.
— Подумайте!
— Ничего.
— Закройте глаза.
— Нельзя мне закрывать глаза.
— Почему?
— Ладно, если вы отойдете туда, — и он указал на середину зала.
Алессандро покорно отошел. «Закрываемся! Закрываемся! Закрываемся!» — закричали смотрители в других залах, когда тот, что стоял рядом с Алессандро, закрыл глаза. Алессандро молился, сам не зная о чем.
— Да! — воскликнул смотритель, не открывая глаз.
— Что, да?
Тот открыл глаза.
— Я кое-что вспомнил. Одну подробность. Ребенка она держала на бедре, в кушаке. Детские коляски в Венеции неудобны. А когда ходишь с малышом, приходится брать с собой кое-какие вещи. У нее было все необходимое в холщовой сумке, какие дают туристам в отелях Лидо. Они таскают в них завтрак, книги, купальники. Летом с ними все ходят.
— И какой мне от этого прок?
— На сумке написано название отеля, — сказал смотритель и улыбнулся.
— И вы его помните.
— Да. И знаете, почему? Я вам скажу. Около площади Санта-Маргерита есть небольшой отель. Я знаю, потому что жил рядом и каждый день проходил мимо по дороге на работу. Назывался он «Маджента». И это слово я прочитал на сумке: «Маджента». Я знал, что оно означает.
— Закрываемся! Закрываемся! — высокие голоса смотрителей эхом отдавались от стен выставочных залов.
Смотритель, стоявший рядом с Алессандро, посмотрел на часы.
— Пора домой. Попрощайтесь с картиной, потому что пора домой.
Алессандро привалился к железной изгороди, увитой мягкими стволами молодых лоз. На другой стороне улицы стоял отель «Маджента», почти пустой, несмотря на то, что было только начало осени. Портье в униформе, напоминающей парадный мундир английского адмирала, появлялся за стойкой и исчезал с точностью метронома. Алессандро наблюдал, как тот скользит между ярких ламп и полированной бронзы. Отель, маленький и не очень известный, выглядел изысканно. На пурпур[97], в честь которого его и назвали, указывала только полоса в верхнем левом углу меню, выставленного под стеклом на другой стороне улицы.
Он собирался остановиться в отеле, а не опрашивать сотрудников, которые могли ничего и не вспомнить, если не настроить их на нужный лад, а Алессандро не знал, какие именно вопросы следует задавать или как их задавать. Многие женщины имеют детей и говорят по-французски. Какое имело все это отношение к нему? Но если он ошибся с самого начала, и женщина, которую он видел в окне второго этажа того госпитального домика, была не Ариан, а другая сестра, очень на нее похожая, или на атакующие самолеты он смотрел не мгновение, а дольше — всем известно, что время в бою растягивается, — и она успела выскочить через черный ход до того, как бомбы уничтожили дом?
Ребенок? Ребенок мог быть его. Почему она его не искала? Ответ лежал на поверхности, если вспомнить, сколько раз армия сообщала о его смерти.
Как и клерка, за которым он наблюдал, его бросало из стороны в сторону. То вспыхивала надежда, и он уже рассчитывал на чудо, то он впадал в отчаяние, точно зная, что заблуждается, обманывает себя, и голова падала на грудь.
А может, безопаснее, менее болезненно и даже дешевле уехать в Рим? Если он медленно вернется к работе, постепенно врастет в жизнь буржуа, будет преподавать и писать, пока не потекут деньги, время превратит его в другого человека.
Он, однако, знал, что время только раздевает и обнажает, и никогда не приближался к важному вопросу без должной подготовки, задавая его в лоб. Стоя на темнеющей улице, он обнаружил в своей жизни некую систему. Учился он легко не только потому, что усердно читал книги, но еще и благодаря какой-то внутренней гармонии умел быстро вживаться в картину и мелодию, попадая в мир будоражащей душу красоты, и там обретал глубокое абсолютное и мгновенное подтверждение надежд и желаний, которое в нормальной жизни порождает размышления и споры.
Все изменилось — и очень резко — во время войны. Иногда после разрыва снаряда оторванные конечности и брызги крови летели на солдат, которые от ужаса не могли шевельнуться и застывали, словно застигнутые внезапно обрушившимся на них ливнем. Именно в такие моменты Алессандро стыдился жизни, которая учила его верить и надеяться.
Спор между противоречивыми состояниями его веры не мог разрешиться до тех пор, пока он не пришел бы к какому-то результату, выбрал между ночью и днем, потому что на заре или в сумерках он остаться никак не мог.
— Я гулял вдоль берега Бренты, — поделился он с портье. — Мне нужны хороший обед, номер с ванной и стирка.
Портье назвал цену номера. Высокую.
— Номер с балконом?
— Нет. Над ним с балконом, и там большая ванна. Но цена чуть ли не вдвое выше.
— Давайте, — распорядился Алессандро, быстро написал свои имя и фамилию на регистрационной карточке и оставил изумленному портье чаевые в размере своего недельного жалованья.
— Держи, — сказал Алессандро, когда они подошли к его номеру, и протянул изумленному молодому человеку еще одно недельное жалованье.
За обедом он тоже демонстрировал крайнюю щедрость, но не задал ни одного вопроса. Надеялся, что утром, когда пройдет слух о его чаевых, никто в отеле не откажется отвечать на любые его вопросы.
Он старался этого избежать, но ночью, в номере с балконом отеля «Маджента», лежа в кровати с плотными белыми простынями, тщательно выглаженными и прохладными на ощупь, думал об Ариан, как о живой.
За завтраком Алессандро обслуживали два официанта, а шеф-повар выглянул из кухни, чтобы посмотреть на него. Он опять раздавал чаевые, уже напоминая не богача, а безумца. Всякий раз, передавая кому-то банкноты, видел в них не пару туфель, перьевую ручку или двухгодичную подписку, без которых ему теперь предстояло обходиться, а несущественную сумму, которую он ставил на кон с шансами на огромный выигрыш, хотя и сомневался, что карты лягут, как ему того хочется. Невозможно силой воли изменить ход событий, говорил он себе. Нельзя нарушать стройную систему чаевых маленького отеля в надежде воскресить мертвых. И невозможно сотворить чудо, сев не на тот поезд.
Затягивая завтрак, он думал о том, сколько раз видел умерших, выходящих из троллейбуса или быстрым шагом идущих по улице. Узнавал их лица, одежду, походку, и даже после того, как они выражали неудовольствие тем, что он таращится на них, будто они восстали из могилы, все равно считал, что видел их мертвыми, а потому ощущал то же самое, что пастушки, увидевшие Деву Марию[98].
Так, однажды отец появился рядом с ним в окопе в форме майора, и хотя не узнал сына, это точно был он. И другие возвращались, пусть ненадолго, возможно, только потому, что он хотел, чтобы они вернулись. Саван так тонок. Когда он на трупе, сквозняк может пошевелить ткань, и скорбящему иной раз кажется, что тот, о ком он горюет, дышит. Он зовет медсестер. Зовет врачей. Мол, произошло чудо. Он жив. Это только кажется, что он умер. Когда саван убирали, грудь, казалось, слабо поднималась и опадала. Ожидание, что человек, который дышит, поднимется, бывало, затягивалось, драматичность происходящего не уступала свидетельствам о падении империй.
— Вы можете прояснить мне кое-что насчет женщины, которая останавливалась в вашем отеле в начале года? — спросил Алессандро портье, который вернулся на свой пост.
— Разумеется. Как ее звали?
Алессандро сказал.
— Она приезжала с ребенком.
Портье просмотрел регистрационную книгу, быстро листая страницы.
— Нет, с начала года до этого дня такая женщина у нас не проживала.
— Вы как-то отмечаете, что женщина была с ребенком? В вашей регистрационной книге есть соответствующая…
— Да, — портье развернул книгу к Алессандро. — Тут пишется — ребенок вместе с таким-то и/или такой-то, сын или дочь — для более старших детей.
Алессандро полчаса листал регистрационную книгу. Искал Ариан даже под своей фамилией, на случай, если она взяла ее. Ничего не нашел. Только в двух случаях женщина останавливалась вдвоем с ребенком. Обе дамы приезжали из Англии. Возможно, вдовы военных или собирались встретиться с мужьями, которые находились на Востоке. Осенью и зимой англичане часто ехали через Венецию, потому что в Адриатическом море не бывало таких сильных штормов, как в Тирренском.
— Вы уверены, что в эту книгу занесены все, кто останавливался в отеле?
— Это закон, — ответил портье.
Алессандро снова оставил чаевые. Поднялся в номер. Уже начал засыпать, но вдруг вскочил и выбежал из комнаты. Длинный коридор устилал красно-золотистый ковер. Он домчался до лестницы. Развернулся и обследовал остальные коридоры второго этажа в поисках уборщицы.
Только на третьем этаже обнаружил ее тележку, и у него перехватило дыхание, словно он увидел перед собой шумерскую колесницу.
— Я забыл дать вам чаевые! — прокричал он пожилой женщине, которая от испуга прижала руки к груди. И принялся отсчитывать банкноты, не в силах остановиться.
Получив месячное жалованье, женщина принялась благодарить его с таким жаром, что он не мог ввернуть ни слова. Наконец, приложил палец к губам и взмолился:
— Синьора!
Когда та замолчала, начал задавать вопросы. Она, похоже, боялась, что он отберет у нее деньги, хотя положила их в карман и застегнула клапан, но не смогла сказать ему то, что он хотел узнать. Опечалилась, рассказывая ему о двух англичанках, которые не говорили ни на итальянском, ни на французском, одной с мальчиком лет восьми, второй с двумя девочками-подростками.
— Кто-нибудь еще? С ребенком? Маленьким? Мать со светлыми волосами?
— Нет, — покачала головой уборщица. — Мне очень жаль.
Алессандро широко распахнул окна в своем номере, и морской воздух с Адриатики, преодолев несколько рядов крыш и кроны деревьев, добрался до него. Поначалу море вдали синело, но ближе к вечеру стало перламутрово-серым. В прохладном и чистом воздухе Алессандро спал под толстым одеялом. Если ему случалось заснуть днем, он всегда горел, как в лихорадке. В сумерках небо и море слились — оба сине-зеленые. Он подумал, что все еще спит, и ему пришлось шесть раз плеснуть в лицо холодной водой, прежде чем появилась уверенность, что он проснулся в достаточной степени, чтобы заказать обед.
То ли в гавани пришвартовался корабль, то ли в отель прибыла большая группа туристов, но в обеденном зале не осталось ни одного свободного места, за столиками сидело не меньше сотни человек, которые громко разговаривали, смеялись, ели. Металл ударялся о фарфор, фарфор — о фарфор, металл — о металл, звуки не затихали ни на секунду. Двери на кухню то и дело открывались и закрывались, открывались и закрывались.
Официанты, хотя и пытались, не могли уделить ему должного внимания. Алессандро принесли суп, хлеб, бифштекс и салат, а потом, только когда попросил, бутылку минеральной воды. Ел тихо, наблюдая за женщинами в модных шляпках и семьей из пяти человек за одним столиком, которые молчали за едой, а встав из-за стола, без единого слова разошлись в разные стороны.
Уехать он намеревался утром. Денег осталось аккурат на билет третьего класса до Рима.
В Риме трава росла даже в январе, а зерновые, пусть и медленно, в декабре и феврале. Солнечный день без дождя казался остатком золотой осени. Садовники подрезали ветки, выравнивали живые изгороди, сгребали сухие листья, гоняли кошек, а в сухую погоду сжигали в кострах ветки и сухую траву. Белый дым поднимался по всему городу. Поскольку деревья и трава не сохли, как в августе, садовники не боялись оставить эти костры, когда приходило время идти домой, и они догорали в ночи, точно хэллоуиновские тыквы, шипя от одиночества.
Когда другие садовники уходили домой, Алессандро опускался на колени и протягивал руки к золе и углям. Слушал, как свистит ветер над Стеной Аврелия, в яблоневых садах и соснах, напоминая шум прибоя. Он оставался у костра на час или два в темноте, и никто не видел его, потому что все уже сидели по домам, где ярко горел свет.
Часто он обедал в кафетерии для железнодорожных рабочих. Хотя пускали в кафетерий всех, чужаков там не жаловали. Алессандро не любил есть дома, даже завтракать. Когда ложишься спать и встаешь один, ранним утром даже стук чайной ложки о чашку представляется таким же отвратительным, как шум товарного поезда, нарочито медленно проезжающего сортировочную станцию с противным скрежетом на каждой стрелке.
Однажды декабрьским вечером он пришел в кафетерий поздно, чтобы съесть холодную курицу, суп, крутое яйцо и салат. Он не читал газет и не чувствовал себя достаточно подкованным, чтобы присоединиться к постоянным дебатам о коммунизме, ленинизме, социализме, капитализме, фашизме и синдикализме. В любом случае в спорах участвовали люди, с которыми он сталкивался всю жизнь, полагающие, что искусство следует оставить в стороне, а страсть и эмоции отдать политике. Хотя Алессандро прекрасно разбирался в политической теории и мог быстро дойти до сути практически любого вопроса, он отвечал тем, кто пытался вовлечь его в разговор о социальных теориях или революции, что недостаточно подготовлен, чтобы это обсуждать, что предпочитает обрезать и жечь сухие ветки и лучше будет смотреть на цветочек, едва проклюнувшийся из земли на коротком стебельке, чем рассуждать о переустройстве мира. «Я человек простой», — говорил он.
Но пока он ел, у него не оставалось выбора, кроме как слушать каких-то фашистов, приехавших из Милана. Один, настоящий упрямец, умел привлечь к себе внимание, демонстрируя и невероятную мелочность, и притягательное величие. Многие железнодорожные рабочие перестали есть, заслушавшись его, а оторвать железнодорожного рабочего от еды дорогого стоит. Алессандро боялся, что фашисты будут заигрывать с левыми и вместо того, чтобы уничтожать другу друга, объединятся, но полагал, что этого не произойдет еще десять или пятнадцать лет: война слишком истощила страну. И не сомневался, что фашист-упрямец, нелепый, хотя и умеющий убеждать, в итоге ничего не добьется.
Домой Алессандро всегда приходил поздно. Его комната с предельно скромной обстановкой годилась только для сна, а утром мир словно начинался с чистого листа. Алессандро всегда уходил из дома рано, сразу за пекарями и разносчиками газет, потому что воздух и небо поддерживали в нем жизнь, и он это знал.
Как-то вечером, придя домой, Алессандро зажег лампу и прикручивал фитиль, пока свет не стал красно-желтым, как солнце в южной Индии. Уже снимал пиджак, когда заметил письмо, которое подсунули под дверь. Снова надел пиджак и уставился на конверт.
Он не получал писем. Его финансовые дела, какими бы они ни были, вела старая фирма его отца. Он собирался передать какую-то их часть Артуро после того, как ситуация выправилась бы, но пока для всей финансовой или иной официальной корреспонденции использовал адрес юридической фирмы, а личных писем не получал, потому что больше ни с кем не водил знакомства.
Он писал Ариан, и его первое письмо начиналось с мысли, что ее смерть превращает его письма ей во внутренний монолог. Разумеется, эти письма он не отправлял. Не отправлял, потому что не знал адреса, а если б увидел этот адрес во сне или в галлюцинации, письма бы не дошли, а если бы все-таки дошли, на них бы никто не ответил.
Алессандро нагнулся поднять конверт, подошел к лампе. Письмо было из Венеции, на листе писчей бумаги с шапкой отеля «Маджента». Он быстро пробежал приветствие и первые четыре или пять строчек, написанное рукой, не привыкшей к перу. Затем стал вчитываться в каждое слово:
«Я не написал раньше, потому что в декабре у дочери моей сестры Гизеллы была конфирмация, и все мое время уходило на то, чтобы сделать для нее подарок. Я изготовил для нее океанский лайнер с маленькими электрическими лампочками в каждой каюте, которые светятся сквозь иллюминаторы, она поставила его в своей комнате и смотрит на него перед сном.
Мария рассказала мне, что вы спрашивали у нее о каких-то людях. Другие говорили мне то же самое. Они описали мне этих людей. Я официант, но не работал, когда вы были здесь. Прошлой весной мать и ребенок, мальчик примерно двух лет, несколько раз ели в ресторане. Я, наверное, не запомнил бы их, но я очень люблю детей, а этот малыш был таким красивым, как и его мать, и у него был корабль, парусник, сделанный из дерева, и я обратил на него внимание, потому что после службы на флоте, в Ливии и вне Ливии, я сам мастерю корабли из дерева.
Эта была быстроходная шхуна из тех, которые дети запускают в фонтанах, но управлять ими не умеют. Поэтому надо обязательно иметь под рукой длинный шест, чтобы достать шхуну с середины фонтана! Что ж, я подумал, что вы захотите это узнать. Они здесь были. И хотя они не жили в отеле, я дал матери холщовую сумку, чтобы нести корабль, сумку для пикника, какие мы даем всем гостям, они лежат на кухне. Она подошла идеально. Сначала я хотел забрать сумку, но, увидев, как она подходит для корабля, сказал матери, что сумку она может оставить себе. Она римлянка. Она сказала мне, что ее муж погиб на войне, но она не может получить пенсию и живет с сестрой или кузиной, или еще с какой-то родственницей.
Мальчик пускает свою шхуну в фонтане Виллы Боргезе. Я его обнял и поцеловал. Мать это очень тронуло, а ребенок напомнил мне собственного сына, когда тот был маленьким. Мне кажется, они приходили два раза, а потом уже не возвращались. Если я опять их увижу, расскажу им о вас. Мы вложили бумажку в регистрационную книгу рядом с вашей фамилией на случай, что мы забудем.
Искренне ваш,
Роберто Дженцано».
Всю зиму 1920–1921 годов Алессандро ходил к фонтану на Вилле Боргезе, где летом при полном безветрии дети пускали парусники и наблюдали, как они уплывают за пределы досягаемости. Но в пустой чаше фонтана ветер гонял лишь сухие листья размером с монету. Весной человеку, так же, как и Алессандро, привыкшему зимой проводить столько времени на свежем воздухе, что он уже не замечал холода, ветра, дождя и темноты, предстояло провести час или два, очищая чашу. Отполировать посеревшие раструбы, почистить сливные отверстия, повернуть кран, открывающий доступ в трубы чистой, прозрачной воде. Она польется, заплескается на дне, поднявшись на несколько сантиметров, а потом заполнит собой всю чашу. Получится круглое озеро свежей воды, никогда не знающей покоя. Из этого озера будут пить собаки, старики смачивать в нем носовые платки, прежде чем повязать на голову, а дети пускать парусники.
Иногда в сумерках Алессандро возвращался к фонтану и полчаса или больше стоял, превращая серое небо в синее. В тишине и холоде зажигал солнце, одевал листвой деревья, населял парк детьми и их матерями.
По пути с Джаниколо к Вилле Боргезе его грезы только усиливались. Всякий раз, пересекая город, он радовался тому, что может ждать его впереди. Он прекрасно понимал, что все это, возможно, иллюзия, родившаяся из его любви, одиночества и всех виденных им картин, изображавших Мадонну с младенцем. А может, иллюзия родилась из одной картины Джорджоне, и он перенесся в нее.
Зимой, продолжая работать, Алессандро представлял себе мир таким идеальным, что иной раз забывал, что в реальности он совсем иной.
— Ты подался в религию? — спросил кто-то из садовников, когда они рыли землю под фундамент для холодного парника.
— Нет. Почему ты спрашиваешь? — удивился Алессандро.
— Ты говоришь сам с собой, улыбаешься кошкам и птицам. Только священники и сумасшедшие улыбаются кошкам. Лучше говори с кем-нибудь.
Алессандро продолжал копать.