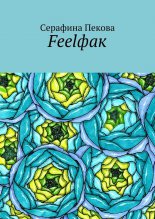Гретель и тьма Грэнвилл Элайза

Пройдет немало лет, прежде чем Дудочник вернется за остальными детьми. Музыку его заглушили, но юные и старые, большие и малые — все подряд — принуждены идти за ним вслед, тысячами… даже великаны-людоеды в сапогах-скороходах да с плетками звонкими, даже их псы о девяти головах. Мы — крысы, это наш исход, Земля ежится у нас под ногами. Весна оставляет по себе горький вкус. Дождь и люди падают дни напролет, а ночи напролет рыдают в озерах русалки. Медведь кровавого окраса сопит нам в пятки. Я не свожу глаз с дороги, считаю белые камешки и страшусь того, куда ведет нас этот след из пряничных крошек.
Подействовало ли заклятье? Думаю, да: кольца тумана обвивают нам лодыжки, подымаются и глушат все звуки, заглатывают всех, кто рядом, целиком. Миг наступает, и мы бежим со всех ног, волоча Тень за собой, останавливаемся, лишь когда моя вытянутая рука нащупывает грубую кору сосновых стволов. Шаг, другой — и вот уж мы в заколдованном лесу, воздух прошит льдистыми ведьмиными вздохами. День схлопывается вокруг нас. Призрачные караульные бросаются вниз с деревьев, требуют назваться, но наши зубы настороже, никаких ответов, и надзиратели убираются прочь, хлопая крыльями, на восток, к луне в облачном саване. Корни змеятся, тянут нас к лесной подстилке. Мы таимся в тиши, прерываемой далеким стуком рогов, что сбрасывают олени.
Просыпаемся — нас не съели. Солнце впитало последние клочья тумана. Кругом, похоже, ни души. Недалеко же мы ушли: я вижу дорогу, но путников на ней и след простыл. Тихо — покуда кукушка не закликала из чащи.
— Слушай.
— Kukuka, — отзывается он и прикрывает глаза ладонью, всматриваясь в верхушки деревьев.
— Ку-ку, — говорю я ему. Он по-прежнему разговаривает странно. — Она делает ку-ку!
Он по обыкновению резко дергает плечом.
— Зато мы на воле.
— Пока двигаемся — да. Пошли.
Тень скулит, но мы насильно ставим его на ноги и, поддерживая его с обеих сторон, бредем вдоль кромки леса, пока не выбираемся к полям, где вороны деловито выклевывают глаза молодой пшенице. А дальше свежезахороненная картошка дрожит под земляными грядами. Рядами зеленых голов пухнут кочаны капусты. Мы встаем на колени и вгрызаемся в их черепа, капустные листья застревают у нас в глотках.
Идем дальше, ноги тяжелеют от цепкой глины, но тут Тень оседает на землю. Я тяну его за руку:
— Тут опасно. Надо идти. Если заметят, что нас нет…
Надо идти. Нам надо идти. Уж точно рано или поздно какие-нибудь добрые гномы или мягкосердечная жена великана сжалятся над нами. Но страх стал слишком привычным попутчиком — недолго ему гнать нас вперед. Еще и Тень с собой тащим. Голова у него повисла, глаза нараспашку, пустые, ноги волоком — две борозды тянутся следом в рыхлой грязи. Нам, похоже, конец от него настанет.
— Надо идти дальше одним.
— Нет, — пыхтит он. — Я обещал не бросать…
— А я — нет.
— Иди тогда сама. Спасайся.
Он знает, что я без него не уйду.
— Без толку стоять да разговаривать, — огрызаюсь я, подцепляю рукой плечо Тени и удивляюсь, как такое тонкое — будто лезвие ножа — может быть таким тяжелым.
Еще одна передышка — на сей раз мы присели на мшистый изгиб дуба, попробовали сжевать горстку прошлогодних желудей. Остались только проросшие. Тень лежит, где мы его бросили, смотрит в небо, но я-то вижу, что глаза у него теперь полностью белые. Оно вдруг кричит — громче мы ничего никогда от него не слыхали, — а дальше прерывистый вдох и длинный, судорожный выдох. Я выплевываю последние желуди. Тень больше не дергается и не вздрагивает, как мы привыкли; надавливаю ногой ему на грудь — не шелохнулось. Миг-другой — и я собираю пригоршню дубовых листьев и укрываю ему лицо.
Он пытается меня остановить:
— Зачем ты это?
— Оно мертвое.
— Нет! — Но я вижу облегчение, когда он опускается на колени проверить. — Мы столько всего сносим, а умираем все равно как собаки… pod potem... у забора, под кустом. — Он закрывает Тени глаза. — Baruch dayan emet[1]. — Должно быть, молитва: губы шевелятся, но ничего не слышно.
— Но мы-то не умрем. — Я тяну его за одежду. — Тени долго не живут. Ты же знал, что зря это. Зато теперь быстрее пойдем, ты да я.
Он стряхивает мою руку.
— Тут земля мягкая. Помоги могилу выкопать.
— Нет уж. Времени нет. Нам надо идти. Уже за полдень. — Вижу, он колеблется. — Тень никто не съест. Мяса никакого. — Он не двигается с места, и я ковыляю прочь, стараясь не оборачиваться. Наконец он догоняет.
Тропка вьется между лесом и полем. Один раз примечаем деревню, но решаем, что к логову колдуна мы все еще слишком близко, это опасно. Вот и солнце покидает нас, и идем мы все медленнее, пока я не сознаю, что дальше мы не потянем. Лес поредел: перед нами расстилается бескрайнее поле с ровными бороздами, докуда глаз хватает. Мы забираемся глубоко в кустарник, и тут я понимаю, что поле это — бобовое.
— Какая разница? — спрашивает он устало.
— Сесили говорила, если заснешь под цветущими бобами — спятишь.
— Нет тут цветов, — отрезает он.
Ошибается. Несколько верхних бутонов уже развертывают белые лепестки, в сумерках призрачные, а наутро очевидно, что надо было нам поднажать: за ночь раскрылись сотни цветков и танцуют теперь бабочками на ветру, разливая в теплеющем воздухе свой аромат.
— Дай мне еще полежать, — шепчет он, вжимает щеку в глину, отказывается идти, даже не замечая черного жука, грузно взбирающегося у него по руке. — Никто нас тут не найдет.
Его синяки меняют цвет. Были бордово-черные, теперь подернулись зеленью. Он просит сказку, и я вспоминаю, как Сесили рассказывала мне про двух детишек, выбравшихся из волшебной волчьей ямы. У них тоже кожа позеленела.
— Дело было в Англии, — начинаю я, — во время урожая, давным-давно. На краю кукурузного поля возникли ниоткуда, как по волшебству, мальчик и девочка. Кожа ярко-зеленая, и одеты странно. — Я оглядываю себя и смеюсь. — Когда они говорили, их эльфийского языка никто не понимал. Жнецы привели их в дом Хозяина, там за детьми ухаживали, но те ничего не ели, совсем-совсем ничего, пока однажды не увидели, как слуга несет охапку бобовых стеблей. Вот их-то они и поели — но не сами бобы.
— А почему они не ели бобы, как все остальные?
— Сесили говорила, в бобах живут души умерших. Так можно мать свою или отца съесть.
— Глупости какие.
— Я тебе рассказываю, что она мне говорила. Это всамделишная история, но если не хочешь…
— Нет, давай дальше, — говорит он, а я подмечаю: хоть и держится снисходительно, но на бобовые цветочки поглядывает косо. — Что потом случилось с зелеными детками?
— Поели они бобовых стеблей и стали сильнее, а еще английскому научились. Они рассказали Хозяину о своей прекрасной родине, где неведома нищета и все живут вечно. Девочка обмолвилась, что играли они как-то раз и вдруг услышали сладостную музыку и пошли за ней через пастбище да в темную пещеру…
— Как у тебя в той истории про Дудочника?
— Да. — Я медлю: в истории у Сесили мальчик погиб, а девочка выросла и стала обычной домохозяйкой. — Остальное не помню.
Он молчит, а потом глядит на меня.
— Что нам делать? Куда податься? К кому? Нам пока никто ни разу не помог.
— Сказали, что помощь на подходе. Сказали, что она уже идет.
— Ты в это веришь?
— Да. И поэтому нужно двигаться им навстречу.
Под синяками лицо у него белое как мел. И с рукой что-то не то: как ни пошевельнет ею — морщится. В уголках рта — свежая кровь. И тут я вдруг так злюсь, что взорвусь того и гляди.
— Убила б его. — Сжимаю кулаки, аж ногти впиваются. Хочется кричать, и плеваться, и пинать все подряд. Он все еще смотрит на меня вопросительно. — В смысле, того, кто все это начал. Если б не он…
— Ты не слышала, что л, о чем все шептались? Он уже умер. — Опять он дергает плечом. — Как ни крути, мой отец говорил: если не тот, так другой какой-нибудь, точь-в-точь такой же.
— Тогда, может, здесь бы и оказался кто-нибудь другой, а не мы.
Он улыбается и стискивает мне руку.
— И мы бы никогда не встретились.
— Да встретились бы, — отвечаю яростно. — Как-нибудь, где-нибудь — как в старых сказках. И все равно жалко, что не я его убила.
— Слишком большой, — говорит он. — И слишком сильный.
Тру глаза костяшками пальцев.
— Раз так, жалко, что я не побольше. Наступила бы на него и раздавила как муху. Или вот бы он был маленький. Тогда б я сбила его с ног и оторвала голову. Или заколола бы ножом в сердце. — Молчим. Я размышляю, какими еще способами можно убить кого-нибудь ростом с Мальчика-с-пальчика. — Пора.
— Дай мне поспать.
— Пошли. Потом поспишь.
— Ладно. Но сначала расскажи мне сказку — твою самую длинную, про мальчика и девочку, которые людоеда убили.
Я задумываюсь. Ни одна моя старая история вроде бы не настолько страшная, пока до меня не доходит: ведь наверняка сложатся обстоятельства, в которых людоеда и впрямь можно убить. Спасибо Ханне, я знаю где. И даже когда. Ни с того ни с сего я воодушевляюсь.
— Давным-давно, — начинаю я, но тут же понимаю, что так не годится. Не такая это сказка. Он все еще держит меня за руку. Я резко дергаю его. — Вставай. Дальше буду рассказывать тебе истории только на ходу. Остановишься — я больше ни слова не скажу.
Один
Городок Гмунден, у покойного озера, окруженный высокими горами, был мирным летним курортом, пока однажды утром Матильда не узнала, что здесь в 1626 году некий генерал Паппенхайм[2] жестоко подавил крестьянский бунт. Это имя разворошило осиное гнездо обиды. Паппенхайм — фамилия этой непонятной Берты[3], юной пациентки, с которой возился Йозеф. Той, о ком он непрестанно говорил, волновался за нее — за столом, перед сном, утром, днем и вечером, а у самого жена на сносях. Отчего же? Вообще-то она отлично понимала отчего, вот спасибо-то, доктор Йозеф Бройер[4]. И не одна она так думала. Спросите Зигмунда. Он подтвердит.
Матильда все никак не могла успокоиться. Уже почти двадцать лет прошло — никакой разницы. Возражения Йозефа тоже ничего не меняли. И они ссорились и ссорились, и все больше было в этих ссорах обвинений, что все сильнее набрякали злобой, пока он больше не смог их выносить и не вернулся один в Вену. Если не считать старой няни-экономки да, разумеется, юноши, дом пустовал.
Теперь хотя бы тихо. Точнее, за все эти годы Йозеф привык к глухим звукам за окнами. Ум его уже не замечал ни далекого рокота трамваев, ни скрежета и грохота конок, ни уличных криков, ни визгливого клекота проходящих мимо служанок. Даже запоздалых бражников и их какофонические распевы мелодий недавно усопшего Штрауса[5] он оставлял без внимания.
Обычно тишину его кабинета, заполнявшую промежутки между пациентами, нарушал лишь баюкающий ход старинных часов, но ни один пациент не проторит дорожку к его порогу, пока семья не вернется в город, тем отметив официальное окончание его отпуска. Этим утром Йозеф, склонившийся над столом, осознал другой звук — дрожкий стук, тихий, как шепот, контрапункт-аллегриссимо к ворчанью часов. Звук этот показался ему настолько частью его самого, что он, внезапно встревожившись, схватился за грудь. Однако все-таки не аритмический шум в сердце, а лишь лихорадочная попытка побега бабочки с потрепанными крыльями, огорошенной оконным стеклом. Столь нескорое осознание этого — мера беспокойства, доставленного ему ранее случившимся.
Разомкнуть пальцы девушки удалось лишь великим усилием. Никогда прежде не встречалось ему такое цепкое упорство. Кот все еще прятался за бюро. Может, он там помер: в потасовке Гудрун, визжа от ярости, схватила его за голову и с силой рванула у девочки из рук. Цепляясь в падении за воздух, животное добавило к общему гвалту свой вопль баньши. Беньямин, таившийся за дверью, немедля ворвался в комнату. Кавардак. А девушка меж тем все так же смотрела прямо перед собой, бессловесно, безучастно.
Чем зверь накликал на себя эту напасть? Коты не любы многим, а некоторым даже приписывают ужас перед ними — Наполеону, Майерберу, беспутному Генриху III Английскому[6], — но мало кто без всякого чувства, не глядя, станет хватать кота за горло и душить его.
Йозеф со вздохом поднялся из-за стола и открыл окно, стараясь держаться в тени шторы. Миг замешательства, и бабочка — Groer kohlweiling[7], — летняя разорительница капустных грядок, против чьего потомства Беньямин вел непрестанную войну, улетела навстречу неминуемой смерти. Он смотрел, как она порхает все выше, жмется к зданию, сражаясь с ветерком. Все ж не капустница: черные как сажа пятна на верхних крыльях слишком велики, необычайно выражены даже для самки. Редкий подвид, вероятно, — впрочем, без разницы. Умирающий год имел неутолимый аппетит на таких хрупких существ. Сегодня Йозеф чувствовал в воздухе осень — смесь древесного дыма и грибка, смерти и тлена. Он чуял, как черви под лиственной плесенью, в жирном темном перегное, предаются своему преображению. Деревья меняли цвет. Уже начала опадать листва. Маячившая суровая зима всегда сворачивала ему настроение к меланхолическому, тем более — в этом году: наступал конец не только веку, но и любви. Матильда отвернулась от него. Ее настроения минут — это все трудный переход, отметивший увядание ее фертильности; жизнь вновь успокоится. Но те резкие слова, ядовитые обвинения… Он сердито подергал себя за бороду. Прежнего им никогда уж не вернуть.
А что осталось? Как встречать ему преклонные годы — обделенным чувствами, с отмеренной нежностью, отлученным от прикосновенья? Но хоть постоянное обретение знания его поддержит — suum esse conservare[8]. Слава Богу, есть работа. И, словно в подтверждение этой мысли, к нему в руки попросту приплыл сей поразительный случай.
Йозеф вернулся в кресло и уставился на девственную страницу, пока еще не замаранную никакими мучительными тайнами, ждавшими раскрытия. Предстоит записать факты. Он вывел единственное слово: «Frulei» — и остановился. Почесал голову и оглядел знакомые лица своих ежедневных спутников: древние часы, все с большей вялостью влачившие ноги по ходу времени; вырезанная из дерева голова оленя, увенчанная сильно ветвящимися рогами о шести отростках, взгляд вперен в каждого пациента, уши навострены, словно вечно подслушивают; портрет отца, Леопольда, — смотрит, выжидает. Йозеф просидел за этим столом больше тридцати лет, и ни разу не было у него недостатка в словах. Нужно просто выбрать имя — любое имя — и изменить его, когда личность девушки будет установлена. И все же он медлил. Называть — дело непростое, ибо, назвав, утверждаешь власть над названным. Так же, именуя младенца, именующий лепит его, придает ему форму соответственно своим ожиданиям. Имя отделяет. Подчеркивает человеческую отъединенность. А псевдоним — другое, просто личина.
Йозеф припомнил, как впервые взглянул на девушку, в руках у Беньямина, завернутую в попону — ее резкие складки обрамляли бледное, окровавленное лицо девушки, — раны на горле — раззявленный второй рот, ужас почти голого черепа, глаза распахнуты, но незрячи, будто не сводят взгляда с мрачного грядущего. В тот миг она показалась ему сломанным цветком. Цветочное имя, стало быть, — почти нежность. А раз она до того бледная, до того стройная, — и к тому же это любимый егоцветок — отныне ее будут звать Лили.
- Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne,
- Die liebt’ ich einst alle in Liebeswonne[9].
Это решение подтолкнуло Йозефа к действию. Разгладив блокнот, он принялся писать.
Фройляйн Лили Икс
Фройляйн Лили Икс, на вид лет двадцати с небольшим, в хорошей физической форме. О ее предыдущей жизни ничего не известно. Руки ухожены, черты изящны, что указывает на происхождение из высших слоев общества. Ее обнаружили неодетой на голой земле близ Наррентурма (27 августа 1899 года). Трудно установить, сколько она там пролежала, но, вероятно, не более суток, ибо, как известно, Башня дураков — любимое место встречи школяров, собирающихся здесь, чтобы кидать камни в громоотвод. Состояние Лили, когда мальчишки наткнулись на нее, было таково, что они сочли ее мертвой.
Первичный осмотр выявил необычайно медленный сердечный ритм и едва различимое дыхание. Судя по всему, она не осознает ни себя, ни окружающих, а также не откликается на внешний мир, не замечает хода времени. Глаза у нее открыты, но тоже не реагируют на возбудители. Кожа и слизистые на вид в норме. Все зубы на месте, здоровы. Голова пациентки грубо выбрита. Есть сильные ушибы за ушами и вокруг левого глаза. Два поверхностных надреза на горле, близко друг от друга, возможно — маленьким карманным ножом. Также имеются ушибы предплечий и запястий, частично скрывающие цепочку чернильных знаков на левой руке; знаки, похоже, несводимые. Также я обнаружил ушибы на внутренней поверхности бедер и на ягодицах, но никаких признаков недавнего сексуального насилия. На левой и правой лопатках ссадины — судя по ним, пациентку волокли по земле за ноги. Пациентка оставалась в неподвижности три дня и за это время ничего не ела и не принимала внутрь жидкостей, не считая нескольких капель воды, влитых между ее губ из ложки.
Йозеф отложил ручку: вспоминать миг перемены ему не хотелось. Вместо этого, он отправился на кухню — его вел нос, учуявший поживу в виде свежих шлишкес[10].
Расслабленный, едва ли не schlampig[11] режим, в каком дом жил в Матильдино отсутствие, сам по себе был отпуском. Сидеть на табурете и смотреть, как трут и рубят, взбивают и смешивают, поливают жиром и снимают пробу, — все это переносило его в детство, когда бабушка взялась править отцовым домом, а Гудрун еще не знала столько старых венгерских рецептов. Дождавшись, когда она отвернется, он тайком прибрал к рукам теплый вареник, покрытый сахаром и спекшимися хлебными крошками.
— Не трогайте, — сказала Гудрун, даже не глядя через плечо, устрашающим голосом, когда-то предназначенным для детской. — Они все посчитаны. — Йозеф не отозвался. У старой няни были свои жесткие правила: с набитым ртом не разговаривают. Не спрашивая, она принесла ему кофе. — Я сварила пациентке супу.
— Вряд ли она станет его есть.
— Станет, если я ее покормлю. — Гудрун воздвиглась рядом с ним, руки в боки, глаза горят.
— Толку запихивать ей еду в рот, если она глотать не может…
Гудрун фыркнула:
— Не может? Не хочет. Удивительно, что вы с ней все еще возитесь, после сегодняшнего-то, поутру. Злыдня она, вот что. Девушку потребно выдрать хорошенько. Да запереть накрепко.
Йозеф пропустил ее колкость мимо ушей.
— Побудет в своей комнате еще несколько дней. Я пришел к выводу, что мы слишком рано привели ее вниз.
— А я пришла к выводу, что она комедию ломает, прикидывается мертвой. Попомните мои слова: она тот еще фрукт. Может, дожидается, пока вы отвлечетесь, да и запустит своих подельников, чтоб забрали все серебро и нас тут всех поубивали прямо в постелях. Вена уж не та, что прежде, в городе полно чужаков. Говорила я вам как есть: беду в дом несете. А вы слушали? Нет. Я права? Права. А хозяйка что скажет, а? Фрау доктор Бройер не захочет, чтоб ее благовоспитанные дочки жили рядом с девкой, которая, может, получила свое…
— На девушку жестоко напали, — проговорил Йозеф, пытаясь прервать ее излияния.
Гудрун отодвинула тарелку с варениками подальше.
— А голос на меня повышать незачем.
Йозеф почти готов был запретить насильственное кормление и поспешно ретироваться, но тут ввалился Беньямин — приволок корзину, с горкой наполненную овощами, и отвлек Гудрун: та излила свое скверное настроение на его грязные сапоги. Юноша ухмыльнулся, не обращая внимания на угрозы.
— Как она, герр доктор?
— И ты мне пол будешь скрести, покуда с него кормиться не сгодится, — завершила Гудрун и добавила: — Да ну ее. Лучше б о здоровье кота пекся. Если бедняжка еще жив.
Глаза у нее сверкали. Йозеф вспомнил, что кот ей никогда не нравился. Он поставил пустую чашку и кивнул Гудрун, нависшей над ним с кофейником.
— Спасибо. — Не в его привычках было обсуждать пациентов, но Беньямин явил расторопность, принеся девушку… Лили… сюда, и тем заслужил право знать. — Физически ей гораздо лучше. Ушибы…
— Я ему сказала уже, что синяки сходят, — вставила Гудрун. — Почти прошли благодаря мне. И жуткие порезы на шее более-менее затянулись. — Тут она фыркнула. — А те чернильные надписи на руке я вывести не могу, как ни терла.
— Это татуировки, — пробормотал Беньямин, закатывая глаза. — Скажите ей, герр доктор. Она меня не слушает. — Он вызывающе глянул на Гудрун. — Татуировки. Они не сойдут.
— Татуировки — у матросов, — презрительно отозвалась Гудрун. — И на то есть причины, о которых я рассуждать не собираюсь. Но не у молоденькой же девушки на руке.
— Может, это для красоты, — рискнул предположить Йозеф. — Люди украшают свое тело татуировками с начала времен. Раньше прокалывали кожу палочками и заостренными костями. Могу представить, насколько это болезненно, но знаю, что в Нью-Йорке теперь изобрели татуировочную машину.
— Все равно больно, должно быть. — Беньямин поморщился, расшнуровывая преступные сапоги.
— Левит 19, стих 28, — огласила Гудрун. — «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь Бог ваш».
Мужчины переглянулись, но промолчали. По этим отметинам Йозеф утвердился в мысли, что Беньямин прав в своих подозрениях: еврейкой Лили быть не могла. Ныне это имело значение, ибо с Веной вновь случился припадок антисемитизма, какие бывали и прежде, — насмешки и подначивания, а время от времени и стычки, ничего нового. На сей раз Йозеф заподозрил, что подогревал волнения бургомистр Люгер[12] — в своих политических целях, а скверно образованные римско-католические священники, как водится, лишь усугубили положение, пылкой своей фантазией расписывая вековые басни о ритуальных убийствах, в том числе о принесении в жертву христианских младенцев. А тут еще кровавый навет на Хилснера в Богемии. Сходство между состоянием тела Анежки Грузовой[13] — горло перерезано, одежды разодраны — и Лили подтолкнули юношу действовать прытко, чтобы избежать расправы над еврейской общиной. К счастью, девушку нашел младший брат Беньямина с приятелем, и уже через час ее надежно спрятали в почтенном доме Бройеров. Беньямина за столь пристальное внимание к их ночным разговорам следовало похвалить.
— Так или иначе, — продолжила Гудрун, втыкая нож в сердце капустного кочана, — какая уважающая себя женщина захочет себе строчки и циферки на запястье вместо миленького браслета? Какая ни есть, а на дикарку эта девчонка не похожа.
— Лили, — вымолвил Бройер, — я решил, что нам следует называть ее Лили.
— Лили, — отозвался эхом Беньямин, смакуя слово. — Лили. Так Лили оправилась после утреннего? Как ее умственное состояние?
— Да без разницы, — сказала Гудрун. — Как поступим с супом?
Йозеф поднялся.
— Отнесу ей.
— Лучше я. Заставлю ее есть, помяните мое слово, — пообещала Гудрун.
— Нет, — уперся Йозеф, — воду она принимает только из моих рук, я ее и кормить должен. — Его тут же накрыло ощущением дежа-вю — еле заметной тенью по спине пробежало нечто, похожее на страх. История повторялась. Он вспомнил долгий промежуток времени, после которого Берта стала принимать пищу — лишь после того, как он протянул ей ложку. Может, лучше бы… Но потом он вспомнил оскорбительные обвинения Матильды и отказался от здравомыслия. — Кормить ее буду я, — проговорил решительнее.
— Тогда я понесу поднос, — сказала Гудрун, не менее решительно, пригвождая его взглядом. — Один вы не пойдете.
Йозеф поджал губы. На мгновенье голоса его жены и Гудрун слились воедино.
— Девушку от меня защищать не требуется. — На Беньямина он старался не смотреть.
— Я о вашей репутации пекусь, герр доктор. В отсутствие хозяйки-то.
Они потащились вверх по лестнице, тяжко пыхтя, отягощенные возрастом. Добравшись до двери в гостевую спальню, Йозеф постучал — из учтивости, — но Гудрун, потеснив его, зашла внутрь, удерживая поднос на могучем бедре. Лили сидела в той же позе, в какой они ее оставили, — жестко выпрямившись в кресле, — и глядела не мигая прямо перед собой. Глаза широко распахнуты. Тусклые. Безучастные. Единственное замеченное Йозефом отличие: левая ладонь лежала у нее на коленях, собранная в расслабленную горсть.
— Сначала воды. — Он поднес стакан к губам Лили. Ответа не последовало, и Йозеф протолкнул небольшую ложку с водой Лили в рот. Вода вытекла из уголков рта, побежала по горлу, просочилась под сливового цвета ткань и дальше вниз, незримо. Йозеф отвел взгляд. Гудрун облачила девушку в одежду, из которой в семье уже выросли. Темные оттенки не шли бледности Лили, нужно как-то иначе все устроить. Он еще раз наполнил ложку.
— А ну пей давай, — приказала Гудрун. — Поторапливайся, суп стынет.
— Криком ничего не добьешься.
— А каково будет, если она помрет с голоду, герр доктор? Тогда что? — Гудрун склонилась ближе. — Что толку сидеть да млеть от того, что с тобой стряслось, девонька. Небось сама на себя все и навлекла. Что было, то было. Отряхнулась и пошла, вот что я тебе скажу.
— Хватит, — сказал Йозеф. — Отныне в присутствии Лили воздерживайтесь, пожалуйста.
— Ладно-ладно. — Прямой приказ не помешал Гудрун походя резко хлопнуть Лили по загривку. Больно ей точно не сделали, но Лили тут же откликнулась: звучно втянула воздух, дернула головой в сторону и повела плечами. Нежный, цвета лепестков дикой розы, румянец проступил у нее на щеках. Глаза прояснились. Она сморгнула и сфокусировала взгляд, но не на Йозефе, сидевшем напротив, а на точке где-то над его левым плечом.
— Vous tes qui?[14] — Голос у Лили был низкий, мелодичный и для Йозефа очень приятный. Он уставился на нее, завороженный цветом ее радужек — ярко-сине-зеленых, почти бирюзовых, с кольцами янтарных крапин вокруг зрачков. Теперь, когда лицо ее оживилось, он осознал, что Лили наделена редкой красотой, а черты ее идеально симметричны, пропорциональны. Смутный образ какой-то картины замаячил над утесом его памяти. Он попытался вспомнить художника. — Vous tes qui? — повторила она и, не получив ответа, продолжила: — s n? Cine esti tu? Kim? — Она чуть возвысила голос. — Kim pan jest? Kdo ar tebe? Wer sind Sie?[15] Кто вы? — Губы продолжили двигаться, но Йозеф не смог уловить слов.
— Простите, фройляйн. Меня зовут Йозеф Бройер. Я врач…
— Йозеф Роберт Бройер, — проговорила Лили, впервые глядя на него в упор. — Родился в Вене 15 января 1842 года, окончил Академическую гимназию в 1858-м…
— Все верно, — сказал Йозеф слегка ошарашенно. — А вас как зовут?
— У меня нет имени. — Лили повернула руку запястьем кверху. — Только номер.
— Номер? — фыркнула Гудрун. — Сколько еще эту ерунду?.. — Йозеф метнул в нее предостерегающий взгляд, после чего вновь обратил все внимание на девушку.
— У всех есть имя, фройляйн. Так мы отличаем одного человека от другого.
— С чего вы взяли, что я человек? — Лили пристально глядела на свой неплотно сжатый кулак и медленно разогнула пальцы, явив белую бабочку — ее пятнистые крылья чуть помялись, но, видимо, не пострадали: бабочка мгновенно спорхнула прочь и присоединилась к нескольким другим, бесцельно выплясывавшим восьмерки под потолком. — Так много, — пробормотала она. — Тысячи, миллионы, по одной на каждую сворованную душу. Их уже слишком много, не сосчитаешь.
— Ах да, — согласился Йозеф, — бабочки издавна ассоциировались с человеческой душой. В греческой мифологии…
Лили сомкнула пальцы.
— Не бабочки. Они — цветы.
Йозеф глянул на Гудрун. Поджав губы, та присела, надулась и перебирала край фартука. Он откашлялся и вернулся к обсуждению исключенности Лили из человеческой расы. Он улыбнулся.
— Не вижу причин не считать вас человеком.
— Я не принадлежу к человечеству. Сначала я была чистой идеей. Потом воплотилась в существо, на которое возложена очень важная задача.
Йозеф кивнул, но от высказываний воздержался.
— А родились вы здесь, в Вене? Нет? Может, вспомните, где провели детство?
— Я не рождалась. Меня создали сразу вот такой.
— Как и всех нас, — согласился Йозеф. — Создатель вселенной…
— Вы думаете, я — ангел? — спросила Лили, глядя прямо перед собой. — Нет, я и не ангел. Уверена, вы слышали об Олимпии…
— Эрнст Хоффманн, — пробормотал Йозеф, понимающе кивая. — Красавица-автоматон из его рассказа «Der Sandmann»[16]. Разумеется, но…
— Она умела произносить лишь «А, а». Считайте, что я — примерно такое вот существо, только гораздо умнее. Машина, созданная по образу и подобию взрослой самки человека.
— Ясно. — Йозеф откашлялся. — Созданная.
— Недоделанная, по-моему, — буркнула Гудрун, стряхивая с себя воображаемую пылинку.
— Что ж, — сказал Йозеф, многозначительно приподняв плечо в ответ на реплику Гудрун. — Поскольку у вас нет имени, я стану звать вас Лили. — Он подождал возражений, но их не последовало, хотя губы ее шевельнулись. — Расскажите же нам, Лили, о вашей задаче.
Лили глянула на него всей синевой и зеленью глаз.
— Я пришла найти чудовище.
— А… И чудовище это — здесь, в Вене?
— Нет, — ответила Лили, — но он грядет. Смотрите. — Она раскрыла ладонь, и, к изумлению Йозефа, еще одна любопытно крапленая бабочка на миг задержалась там — черные точки на ее крыльях похожи на пустые глазницы черепа, — а затем вознеслась по спирали к потолку и заплясала в бесконечном танце у них над головами.
— Где…
— Суп застынет с минуты на минуту, — сказала Гудрун и постучала ложкой по тарелке. — Ешь. Мы за этим сюда и поднялись.
Йозеф выхватил ложку у нее из рук и вручил девушке.
— Поешьте немного, фройляйн?
Лили глянула на суп и сморщила нос в некоем подобии отвращения.
— Машинам не нужно есть.
— В Вене навалом народу, который бы с удовольствием его съел, скажу я тебе, — фыркнула Гудрун, приняв это замечание на свой счет. — Я тебе дам — нос воротить от годной еды. Ты кто такая вообще?
— Тихо, фрау Гштальтнер! — взревел Йозеф. — Ни слова больше.
— Ха, — только и сказала Гудрун, сложив руки кренделем на груди.
Йозеф вновь протянул ложку, ручкой вперед, приглашая Лили ее взять.
— Ну же, Лили, поешьте хоть чуть-чуть. — Не хотел он повторять историю, кормя ее, но, поскольку девушка продолжила смотреть встену, подумал, что ничего другого не остается. Она уже наверняка проголодалась. Йозеф помешал суп и набрал немного в ложку, старательно избегая застывшего жира. — Откройте рот, Лили. — Рот был красив, губы прекрасной формы, пухлые, многообещающие, и Йозеф почти представил, как ими утолить свой собственный голод. Сердце у него ёкнуло. Ложка резко дрогнула, жидкость вылилась из нее почти вся. — Немедленно откройте рот, Лили, — сказал он настойчивее, чем хотел. — Вам нужно есть.
Получился приказ. И быть может, так и надо было, ибо Лили тут же подчинилась. Это и встревожило, и обрадовало Йозефа. Кормя ее, он едва мог смотреть, как прижимается к ее нижней губе неглубокая ложка. Время от времени появлялся розовый кончик языка и слизывал поблескивавшие остатки супа.
Лили дважды попыталась отвернуть голову, но настырная ложка не отставала. Йозеф прекратил кормление, лишь заметив, что Лили держит суп во рту, но не глотает.
— Хорошо. — Он исподтишка провел пальцем за отсыревшим воротником. — Теперь отдохните, Лили. Позже еще поговорим.
За дверью Гудрун смерила его суровым взглядом.
— Лучше б я с ней разобралась. Начнете потакать ее глупостям, и конца им не будет.
— Бедному дитя скоро полегчает.
— Ох, горбатого могила исправит, — отозвалась Гудрун, унося поднос.
Йозеф поморщился. Неужели он ведет себя настолько очевидно? Затем ему подумалось, что при Матильде Гудрун никогда бы не посмела разговаривать с ним так неуважительно.
— Пришлите ко мне Беньямина. — Он не стал добавлять любезности, чтобы смягчить приказ до просьбы. Равновесия это все равно не восстановит. — И приготовьте что-нибудь поплотнее девушке на вечер. Холодное мясо, фрукты, сыр — чтобы она могла брать руками. — Повторять кормление он был не в силах.
— А вы еще пойдете с ней разговаривать? — От взгляда Йозефа Гудрун побагровела, но глаз не отвела. — Если да, я с вами.
— Отправьте ко мне Беньямина, — повторил он, не ответив.
Юноша был явно недалеко. Йозеф едва успел устроиться, как услышал тяжкий топот рабочих сапог по коридору, ведшему из кухни. И вот их, сапог этих, хоть свежевымытых, хоть каких, Матильда тоже не потерпела бы. Он открыл дверь прежде, чем Беньямин успел забыть постучать.
— Что-нибудь обнаружил, Беньямин? Какие-нибудь пересуды о пропавшей девушке?
Беньямин покачал головой.
— Ничего. Ну, не считая судомойки Гроссманнов. Она сбежала десять дней назад. Их кухарка сказала, что она заскучала по дому и отправилась на ферму к отцу. Но то не Лили. — Он уставился в свои ладони. — Хедда гораздо старше и страшна как смертный грех, а зад у нее, как трамвай. А больше ничего. Еще пару уличных девок нашли мертвыми в Шпиттельберге.
— Ты все равно не отступайся, — сказал Йозеф, коротко поразмыслив. — Кто-то что-то должен знать. Она же не с неба упала. По тем же причинам, что мы с тобой обсуждали, я не желаю посвящать во все это посторонних — если это не совершенно необходимо. — Он тщательно разложил на столе ручки. — А пока Лили не сказала о своей семейной истории ничего вразумительного.
— Такую девушку, как Лили, надо думать, точно пойдут искать.
— Сдается мне, она не из Вены. — Йозеф проиграл в голове ее короткий ответ. Был там след странного акцента. Не понять, какого именно. — Конечно, ее, быть может, сюда привезли, вероятно — против воли. — Он подался к Беньямину, заговорил тише: — И вот еще что, мы с тобой обсуждали…
— Я попробую, — сказал Беньямин, — но это нелегко. Я ж не могу просто взять да прийти. И черта с два туда устроишься: платят там, похоже, до того хорошо, что слуги держатся за место. Да и кроме того, я слыхал, они молодых парней не берут — из-за девчонок. — Он помялся. — Герр доктор, вам бы проще простого было вступить в клуб.
— Нет. — Йозеф сжал кулаки. — Это не обсуждается.
— Говорят, многие знатные люди Вены там состоят, герр доктор Шмидт, герр профессор Фосс…
— Нет! — Йозеф чуть не поперхнулся этим словом. Ходили слухи, какие дела творились под полированной личиной респектабельности «Телемы»[17]. Чужестранки… чужестранцы… готовые вступать в противоестественные связи. Сексуальное совокупление, превращенное в зрелище. Оргии — послабление ограничений Сатурна, как в античных храмах. Йозеф шумно сглотнул. Посещавшие такие места — либо выродки, коим явно не хватало смысла жизни, либо бедные печальные созданья, каким негде больше найти чувственного тепла; Йозефу оказаться в их числе — все равно что втирать соль в душевные раны. Он представил себе фрау Фосс — острый нос, безгубый рот, фрау доктор Шмидт с ее набожностью и бегающими глазками. Как люди станут относиться к Матильде, если он… Нет. Кроме того, ядовитое слово там, едкий кивок да подмигивание сям… даже бургомистр Люгер не был неуязвим: Вена росла быстро, но сальные сплетни разносились быстрее. Он подставится под осмеяние, под шантаж. Все, кто был ему дорог, могут стать жертвами злословия. — Нет, — повторил он. — Нет, то место — клоака разврата.
Беньямин запунцовел.
— Я только подумал разобраться про Лили…
— Это может дать им в руки оружие пострашнее, чем требуется.
— Никто не узнает.
Йозеф вперился в Беньямина.
— А как же ты узнал, что доктор и профессор — члены клуба?
— Ну, это все знают… Ой. Да. Простите. — Беньямин тихонько кашлянул. — Я туда схожу еще. Посмотрю, что можно выведать на кухне. — Он помолчал, а затем робко спросил: — Она… С Лили получше? Гудрун то говорит, что она воровка и хочет застать нас врасплох, то вдруг что Лили — совершенно сумасшедшая, плетет что-то про заводной механизм или вроде того. Это правда? Она правда сумасшедшая?
— Время покажет, — уклончиво ответил Йозеф. — Чтобы выяснить, что случилось с Лили, нужно спрашивать ее предельно осторожно. Она, вероятно, еще не вспомнила. А может, скрывает что-то. В любом случае ее нужно убедить мне доверять.
— Конечно, герр доктор. Я понимаю.
— Для этого потребуется терпение. В таких делах нельзя торопиться. — Во многих отношениях это занятие подобно соблазнению. К своему ужасу, Йозеф обнаружил, что его воображение все еще рисует ему пышные картины того, что может происходить в «Телеме», вот прямо сейчас. У извивающихся образов был рот Лили. Ее глаза. Ее шея. Эти отметины у нее на руке — как тавро на скотине, что за отвратительная мысль. Он вскочил на ноги и открыл сейф, поворотившись спиной к юноше. — Тебе потребуется больше денег, раз ты снова пойдешь прочесывать кофейни, Беньямин. И кабаки тоже, думаю.
— Как вы полагаете, она замужем?
— Кто? — Йозеф задумался над тем, как Лили сменила местоимение, обозначающее чудовище: со среднего «оно» на многозначительное «он». Доктор Бройер тщательно и профессионально осмотрел ее. Он знал то, что знал. Несомненно, во всем этом замешан какой-то грубый мужчина, однако ни кольца у нее на пальце, ни следа там, где оно могло быть, не наблюдалось. — Лили? — Он обернулся к Беньямину. — Сомневаюсь.
— Подождите меня, герр доктор. — Гудрун с трудом подымалась по лестнице вслед за ним, таща с собой корзинку с шитьем. — Я обещала, что пойду с вами, и я пойду с вами.
Йозеф выпрямился.
— Нет никакой нужды…
— Я ни словечка не вымолвлю, — сказала Гудрун, оттирая его плечом. — Ни словечка. Буду сидеть у окна со своей штопкой. Как мышка. Молча.