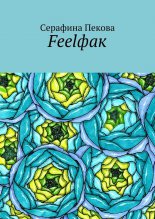Гретель и тьма Грэнвилл Элайза

— Взаимно, сударь. — Йозеф попытался вспомнить имя: эти точеные черты и чрезвычайно длинный нос должны были бы запомниться. Всплыли смутные воспоминания о какой-то светской оказии, но имя по-прежнему ускользало. Тонкие черты лица преобразила улыбка, искупив их неказистость.
— Спасибо еще раз за вашу доброту той кошмарной ночью, герр доктор. Моя жена часто ее вспоминает. — Он потупился. — И мы оба очень ценим заботу, с какой ваш паренек, Беньямин, отвез нас домой.
А, вот оно что. Йозеф кивнул. Жену этого человека, столь же пухлую, сколь он тощий, разморило от жары и избытка вина. Он дал им свою коляску. Беньямин потом вознаградил его байками о шумном настырном брюзжании, увенчавшем неспособность той толстухи справиться со ступеньками коляски. Все завершилось ссорой на тротуаре.
— Шеф-инспектор Кирхманн. Нежданное удовольствие. — Кирхманн представил своего коллегу, инспектора Брюнна, и Йозеф, склонив голову в приветствии, пригласил всех сесть, нахмурившись при виде Гудрун, собравшейся присоединиться. — Фрау Гштальтнер, кофе для гостей, будьте так любезны.
— Уже готов, — сказала Гудрун, по-королевски отбывая в кухню.
Вновь обратив все внимание к полицейским, Йозеф обнаружил, что оба таращатся на Лили, а та словно не замечает их присутствия. Он откашлялся.
— Чем могу служить?
— Фрау Гштальтнер… — Кирхманн умолк: Гудрун вернулась с подносом. Разместив его на столе, она приготовилась разлить кофе.
— Спасибо, — сказал Йозеф, приметив еще двух пегих бабочек, влетевших вслед за Гудрун. Чертовки уже повсюду. Придется опять дать указания Беньямину. — Мы сами.
— Но… — возразила Гудрун.
— На этом все, фрау Гштальтнер, спасибо.
— А она останется? — поинтересовалась Гудрун, бросив ядовитый взгляд на Лили.
— Благодарю вас, — повторил Йозеф, сопровождая ее до двери и закрывая за ней накрепко; он дождался приятного щелчка: Беньямин сменил защелку. Когда он устроился за столом, Кирхманн перехватил его взгляд и изобразил лицом сочувствие. Поскольку Йозеф отметил эту мину лишь намеком на кивок, шеф-инспектор перешел к объяснению своего присутствия.
— Мы помогаем властям округа Вельс поймать опасную преступницу…
Значит, это затея Гудрун. Йозеф стиснул зубы, но кивнул довольно спокойно, изобразив отстраненный интерес.
— Ламбахское дело, насколько я понимаю?
— Именно. Есть вероятность, что беглянка добралась до Вены…
— Дальний путь, — сказал Йозеф, — и не из легких. Насколько я помню, средняя скорость пешехода пять километров в час. Чтобы пройти почти двести пятьдесят километров, потребуется такая целеустремленность, какая вряд ли обычна для человека, считающегося спятившим. — Он привел в порядок ручки на столе, поправил стопку записей. — Интересуетесь моим мнением о состоянии ума бежавшей? — Он заметил, что шеф-инспектор выглядит все более смущенным, а коллега его трудолюбиво записывает каждое сказанное слово. Лили, сидевшая молча, вытянула руку — на нее присела одна бабочка.
— Как мило они пахнут. — Она глянула на Кирхманна. — Какая жалость, что их запах сводит всех с ума, правда?
Рот у Кирхманна открылся и закрылся.
— Э-эм. Да, конечно.
— Факт, — сказал Брюнн плоским, серым голосом. — Бабочки не пахнут.
Лили все еще смотрела на Кирхманна.
— Не бабочки. Цветы.
— Цветы, да? Ладно. — Шеф-инспектор выдавил слабую улыбку и уставил умоляющий взгляд на Йозефа. — Летающие цветы. Восхитительная мысль.
— Лепидоптера.[113] — Брюнн покачал головой и быстро что-то записал, завершив точкой столь энергичной, что наверняка проткнул несколько страниц.
— Дурак, — сказала Лили. — Dumm wie Bohnenstroh[114].
— Тупой, как бобовая… — пробормотал Брюнн, прилежно увековечивая оскорбление, и лишь погодя осознал, что оно адресовано ему, после чего решительно вымарал эти слова.
— Еще кофе, господа? — Йозеф, поставив кофейник, жестом пригласил Кирхманна продолжать. — Вы всерьез полагаете, что несчастная женщина добралась до Вены? И пришли узнать, не была ли она прежде моей пациенткой?
— Фрау Гштальтнер обратила наше внимание на необычный способ, каким… — Кирхманн умолк и коротко метнул взгляд на Лили, — каким некая юная особа попала к вам в дом. Насколько я понимаю, в доме произошел некоторый тревожный… случай. Фрау Гштальтнер убеждена, что они — один и тот же человек. — Он виновато откашлялся. — Фрау Гштальтнер очень настаивала.
— Один и тот же человек? — Йозеф глянул на него высокомерно. — Кто? Ничего не понимаю.
— Буйная сбежавшая из Ламбаха и эта юная особа, герр доктор, — сказал Брюнн с легким раздражением. Йозеф посмотрел на него изумленно.
— Это вряд ли возможно. Что ж, если вы более ничего не желаете обсудить… — Он поднялся со своего места и сделал несколько шагов к двери. Шеф-инспектор перехватил его. Взяв Йозефа за руку, он отвел его к окну.
— Простите нас, герр доктор, но фрау Гштальтнер говорила, что девушку нашли возле Башни дураков в очень тяжелом состоянии. Избитую. Раздетую. — Он понизил голос: — Есть подозрение в половом насилии. Фрау даже сказала, что девушка, возможно, работала проституткой.
— Этого следует ожидать, — вставил Брюнн, — от преступника женского пола.
Йозеф стряхнул руку Кирхманна.
— Позвольте, я буду прям, — сказал он тихо. — Фрау Гштальтнер достигла непростого времени. Женщины, посвятившие всю свою жизнь служению, входят в возраст, когда их молодость и красота, какие бы ни были, их оставляют. Рассматривать такую жизнь в ретроспективе — жизнь без возлюбленного, без мужа, без детей, даже без собственного очага — довольно горестно.
— Верно, — согласился Кирхманн. — Такая жизнь дает безопасность, как я понимаю, но видится полной упущенных возможностей. Да, как уж тут без сожалений.
— И поэтому, — продолжил Йозеф, — когда происходит встреча с такой чистой юной женщиной в полном расцвете красоты молодости…
Все взоры, как по команде, обратились к Лили; та сидела молча, опустив глаза. Солнце играло у нее в волосах, превращая их в золото. Бабочка все еще мягко трепетала крыльями у нее на руке. Ее дружок порхал неподалеку.
— Точно, — сказал Кирхманн, вздохнув. — Да. Тут не избежать зависти. — Подумав еще мгновение, он умудренно кивнул. — Отлично понимаю. У моей жены незамужняя тетя, в точности этих лет, так она взялась писать анонимные письма высокопоставленным мужчинам. Некоторые — крайне ядовитые… — он откашлялся и засуетился, — сплошь заявления о вымышленных внебрачных детях, с подробностями, столь потрясающе странными… эм-м… были отправлены бургомистру Люгеру. Ужасно неловко все это. — Он глянул на Йозефа. — Мы ее поместили в Бельвю. Семья решила, что это в ее же интересах.
— Прекрасный выбор, — сказал Йозеф. — Это чрезвычайно полезный санаторий для людей с нервными расстройствами, а Крёцлинген не так далеко от Вены. Я хорошо знаю герра Бинсвангера, директора. Как и его отец, Роберт[115] уделяет пристальное внимание занятиям для развития интеллекта пациентов — образовательной деятельности, прогулкам, рукоделию и садоводству.
Лицо у Кирхманна уверенности не выражало.
— Не сомневаюсь. Нам было важно убрать старую су… женщину туда, откуда она больше не сможет вредить.
— Именно так, — мягко отозвался Йозеф. Повисла столь долгая тишина, что он почувствовал необходимость ее заполнить. — Я часто размышляю о том, что женщинам в этом смысле не повезло: они умирают дважды. Первый раз — когда их покидает обаяние юности и их перестают желать, а затем — когда наступает подлинная смерть. Между ними — особое время: для некоторых, кому больше повезло, оно наполнено семейным теплом, но зачастую, попросту из-за личных странностей, когда этого тепла нет, такие женщины остаются одни… вот. — Никто не отозвался. Йозефа вдруг осенило, что наступившее одиночество может и не означать для женщины несчастья, а, напротив, стать временем великого освобождения — если такой дар ей по силам принять. Он подумал, каково это — когда тебя судят по физическим проявлениям, желают лишь из-за внешности, а затем, по прошествии времени, — уже нет. Подумал об одиночестве Берты. Подергал себя за бороду.
— Три раза. — Голосок был такой тихий и возник из такой пропасти молчания, что Йозефу потребовался миг, чтобы понять: это заговорила Лили.
— Что-что, дорогая моя?
Она вскинула взгляд.
— Есть еще одна смерть — как матери, когда умирает ребенок.
— Если, — утешительно поправил ее Йозеф. — Так бывает не всегда.
— Если, — отозвалась эхом Лили, — и когда. — Она легко сдула с руки бабочку, и та упорхнула.
— Очень точно, — сказал Кирхманн и энергично закивал. — Истинная правда.
— Вообразите, каково женщинам с большими семьями, — прошептала Лили. — Смерть за смертью, смерть за смертью. — Она поникла головой. — Нет конца умиранию. Вот почему столько цветов.
— Хорошо, Лили, — поспешно проговорил Йозеф. Он глянул на остальных. — Господа, как видите, разговор о смерти растревожил мою пациентку. Если мы все обсудили, я бы просил нас извинить.
— Минуточку, — сказал Брюнн. — Откуда вы сами? — спросил он у Лили. — Где вы живете?
Лили наморщила лоб.
— Я в Германии.
Брюнн нахмурился.
— Здесь Вена.
— Вена — в Германии, — сказала Лили, не глядя на него.
— Нет-нет, дорогая моя, — вмешался Кирхманн ласково. — Она в Австрии.
— Но Австрия — в Германии, значит, и Вена тоже.
Брюнн хмыкнул и исподтишка помахал ладонью у себя перед носом. Она приметила этот жест, и губы у нее задрожали.
— Может, мы еще где-то.
— Пожалуйста, задавайте остальные вопросы мне, — сурово сказал Йозеф.
— Разумеется. — Кирхманн одарил Брюнна каменным взглядом.
— Надеюсь, я могу рассчитывать на конфиденциальность, господа, — пробормотал Йозеф. — Семья Лили желала бы, чтобы ее лечение оставалось в тайне.
— О, — отозвался Кирхманн, иронично улыбнувшись, — так это секрет. Как и в случае с юной Паппенхайм. — Йозеф упер в него взгляд, и Кирхманн добавил: — Я слежу за такими вещами, герр доктор. Меня всегда увлекали неразберихи ума. В особенности связанные с преступными делами. Большего сказать не могу.
Восемь
Солнце греет мне спину, а я все натыкаюсь на тень Грет. Она говорит, что вечером будет гроза: все алые бедренцы и синие верески распахнулись посмотреть на здоровенную черную тучу, крадущуюся из-за горизонта. Хочу остановиться и потыкать палкой в муравьев, копошащихся между трещинами в тропинке, но Грет обвязала меня бечевкой вокруг пояса, прицепила ее к своему фартуку, и мне приходится бежать за ней и не отставать. Из-за жары она злая и вредная. От ее шлепка, отвешенного мне сегодня утром за то, что я удрала, по-прежнему жжет ногу.
Мы добираемся до сушильных веревок, и она меня отвязывает и выдает мне Stoffpuppe[116].
— Стой здесь. Куклу не роняй. Двинешься хоть на дюйм — опять окажешься в погребе, девушка, — слышь меня?
— Смотри. — Мне на руку присела божья коровка. Она разводит и складывает крылышки, а я пытаюсь считать точки.
— Marienkfer[117], — говорит Грет и хмурится. — Не обижай ее, иначе быть беде. Скажи стишок и тихонько подуй, чтобы улетела.
— Какой стишок?
— Ты прекрасно знаешь какой, Dummkopf[118]. — Грет пыхтит и отдувается, пытаясь опустить подпорку для веревок пониже. — Marienkferchen, fliege weg![119] Этот. Вспомнила?
— Нет. И вообще, я не хочу, чтобы она улетала.
— А если не улетит, наш дом сгорит, — вон какая гроза идет. Давай стишок. Быстро.
- Marienkferchen, Marienkferchen, fliege weg!
- Dein Huschen brennt,
- Derin Miitterchen flennt,
- Dein Vater sitzt aufder Schwelle:
- Flieg in Himmel aus der Hlle.
— Теперь гляди, куда она полетит, потому что оттуда придет твой будущий муж.
— Не хочу я никакого дурацкого мужа.
— Все равно какой-нибудь будет, хочешь не хочешь, Криста. Некоторым достается… — Грет вздыхает и берется за папины сорочки. — …а некоторым нет. — Смотрит на меня. — Читай стишок.
- Божья коровка, улети на небо,
- Домик полыхает,
- Мамочка рыдает,
- Папеньке с крыльца не уйти,
- Ты из ада в небо лети.
Я дую, но божья коровка не летит.
— Ну все, — говорит Грет, складывая наволочки. — Пиши пропало. Может, зажаримся в собственных постелях, как молочные поросята в духовке. До хрустящей корочки. И подадут нас с подливкой. Вот так конец. — Я дую сильнее. Жучок на полпути к земле открывает крылышки и взлетает прямо вверх. Грет качает головой. — Ох ты. Похоже, твоя зазноба умрет еще до свадьбы.
— Ну и пусть. — Я тут приметила кое-что получше всяких мужей: земля между овощами недавно вскопана, жирная, темно-коричневая, как шоколад. Грет уверяет, что она по вкусу мерзкая, совсем не конфеты, но мне сомнительно. За ее спиной я беру полную горсть и сую в рот.
— Дурацкий ребенок! — орет Грет, перекрывая мои вопли. — Das war dumm[120]. Только черви жрут грязь. Она на вкус, как могила. Ты когда уже научишься делать, как велят?
Я скребу язык, плююсь, вою и топаю. У меня весь рот изнутри — в толстой, холодной, хрустящей дряни. Она у меня между зубами и съезжает внутрь, в горло. Грет придерживает мне волосы, а я наклоняюсь, меня тошнит. Даже тошнотина вкуснее грязи.
— Может, хоть так научишься уму-разуму, Криста. — Грет утирает мне лицо краем фартука. — Куколке твоей конец — она вся в твоей блевотине, — а может, и всем нам: видишь, чертова божья коровка вернулась и села к тебе на плечо. Это посланье от Пречистой Девы: ничегошеньки от дома к утру не останется, одна кучка углей. Да не рыдай ты так. Попробую ее отстирать. — Она подбирает мою куклу за ногу и толкает меня по садовой дорожке. — А коровка-то все никак не улетит. Пошевели плечами. Может, сбросишь. Нет. Что ж, никуда нам не деться, раз так. И ты глянь, как муравьи-то носятся. И эти, летучие. Они кусаются. Принесу кастрюлю кипятка сейчас. Избавимся от них. Я тебе рассказывала сказку про бедного мальчика в могиле? Очень грустная. Про злого мерзкого дядьку и как его дом сгорел дотла.
Она все говорит и говорит, но я не слышу сказку про бедного мальчика, потому что сама рыдаю. Не уходит вкус грязи и разочарования. Губы у меня сухие и потрескались. Время от времени на язык попадает камешек, но у меня кончились слюни.
Я не помню, как упала, но вот лежу лицом в глину у дороги. Дождь. У меня во рту грязь. Все болит. Особенно пальцы, но я лежу на них и не вижу, что с ними не так. Ночь, но вокруг все залито светом. Два ярких огня вдалеке, они все время движутся, назад-вперед, как глаза у громадной совы, что высматривает крыс, которые носятся в западне. Передо мной здоровенный птичник с пустыми насестами. Наверное, я внутри зоопарка, потому что вон столовая и лазарет. Я хочу побежать и найти папу, но его тут нет. Пытаюсь вспомнить, куда он делся…
А потом я вижу Лотти, она лежит в луже, и я ползу к ней. Она теперь уродливая. Кожа у нее в пузырях и растрескалась, вместо носа — дыра. Красивые светлые волосы теперь черные, обугленные. Ноги еле держатся. Прижимаю ее к себе покрепче и говорю ей, что это не важно, хотя мы обе все еще плачем.
Пальцы у меня болят вот почему: они все в волдырях — как тогда у Грет, когда та уронила сковородку с рыбой себе на ногу, — но масло втереть в них некому. Лотти спрашивает, почему на мне эта мерзкая грязная одежда и где мои туфли. Я не знаю. Не могу вспомнить. Грет будет вопить, папа — кричать, а потом я вспоминаю, что Грет нету, а папа — папа…
На мои крики из сарая выползают зверолюди. Они зовут меня и шумят. Пытаются говорить.
— Chod tu. Пойдем. Пойдем с нами.
Кто-то гладит меня по голове, берет меня за руку, но я их отпихиваю.
— Уйдите, мерзкие зверолюди. Не дам я себя съесть.
— Chod z name, dzieci. Пойдем с нами, детка.
Дождь принимается лить вовсю, двое берут меня на руки и несут к себе в сарай, хотя кричу я теперь гораздо громче, дерусь и брыкаюсь. У них внутри всего две свечки, но я вижу ряды кроватей, на них — еще зверолюди, сидят и пялятся. Сую палец в рот и глазею в ответ, пока одно животное, которое научилось говорить по-человечески, не подходит поближе и не садится рядом на корточки, обнимает меня.
— Не бойся, детка. Тут друзья.
Я толкаю ее локтем.
— Уйди, глупый зверь.
Она не обращает внимания.
— Я Эрика. А тебя как зовут? Не скажешь? Ну ладно, может, потом. Сейчас тебя надо куда-нибудь уложить. — Она показывает мне кровать, на которой уже крепко спит другой зверолюдь, тощий. — Поспи с Леной. Тут вам на двоих места хватит, если валетом.
— Не буду.
Эрика смотрит на меня.
Но другого места нет.
— Я не буду тут спать. — Матрас какой-то щуплый и в буграх. У Лены одно одеяло, намотанное на нее, но мне видно, что на ней нет ночнушки. — Хочу Federbett[121] и мою ночнушку с розовыми цветочками.
Кто-то смеется. Эрика делает им «цыц». Качает головой.
— Мы теперь все бедные, — говорит Лотти. — Папы нет. Никого нет. Все забрали. Никто о нас не позаботится.
* * *
— Есть предел человеческому терпению, — говорит Грет, собирая мою разбросанную одежду. — Еще раз услышу «не буду то» или «не буду сё» — соберу мешки и уйду. Посмотрим, как ты тогда запоешь. Теперь мама твоя умерла — упокой Господь ее заблудшую душу, — а мужчины, они какие есть уж, и заведется у тебя злая мачеха, еще и год не кончится. Ты ей будешь без надобности.
— Мой папа…
— Ой, найдет она способ настроить отца против тебя. Или просто его отравит. И тогда что? Ты знаешь, что тогда. В дремучий лес на пустой желудок, и голову там преклонить негде, а только на постельке из листьев да с камнем под голову…
— Не все так плохо, — говорит Эрика и гладит меня по голове. — На сегодня сойдет. А завтра посмотрим.
— Нет, — говорю я с пальцем во рту. — Хочу домой. Хочу к папе.
— Папа умер, — шепчет Лотти. — Мертвее мертвого.
— Нет, — воплю я, хоть и знаю, что она права. — Отведи меня к папе. Хочу к папе.
Темно и в доме тихо, но вот проезжает машина и визжит на скорости, поворачивая за угол. Фары на миг освещают комнату, и я вижу тени троллей, они крадутся вдоль плинтусов.
— Мама! Мама! — Никто не приходит. Я все кричу и кричу, зову ее и вся сжимаюсь в комочек, а тени щупают мою кровать. Наконец Грет распахивает дверь, берет меня на руки и обнимает так, что из меня весь дух вон.
— Тш-ш, Криста. Хватит уже.
— Уходи, — говорю я. — Хочу к маме.
— Мама отправилась в лучшие края. Только я у тебя есть, не обессудь.
— Не хочу тебя. Отнеси меня к маме.
Грет укладывает меня в постель, садится рядом.
— Твоя мама умерла, Криста, умерла, ее похоронили. Она решила уйти, и никто ее обратно привести не может.
— Ложись, — говорит Эрика. — Постарайся отдохнуть. День тут начинается рано.
— Мама! Папа! — скулю я, а потом, подумав: — Грет! Хочу Грет!
— Заткните ее, — бормочет резкий голос. — Поспать надо.
— Хочу Грет! — визжу я. — Отведи меня к Грет.
Эрика качает головой. Ничего не говорит, но лицо у нее грустное, и я вдруг понимаю, что плачу, никак не стараясь, это такой новый плач, я не могу его перестать. Будто все тело у меня плачет, глубоко изнутри и до самых кончиков пальцев на руках и на ногах. Я бросаюсь на пол и ползу под кроватями, пока не утыкаюсь в угол. Мы с Лотти сворачиваемся в комок. Плачем, пока не засыпаем.
Меня будит шум, похожий на долгий крик. Еще темно, а все зверолюди уже на ногах и суетятся. Когда шум повторяется, они все выходят из сарая. Лотти говорит, что нам надо идти искать Грет. Ни она, ни я не знаем, куда она делась, когда папа ее услал прочь, но, должно быть, она где-то на другом краю леса, у озера.
— Как тебе известно, — говорит Грет, наполняя банки крупной черемухой, — Ханселя и Гретель бросили в темном лесу. А знаешь почему? Я тебе скажу: так решили их родители — и не оттого, что у них не было еды, а оттого, что дети не слушались и вели себя плохо, не так, как им говорили. А еще они бросали вещи на пол и дерзили. В самый-пресамый дремучий лес отвели их родители.
И выдали им по черствой корке хлеба. Без масла. Без меда. А потом родители ушли — сначала мать, потом отец. Через минуту их уже и след простыл, а дикие звери тут как тут, собрались вокруг. Они всегда голодные, эти дикие звери. — Она ставит банки в таз и подбавляет жару. — И что, как ты думаешь, было дальше?
Я не отвечаю. Весной Грет посадила Петера в сумку и выпустила его в кусты в парке. Сказала, что он хочет уйти, а ей все равно некогда чистить вонючую кроличью клетку. Когда мы в следующий раз пошли там гулять, по всей траве был раскидан белый мех. Грет нашла кроличий хвостик и принесла его домой — на удачу.
Мы с Лотти весь день сидим в сарае. Когда начинает темнеть, зверолюди возвращаются, волоча ноги и не произнося почти ни звука. Зажигают свечи, и та, которая умеет говорить, приходит меня вытащить.
— Это я, Эрика. Вылезай. Пора тебя помыть и причесать.
— Не хочу. Уходи. — Я забиваюсь в угол, держа перед собой Лотти, делаюсь маленькая. Я плюю в Эрику, слюней совсем чуть-чуть, гораздо меньше обычного, но все равно попадаю ей на юбку. Эрика смотрит на плевок. Ее рука тянется ко мне. — Меня нельзя бить, — кричу я. — Ты просто зверолюдь. Если ты меня стукнешь, мой папа… — Тут я умолкаю. Лотти мне напоминает, что папы нет, обидеть меня может любой.
— Никто из нас не станет тебя бить, — тихо говорит Эрика и поднимает меня за ноги. — Но кое-что о здешней жизни тебе нужно понять как можно скорее, иначе тебя другие накажут. Будь взрослой смелой девочкой. Никаких больше слез. Умойся и… — она роется в кармане, достает сломанную расческу, — приведи волосы в порядок. — Она обнимает меня за плечи. — Ты готова назвать свое имя? — Я трясу головой и строю мерзкие рожи другим зверолюдям, которые смотрят и слушают.
— Криста, — говорит один из них. — По крайней мере, так она сказала Даниилу.
Даниил — настоящий мальчик, хоть и ест червей. Эрика немножко похожа на Грет, но гораздо худее и тише.
— Ты зверолюдь, Эрика?
— А ты? — Она едва улыбается, как будто ей больно, затем подталкивает меня. — Давай поживее, Криста. Почти время занятий.
— Не пойду в школу.
— Тут все ходят в школу[122].
— Папа говорит, что я могу не ходить в школу, пока не…
— Ты будешь ходить на занятия, — люто говорит Эрика. — Будешь учиться. Жизнь здесь трудная, но, узнавая о других людях, других цивилизациях, других способах жить, других местах, ты можешь сбежать, это твое волшебное странствие. Вот узнаешь обо всем этом — и дальше, что бы ни происходило, твоя голова сможет сочинять истории и отправлять тебя куда хочешь.
Я утираю нос рукавом.
— Куда хочу?
— Куда и когда хочешь.
Даниил таращится на мою ужасную одежду.
— Ты что здесь делаешь? — Ответа не ждет. — У тебя есть хлеб или яйца?
Качаю головой.
— Ты не вернулся.
— Иногда люди не возвращаются. — Он смотрит в сторону. — Тут так бывает.
Я не сказала «пожалуйста» или «спасибо», и папа убрал конфеты в стеклянную вазу на сервант и сказал, что конфеты будут там, пока я не усвою манеры. Когда он отвернулся, я показала ему язык. Пока Грет собирает постиранное белье, я забираюсь на стул и тащу вазу на себя. Это очень красивая ваза, у нее вместо ножки рыба, а по верху — стрекозы и цветы. Конфеты — на самом дне, рядом с глазами рыбы, и мне, чтобы залезть внутрь, нужно уравновесить кожаный пуфик на стуле. Грет открывает дверь, а я как раз кладу фантики обратно в вазу.
— Ах ты маленькая чертовка! — Она хлещет мне по ногам мокрой посудной тряпкой. — Отец тебе устроит, когда вернется. Спускайся сию же минуту. — Но я ошалеваю от холодной тряпки, поскальзываюсь и падаю, прихватив с собой вазу. Она разбивается на тысячу частей, стекло повсюду. Грет белеет лицом. — Это твоей мамы! — орет она. — Твой папа так ею дорожил. Du schlimmes Mdchen! Гадкая, гадкая девочка. Как я ему про это скажу?
— Я нечаянно. — У меня на кончиках пальцев набухают багряные бусинки. На ноге ссадина. Я принимаюсь рыдать.
— Стой, не двигайся вообще. Ни единой мышцей. — Грет приносит кастрюлю и выбирает стекло у меня из волос и с одежды. — И не жди от меня жалости, — говорит она. — Ты сама это себе устроила. Одним небесам известно, что вырастет из такого гадкого, непослушного созданя.
Я, несчастная и сопливая, таращусь в пол, считая осколки, рассыпанные по ковру: eins, zwei, drei, vier, fnf…
Каждое утро, даже в дождь, нам полагается выстраиваться в линию на улице перед сараем и ждать, как в школе. Эрика мне мама — пока, — и до начала переклички я держу ее за руку. А потом я вытягиваюсь по струнке и считаю кусочки щебня вокруг своих ног: eins, zwei, drei, vier, fnf….
Однажды приходит Йоханна. Перекличка длится дольше обычного, а когда что-то идет не так, она страшно сердится, идет между рядов и бьет всех по голове. Я пытаюсь считать удары: achtzhen, neunzehn, zwanzig[123]… Потом двадцать один, и вот Йоханна прямо передо мной, так близко, что я чувствую, как от нее пахнет фиалками. Я помню красивый красный мячик и заколки, которые она мне подарила, а еще книжку, которую мы иногда смотрели вместе, — с картинками, где были мерзкие крысы, которые воровали еду и кусали младенцев в колыбельках. Она играла со мной. И причесывала меня. При папе Йоханна хотела быть мне новой мамой. Забыв про все предостережения Эрики, я делаю шаг из ряда.
— Привет, Йоханна.
— Нет, — шепчет Эрика и цепляется за мою одежду, отчаянно пытаясь втянуть меня обратно. И Анналис тоже, она стоит с другой стороны от меня. Йоханна оборачивается и смотрит, но я вижу по ее лицу, что она больше не хочет быть мне мамой. Я убираюсь на свое место и считаю удары дальше: sechzig, einundsechzig[124]…
И вот Йоханна уже за спиной у Анналис — шлеп, а теперь я…
Дядя Храбен — он не как Йоханна. Он, похоже, очень рад, что нашел меня, и мы идем с ним смотреть кроликов. Я ему рассказываю про Петера, а про то, как мы его выпустили в парке, — нет.
— Тут большие кролики, Криста, гораздо крупнее обычных. Громадные. И очень красивые. Ты таких никогда не видела.
У кроликов свой сарай, чистые клетки и много-много свежей соломы. На одном конце сарая есть комната, где дамы прилежно расчесывают им шубки, а вычесанную шерсть складывают в лотки. В основном кролики белые, как в «Алисе в Стране чудес», но у одного черное пятно на носу, а другой весь светло-оранжевый.
— Их мехом отделывают шляпы и куртки, — говорит дядя Храбен. — Чудесная вещь — кроличий мех. Не пропускает холод лучше, чем много что.
Помню, папа рассказывал про то, что делают с кроликами, но эти, скорее всего, какие-то другие, у них слишком маленькие ноги.
— А где большие-пребольшие кролики, дядя Храбен?
— Хочешь еще больше? — Смеется. — Будут, всему свое время. Такое планировать надо, милая Криста. К примеру, если хочешь только златовласых деток кроликов, нужно внимательно подбирать родителей. Нет смысла ждать красивых потомков, если мать или отец смуглые или с большим носом, или же крупных и здоровых, если кто-то из родителей низкорослый.
Рядом с комнатой для причесывания — кухня, здесь отмеряют еду. Какая-то женщина, похожая на ведьму Швиттер, только не такая старая, чистит морковку, ее тут — огромные кучи. На полу корзины с помидорами, сельдереем, зеленью: брокколи, латуком, капустой, шпинатом и цикорием, а еще с пучками укропа, базилика, мяты и эстрагона. Ведьма режет морковку на мелкие кусочки, затем берется за тазы с яблоками и сливами. Я ворую сливу. Дядя Храбен опять смеется, когда замечает, что у меня щека оттопырена.
— Ты голодная, Криста? Пойдем тогда со мной. — Мы поднимаемся на три пролета лестницы и оказываемся в комнате, которая почти вся из окон. — Это моя башня. Нравится? Ну-ка, поглядим. — Он выдает мне пирожное и апельсин. Я вспоминаю, как Даниил запихивал еду в рот, и апельсин чищу очень старательно. — Лучше? — спрашивает он. — Что у нас тут еще? — Открывает маленький ящик и достает «Pfennig Riesen»[125], но держит его так, что мне не достать. — Может, поцелуешь вместо спасибо? — Щека у него колючая. — Бедная маленькая Криста, без папы. — Он тянет меня к себе: — Садись ко мне на коленочки. Поближе… прижмись, вот так. А если б я был твой папа? — Он гладит меня по ноге. — Тебе бы понравилось? — Ириска липнет мне к зубам, и я не могу сказать «нет». Скоро дядя Храбен ставит меня на пол: — Мне пора работать. Приходи завтра опять. Твой новый папа принесет вкусного. Что тебе нравится?
— Вишня.
— Поздно уже для вишни.
— Мороженое.
— Может быть.
Мы уже почти в дверях, но дядя Храбен возвращается и встает перед комодом.
— Ты, наверное, скучаешь по своим красивым вещам, Криста. Не волнуйся, они все здесь. — Он открывает дверцу, а там — мои платья, юбки и кофты, носки, трусы и туфли, всё внутри, даже мои носовые платки, сложены аккуратными стопками.
— Отдайте.
Он качает головой.
— Там ты не можешь носить красивое, малышка. Вещи либо испортятся, либо их украдут. Тебе же этого не хочется, верно? Потом все получишь обратно. А пока носи их тут, когда будешь приходить в гости к своему новому папе.
* * *
Грет говорит, что папа сказал ей, чтоб я ела побольше овощей, особенно зеленых, но я ей не верю. Он сам их никогда не ест. Они похожи на тошнотину.
— Не буду. — Я возюкаю морковкой и капустой по тарелке, давлю их на мелкие кусочки и спихиваю на стол. Когда Грет встает, чтобы поставить чайник, я роняю немного этой дряни на пол.
— Прекрати, — говорит Грет, не оборачиваясь. — Я знаю, что ты замышляешь. Доедай, пока горячее. Остынет — будет гораздо хуже.
— Не нравится. Не буду.
— Бросай это свое «не хочу» и «не буду». — Грет делает злое лицо, ставит между нами чайник. — Будешь тут сидеть, пока не доешь все до крошки.
— Оно мерзкое. Дай пирога.
— Дай пирога, пожалуйста.
— Пожалуйста, — бурчу я, выдавливая слово между зубов.
— Нет, — говорит Грет с хитрой улыбкой. — Пока все не съешь. Тогда получишь маленький кусочек. Знаешь, что бывает с девочками, которые едят только печенье, конфеты и пироги? Они, во-первых, никогда не вырастают в юных дам. Во-вторых, у них кожа делается на вид как сырое мясо. Потом у них выпадают волосы, а затем и зубы. Чуть погодя они становятся такими слабыми, что едва могут ходить. Кости у них становятся резиновые. И вот уж они ползают на четвереньках. И… — тут она склоняется над столом и смотрит на меня в упор, — …оглянуться не успеешь, а они уж клянчат у прохожих на улице настоящей пищи — мяса, сыра, хлеба, картошки и зелени.
Здесь все и всегда голодные. Они все время говорят о еде. Кто-нибудь рассказывает историю — даже нормальную сказку про принцесс или волков, а не про то, как все раньше было, — а никому не важно про красивые платья или украшения или большой ли был дворец: всем интересно, что там ели. Шофика и ее друзья играют в одну и ту же игру. «Что ты сегодня готовишь?» — спрашивает кто-нибудь. Ответ всегда одинаковый: «Погоди минутку. Вытащу жаркое из духовки, не то пригорит». Я достаю Лотти из потайного места, и она соглашается со мной: ужасно дурацкая игра.
Иногда по вечерам они не рассказывают истории и не поют, а делают вид, что у них пир в потемках. Каждый должен принести особое блюдо, которое они когда-то готовили дома. Вероника приносит зеленый борщ.
— Здесь, где всегда зима, он по вкусу как весна. Сегодня будем есть его с черным хлебом и со сливочным маслом, его много-много.
Лотти воротила бы нос, если б он у нее был, потому что суп сделан из щавеля и картошки и есть его надо холодным. Все умолкают на миг, хотя кое-кто вздыхает, и я чувствую, как Лена поджимает пальцы на ногах у меня за головой. Кто-то говорит:
— Вкуснотища, Вероника. Пожалуйста, дай рецепт.
Мирела тоже с супом. Она говорит, что он называется «Legnyfog Kposztaleves», все смеются. Лена говорит, это потому, что название означает «ловец мужчины», но не объясняет, почему это смешно. Вс опять смеются, когда Мирела рассказывает, что его подают с мягким хлебом и поцелуями. А еще она принесла «rgeprklt» — «беличье жаркое». Лотти говорит, что ее тошнит. Меня тоже — когда Рийка принимается рассказывать о жареном олене в рябиновом повидле. Все знают, что рябину едят только ведьмы. Мы ждем, когда подадут пудинг, и я шепчу Лотти еще немного из «Ханселя и Гретель». Она не знала, что у пряничного домика есть тайный садик, а там полно крапивы, и рапунцелей, и рябин; а еще она не знала про черную мандрагору, которая вопит, когда ведьма тащит ее из земли себе на ужин. Там, где настоящие люди растят капусту, у нее ряды багровых поганок вперемешку с мухоморами, которые красные в белую точечку. А еще ведьма держит в маленьких клетках слизней и ест их яйца вместо тапиоки. Вместо кур она держит ворон, и те каждое утро летают и ищут поля сражений, чтобы собрать там глаза. По всему саду — горбатые ивы, они хватают маленьких птичек на лету своими шишковатыми лапами и запихивают себе в дупла.
Лотти так боится, что мы чуть не пропускаем первый пудинг — makowiec, с маком. Берем себе большой-пребольшой кусок. А мороженого никто не принес.
Здесь много других детей кроме Даниила, но он — мой лучший друг. Осень превращается в зиму, и мы играем, чтобы согреться: в догонялки, в салки и в «Который час, господин Волк?». Прятки — наша любимая, хотя мы часто находим всякое, чего не искали. Считаем теперь дольше, каждый по-своему.
- Jeden, dwa, trzy, czetry, pi, siedem, osiem, dziewi,
- n, to, tre, fire, fern, seks, sju, ate, ni, ti…
- Un, deux, trois, quatre, cing, six, sept, huit, neuf, dix…
- Yek, duy, trin, shtar, panj, shov, efta, oxto, en’a, desk[126]…
Иду искать!
Иногда, как бы ни старались и как бы долго ни искали, некоторые наши друзья прячутся так хорошо, что мы их совсем не находим и никогда больше их не видим. Они исчезают, один за другим. Как игра в «десять зеленых бутылок».
- Zehn grne Flaschen, die an die Wand anklammern,
- Десять зеленых бутылок со стены свисало,
- Одна из тех бутылок нечаянно упала…
Я замолкаю, потому что Даниил строит рожи и не поет со мной вместе.