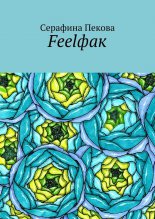Гретель и тьма Грэнвилл Элайза

Лена жмет плечами.
— Всего на полгода. А потом меня отпустят домой.
— С каких это пор их обещания хоть чего-то стоят?
— Я по крайней мере почувствую себя женщиной, а не скотиной.
Я сижу на краю кровати и делаю вид, что опять починяю Лотти руки и ноги, а сама слушаю изо всех сил. Может, я стала скотиной, а сама не заметила, потому что ногти мне теперь приходится обкусывать, чтобы не превратились в когти. Когда Эрика с Леной принимаются кричать друг другу скверные слова, я выбираюсь наружу и бегу к пустому птичнику, а бобы — при мне. У каждого и впрямь есть черный шов на брюшке, и та история была взаправду, может, и остальные тоже? Выбрав место рядом с металлическим столбом — чтобы волшебным бобам было по чему карабкаться, — принимаюсь рыть. Земля вся промерзла. Ямки у меня получаются не такие глубокие, как у Грет, но поверх потревоженной почвы я накидываю снег.
— Один сгниет, один схороним, один голубке, один вороне, — проговариваю я ее посадочное заклинание — трижды, чтобы уж наверняка.
А потом думаю, не сходить ли мне в башню к дяде Храбену. Там пирог, ириски, и я схитрю и стащу у него свои жакеты и красные варежки с вышитыми белыми снежинками — их мне Грет связала. Но поздно: Эрика уже идет за мной, согнувшись под ветром, а глаза у нее красные от слез. Я молча иду с ней в наш сарай. Когда сплю, я вижу во сне, как влезаю по бобовому ростку, выше и выше, рассвет за закатом, зима за зимой. И наконец добираюсь до верха и попадаю в волшебную страну великанов, арфы там играют колыбельные, гусыни откладывают столько золотых яиц, что хватит на шесть завтраков, но тут обнаруживаю, что кого-то забыла внизу. Однако бобовый росток увял и умер. Я не могу вернуться.
Просыпаюсь грустная, а когда бреду мимо птичника, никаких ростков не видать, а в сказке про Джека он вырос за ночь. Может, он не растет, потому что я забыла сказать за бобы спасибо. А теперь всё. На Рождество Эрика дарит мне кроватку, сплетенную из соломы, — для Лотти.
Всякий раз, когда папа возвращается с охоты, Грет делается гадкая. Лицо у нее краснеет. Завтрак пригорает, и она швыряет тарелки в мойку.
Под дверь из наружной комнатки, где хранится добыча, подтекает кровь. Дверь на замке, как у Синей Бороды; я заглядываю в замочную скважину и вижу оленя с грустными глазами, фазанов и зайца, они висят на громадных крюках под потолком. По ночам коты слизывают кровь, а она с каждым днем все темнее. В следующее воскресенье папины друзья-охотники приедут на ужин и будет жареная оленина и Hasenpfeffer[145] с картофельными тефтелями и Blaukrauf[146].
— У меня только одна пара рук, — говорит Грет в потолок, точа здоровенный тесак и раскладывая ножи. — Господи, в этом доме навалом дел и без игры в мясника. — Она делает мне злые глаза. — Не путайтесь под ногами, девушка, будьте любезны.
Я выбегаю наружу и возвращаюсь, только когда старик с мальчиком зашли за головами и лапами, которые Грет не нужны. На кухне пахнет ржавым железом. Над здоровенными сковородами с мясом мельтешат несколько мух.
— Все в дом, все в дом. — Грет поспешно прячет деньги в карман. — В наше время много кому приходится довольствоваться блокадной бараниной.
— Баранина — это из овцы.
— Собачатину я имею в виду. Вот что такое блокадная баранина: собачатина. — По ее голосу непонятно, она сердится все еще или нет. Грет иногда кладет Pfeffernsse в Hasenpfeffer, и хотя само заячье рагу я есть не буду, имбирного печенья, которое идет, чтоб соус был гуще, я себе хочу немножко.
— Хочешь, я тебе зелень соберу, Грет?
Она смаргивает.
— Так-то лучше, скажу я. Да, тимьяну бы, Криста, и несколько веточек розмарина. А, и два лавровых листочка — с того дерева, которое в глубине сада.
В награду я получаю горсть печенья. Прошу рассказать сказку, и в ней все грохочет и лязгает.
— Жила-была красивая молодая дева, обещанная мерзкому жениху. Однажды пошла она его проведать — по пепельной тропке, просыпанной к его одинокому черному дому в чаще темного-претемного леса. Дома никого не было кроме старухи, которая сказала деве, что жених ее — разбойник, и велела ей бежать домой со всех ног. Но та глупая девка… — Тесак падает на кость, и осколки разлетаются в разные стороны. Грет утирает пот со лба краем фартука, заляпанным красным. Она могуче шмыгает носом… — Глупая девчонка — как и многие прочие — и ухом не повела, а потом уж поздно было: мерзкий жених и его дружки уже стояли на пороге. Старуха только и успела спрятать деву за бочкой. Злодеи вошли в дом, betrunken wie Herren[147], и втащили за собой юную девушку. Сначала они заставили ее пить с ними вино: стакан красного, стакан белого и стакан черного. А потом стащили с нее красивые одежды и свалили в кучу, чтоб потом продать на базаре. А потом… — Грет вдруг умолкает. Откашливается и косится на дверь.
— Что? — Голос у меня — не голос, а хрип. Мне уже хватит и того, что услышала, но я хочу знать, что дальше.
— А потом они… хм… когда все зло содеяли…
— Какое зло?
— Такое, что я тебе и сказать не могу. Скажу только, что длилось оно долго, и девушка кричала, и плакала, и звала на помощь Господа и всех его ангелов. — Она закапывается в оленя, выдирает у него потроха и легкие. — А когда они покончили с тем, что делали с ней много-много раз, она уже была мертва, и они отрубили ей пальцы, поснимали с них кольца, а саму ее покромсали на мелкие кусочки и засолили.
— Они ее съели?
Грет опять глянула на дверь.
— Конечно. А потом бросили кости в огонь, чтоб получилось еще пепла — посыпать тропинку в лесу.
— А что же с-случилось с невестой?
— Она убежала домой и сказала отцу, и тот сделал так, чтобы разбойников отдали под суд. С них живьем содрали кожу, а потом отрубили им головы топором. — Грет смотрит не мигая в таз с потрохами. — Да, в тот день крови было столько, что она вытекала из Альтонского суда прямо в Эльбу[148].
Теперь Эрикин черед получить новую работу — она будет сортировать громадные кучи одежды в таком месте, где гораздо теплее и чище, чем там, где она плела солому. Здесь длинные столы, заваленные красивыми шелковыми платьями, как были у мамы, а еще туфли, сумочки и горы шуб. Иногда я что-нибудь примеряю, но зеркала нет и посмотреться не во что. Среди одежды мы находим занятные вещицы: мыло и зубную пасту, вставные зубы, очки, фотографии, расчески. Человек, который за нами приглядывает, не кричит и не дерется. Его зовут Шмидт, он следит, чтобы суп в обед был горячий, и всем дает хорошо отдыхать. Чуть погодя он и мне назначает работу: у меня маленькие пальцы, и я могу распускать швы на шубах, чтобы портные их потом перешили.
Нелегко искать в меху малюсенькие стежки. Когда их найти легче, я знаю: кто-то их уже распускал до меня и там найдутся деньги и драгоценности, зашитые в воротники и манжеты. Тут много места, много комнат, но всякий раз, когда я на такое натыкаюсь, оказывается, что Шмидт стоит рядом со мной. В конце концов я понимаю, что он тоже что-то вроде ведьмы. А еще тут есть уродливый старый рыжий кот, он тоже за нами приглядывает, и глаза у него, что мерзейший гороховый суп Грет; как только я пальцами нащупываю что-то пухлое под швами, этот кот бежит и доносит Шмидту. Однажды из-под подкладки выпадает красивая золотая брошка — еще до того, как я распарываю шов. Она крохотная, в виде цветочка, с синими камешками вместо лепестков, и только я собралась ее спрятать в ботинке, как является Шмидт и протягивает мне свою здоровенную красную руку. Кот вьется у него между ног, смотрит на меня и улыбается своими узкими глазками. Стоит мне замахнуться на него ногой, как он исчезает. Эрика велит мне оставить его в покое, иначе меня могут выслать работать в плохую комнату, где вещи грязные и воняют, покрыты кровью и блохами, но мне плевать.
Через несколько дней я делаю вид, что подружилась с ведьмацким котом, а сама беру его за шкирку и сдавливаю так, что у него глаза вылезают и он бьет лапами по воздуху. Вдруг возникает Шмидт, и приходится кота отпустить. В следующий раз ему повезет куда меньше.
Когда нам хочется сочинять истории, мы с Даниилом уходим в особое место за сараями.
— Теперь твоя очередь, — напоминаю я. Он трясет головой.
— У тебя истории лучше моих. Там с плохими людьми происходит всякое хуже, чем у меня.
— Ладно. Кого сегодня будем убивать? — Решаем, что пусть умрут смотрители зоопарка. А раз они настолько больше нас, перво-наперво нужно наложить на них заклятье. И мы делаемся большие-пребольшие, а они — карлики. И мы их строим, как детей на школьном дворе. У Даниила здоровенная плетка, и когда они не делают, что им велено, он их хлещет по ногам. Стоять им надо подолгу, пока мы бегаем между ними и играем в игру, которой нас научила Сесили, чтоб мы не мерзли:
- Наружу да внутрь за пролеской[149] в окошко,
- Наружу да внутрь за пролеской в окошко,
- Наружу да внутрь за пролеской в окошко,
- Я твой хозяин.
А когда стишок заканчивается, нам полагается выбрать кого-то и спеть:
- Кого выбрал, того тронь,
- Кого выбрал, того тронь,
- Кого выбрал, того тронь,
- День-деньской[150].
Но к тому времени мы уже устаем и совсем веселые, и потому во вторую часть не играем, а ведем их в дремучий лес, пока не добираемся до пряничного домика. Нужно побыстрее, потому что волшебство нестойкое и скоро они вырастут обратно до обычных размеров. У ведьмы — громадная печь, туда влезут и слоны, и жирафы или тысяча обыкновенных зверей, эта печь у нее за баней. И смотрители зоопарка наверняка про нее знают, потому что мы вынуждены тыкать в них вилами и стрелять из пистолетов в воздух, чтоб они шевелились. Они бредут, а сами плачут и рыдают, делают вид, что раскаиваются, говорят, что это их заставили делать плохое. Мы их всех загоняем внутрь, даже дядю Храбена, хоть он и умоляет меня о пощаде. «Я знал твоего папу, Криста. Я давал тебе ириски».
Даниил бьет его по голове. Раз. Два. Три. «И так все хуже некуда, так еще и последнее самоуважение терять?»
А потом, когда мы уже закрыли дверцу на засов, мы ее всю залепляем глиной, чтоб не слышать, как они там воют, и собираем шишки и сухие ветки для огня. Ведьме предстоит это все поджечь. Она очень боится и делает тайные знаки пальцами. А потом встает на колени и пытается вспомнить, как молятся. Из высокой-превысокой трубы валит много дыма. Сегодня он пахнет фиалками и жженой карамелью. Пепел черный, и деревья, когда он на них падает, съеживаются и погибают.
За портняжной фабрикой, за стеной, видны макушки лесных деревьев. В основном там чернильно-ерные ели, но есть и зловредное каштановое дерево — оно по осени не сбросило нам ни одного каштана, хотя сейчас, по весне, дает ветру натащить нам во двор кучи желто-зеленых шкурок. Мои два боба проросли, хотя еще пока маловаты.
Прибыло много нового народу. Среди них — безобразная старуха, она пялится на меня в упор, а потом хватается за грудь и каркает:
— Это ж моя деточка из ларца!
Я показываю ей язык и удираю, но она ковыляет за нами, подтаскивая одну ногу, и хочет меня потрогать. Даниил говорит, что у нее не все дома. Он машет рукой у нее перед лицом.
Дяди Храбена давно не было. Однажды он вдруг появляется и говорит мне, что зацвели вишни.
— Я по тебе скучал, Криста. Все ждал, когда мы еще поболтаем. Заходи повидаться как-нибудь вечерком. Новые кролики народились. Да и твоя красивая одежда ждет тебя не дождется.
Я смотрю себе под ноги и молчу.
— Приходи скорее. — Он такой с виду грустный, что трудно поверить в то, что мне там Эрика понарассказывала. Погодя, когда он говорит, что началась первая в этом году вишня, Лотти предупреждает меня, чтоб я держалась от него подальше, но голосок у нее теперь слабый. От нее мало что осталось.
Весь тот день и следующий, пока распускаю швы на здоровенных шубах, я пытаюсь вспомнить вкус вишни. Будет ведь и пирог. Или даже хлеб… с маслом. В воскресенье я пробираюсь к башне, крадусь от одного здания к другому, чтоб Эрика меня не увидела, взбегаю по ступенькам.
— Где вишня?
Дядя Храбен откидывается в кресле и прикуривает сигарету.
— Так, милая Криста, ты же знаешь, что сначала надо кое-что сделать.
Я мою руки и достаю свое лучшее платье и чистые белые носки. Хотя дядя Храбен прикидывается, что не смотрит, он принимается смеяться, когда у меня не получается застегнуть пуговицы.
— Да ты уже большая девочка стала. Пустяки. Все равно иди сюда.
Я сажусь к нему на колени, но сегодня они какие-то костлявые и неудобные. Он протягивает мне вишни, а они, оказывается, неспелые и безвкусные. Но я все равно их ем. Дядя Храбен гладит меня по голове. Тискает мне руки и ноги, щекочет под расстегнутым платьем, а сам рассказывает о своем новом щенке, которого зовут Фюрст.
— Его зовут Князь, потому что он сын Короля?
— Нет, глупышка. Он der Frst der Finsternis, Князь Тьмы.
Дядя Храбен помалкивает, а сам медленно кладет руку туда, куда, как Грет мне говорила, никто не должен.
— Перестаньте!
— Тебе не нравится?
— Нет.
Я быстро спрыгиваю на пол и натягиваю свою обычную одежду.
Он опять смеется, но теперь это неприятный смех.
— Пора уже избавиться от этой грязной старой игрушки, — говорит он, покуда я заворачиваю Лотти в ее тряпку. — Взрослым девочкам есть чем заняться в свободное время, а не со сломанной куклой играть. Приходи завтра, Криста. Будет еще вишня… и всякое приятное еще.
Хочу поговорить с Эрикой про то, что случилось, но она занята: у нее целая толпа людей. Кто-то из них, наверное, украл мои побеги, а на них уже были крошечные стручки. Почти дотемна Эрика рассказывает всякое своим новым друзьям. А потом идет к туалетам и исчезает. Я не могу ее найти, и Сесили прижимает меня крепко и говорит, что Эрика теперь в лучшем мире. Я недолго надеюсь, что Сесили может стать мне новой приемной матерью, но ей больше нравится быть учителем и говорить людям, чтобы они мыли шеи.
— Ты теперь сама это делай, Криста. Хватит уже строить из себя ребенка только оттого, что ты такая маленькая. Не забывай: я знаю, какая ты умная. — Она медлит. — Как бы странно ни звучало, Криста… нет, послушай меня, это важно… иногда, даже если никак не получить того, что хочешь, — любви, защиты, внимания, — их все равно можно дать. Понимаешь?
Пожимаю плечами.
— Глупости.
— Глянь по сторонам — кругом дети, у которых матери такие больные или слабые, что им не до заботы о детях. Может, ты…
— Не смотри на меня. Не хочу я за ними приглядывать. С чего это?
Вскоре возвращается Лена. Она болеет и даже не укладывается со мной спать. Теперь за мной некому присматривать. И некому заставлять меня просиживать днями напролет в том меховом месте, и мы с Даниилом в основном бываем вместе — когда я не делаю уроки. Весной он вдруг резко пошел в рост, а теперь дамы у нас в сарае говорят, что и я тоже. Лена хочет обрезать мне волосы.
— Осторожнее, — говорит она между приступами кашля. — За такой красивой девочкой, как ты, придут, если доживешь.
Я держусь подальше от дяди Храбена, но издали часто вижу, как он гуляет с Князем Тьмы. Однажды я чуть не напарываюсь на него и еще одного мужчину, у которого взрослая собака; они проверяют сарай, где сумасшедшие женщины прижимаются лицами к стеклам. Князь Тьмы поначалу рычит, а потом пытается прыгать и играться. Дядя Храбен изо всех сил бьет щенка по носу кожаной перчаткой. Другая собака ощеривается и показывает здоровенные желтые зубы, и с них капает пена, пока ее хозяин не велит ей перестать. И тут из-за угла выбегает Даниил.
— Вот ты… — И тут он замирает. С лица у него сходит вся краска: взрослая собака бросается к нему, натягивает сворку, вертится и крутится, рычит и хватает воздух зубами, пытаясь дотянуться до Даниила. Дядя Храбен рявкает команды Князю Тьмы, подначивает его делать, как большая собака. Даниил сдает назад — медленно-медленно, тихонько-тихонько. Я вижу, как дядя Храбен говорит что-то своему спутнику, тот кивает и дергает свою собаку так, что она вдруг встает на дыбы и пляшет на задних лапах. А дядя Храбен спускает Князя Тьмы с поводка. Молодой пес бросается вперед, Даниил падает на землю, кричит, катается в пыли и пытается вырваться.
— Уберите его! — кричу я и колочу дядю Храбена кулаками.
— Не волнуйся, Криста, — кричит он поверх шума, — ничего такого не случится. Ну пара укусов — если только песик не окажется лучше, чем я думал. Это ж тренировка для юного Князя, вот и все. Всем собакам надо с чего-то начинать. — Он ждет еще миг-другой, а меня держит, чтоб я не лезла помогать Даниилу, а потом склоняется и шепчет мне на ухо: — На этот раз я отзову пса, Криста, если ты дашь мне слово, что завтра ко мне придешь. Отныне тебе придется быть послушной девочкой и делать, что я тебе велю. Иначе…
Я киваю, не говоря ни слова. Дядя Храбен пинает Князя Тьмы и выкрикивает приказы, покуда снова не пристегивает пса.
Когда он уходит, в тишине слышен только плач Даниила да тихий стук сумасшедших женщин в стекло. Я превратилась в камень — в статую с глазами, упертыми в небо, они смотрят, как надо мной меняются местами дым и облака.
Одиннадцать
Когда вода из уличной колонки обожгла исцарапанное лицо и руки, Беньямин вскрикнул так громко, что Гудрун выбралась из своего теплого угла за печкой.
— Кто там? Ох. — Она опустила тяжелую сковородку. Оба посмотрели на его ноги. — Ты глянь на себя. А со штанами что стряслось? Хорошие были штаны, носить не сносить, а ты на них все колени продрал.
У унижения свой особый кислый вкус. Он поднялся у Беньямина в горле желчью — вспомнился вовек незабываемый переход через площадь, ползком, на четвереньках, как кающийся грешник, груженый, как осел, травимый, как собака, его пинали и били, в него плевали, а дым грозил удушить. Шквал оскорблений и ударов сыпался на него с новой силой, как только он пытался встать. Они заставляли его ползти, лицо — едва ли в дюйме от грязных булыжников, пока у них не появились новые жертвы. Наконец его отпустили, и он добрался до стены, вслепую цепляясь за щели в неровной кладке, как-то поднялся на ноги. Бросил украдкой взгляд за плечо и увидел, как его обидчики столпились вокруг группы нищих кучерявых Ostjuden[151]. Что он мог поделать? Беньямин, презирая себя, убрался прочь. Трус.
— Ты дрался, — торжествующе постановила Гудрун. — Ну погоди, вот хозяин-то узнает…
— Отстань, —рявкнул Беньямин, промокая кровоточащие ноги старой тряпкой. — Давай беги докладывать, если хочешь. Мне плевать.
— Ничем ты не лучше беспризорников. Драться да куролесить…
Беньямин озлобленно уставился на нее.
— Там головорезы буянят в Леопольдштадте. На меня тоже напали.
— Ох. — Гудрун притихла. — Тогда… — Она открыла дверь. — Видимо, тебе лучше выйти на свет. Стой там. Дальше не ходи. Тут пол мытый.
— Я не могу… — Кухня на миг почернела. Беньямин качнулся вперед и схватился за стол. Лили, чистившая серебро, вскочила поддержать его.
— Что он наделал? Дай я посмотрю.
— Прочь с дороги, девонька. — Гудрун отпихнула ее и схватила Беньямина за голову обеими руками — поглядеть на разодранную кожу. — Это нужно промыть, а еще сверху приложить мою примочку из календулы, чтоб вытянула грязь. Ты в том паршивом месте мог подцепить что угодно. — Она подтащила стул. — Сядь.
— Нет. — От проявлений ее грубой заботы Беньямин весь сжался. — Все в порядке. Сам разберусь.
— Как хочешь. На таком-то уродливом лице шрамом больше, шрамом меньше.
— Беньямин не урод, — возразила Лили. Гудрун пренебрежительно фыркнула, но Лили, не обращая внимания, погладила его по щеке, он подался к девушке. — Это же он, да? Надо было предвидеть, что он не сдержит слово. Я сделала все, что он… — Тут она умолкла: в дверях возник Йозеф.
— Что происходит? — Доктор увидел, в каком ужасном состоянии Беньямин, и глаза у него расширились. — Как это произошло? Не надо, не отвечай. Пойдем со мной. Без вас, Лили, — мне нужно поговорить с Беньямином один на один.
— Никуда ему нельзя в этом состоянии идти, — восстала Гудрун.
— Я бы сказал, это все надо промыть. — Йозеф взял Беньямина за руку. — Принесите горячей воды и найдите чистую одежду. У Беньямина размер, как у Роберта.
— Сколько, они думают, у меня рук? — спросила Гудрун в потолок. — Похоже, чем больше я делаю, тем меньше со мной считаются.
Беньямин оказался в видавшем виды кожаном кресле в кабинете у доктора, но как очутился здесь, вспомнить не смог.
— Не пытайся говорить, — сказал Йозеф. — Давай тебя сначала осмотрим. — Он вгляделся юноше в глаза. Далее последовала чрезвычайно неприятная процедура промывки ободранных коленей и извлечения оттуда грязи, после чего доктор применил разнообразные снадобья — все жгучие, но, вероятно, не сильнее, чем сомнительная припарка Гудрун. Йозеф, по крайней мере, обращался с ним бережно.
Когда они закончили, у Беньямина случилась еще одно помрачение. Может, задремал. На сей раз, когда он открыл глаза, над ним стоял Йозеф, держа в руках мягкую белую сорочку и брюки.
— Эти должны подойти. — Он сунул юноше в руку стакан вина. — Выпей. Поможет.
— Спасибо, сударь. Простите, что от меня столько беспокойства. — И Беньямин вновь свесил голову на грудь. Поддерживать ее стоило неимоверных усилий.
— Пустяки, — взволнованно отозвался доктор. — Что стряслось? Ты ходил в клуб. Кто-то из тамошних это тебе устроил?
— Нет. Это было потом. — Беньямин сделал несколько глотков вина. Острое Weifigipfler[152] его несколько оживило, но он слишком устал и не готов был излагать всю историю целиком. — Я познакомился кое с кем… в клубе. Завтра нужно будет пойти туда снова, разузнать побольше. А оттуда я отправился повидать Хуго Бессера, ну вы знаете, журналиста… подумал, может, он что-то уже знает. Но так к нему и не добрался. В Леопольдштадте беспорядки, сударь, на сей раз вовсе скверные. Какие-то бандиты громили лавки, поджигали дома, нападали на людей. Из того, что я видел, все насилие досталось… — он помялся, — …нашим людям, сударь, евреям. — И вновь голова у него повисла.
Йозеф потянулся к нему, взял за подбородок, заглянул в лицо.
— По голове били?
Юноша кивнул.
— Когда схватили, они… меня пинали.
— Понятно. — Йозеф выпрямился и принялся ходить взад-вперед по комнате. — Я нечаянно услышал, что сказала Лили. — Он глубоко вдохнул. — Она сказала — возможно, это не в точности ее слова: «Надо было предвидеть, что он не сдержит слово. Я сделала все, что он от меня хотел». — Йозеф поправил портрет. Провел пальцами по верхней планке рамы, проверил, нет ли пыли, после чего развернулся и в упор посмотрел на Беньямина. — О ком это она? Как зовут этого человека? О каких обещаниях речь? И почему ни один из вас об этом ничего не говорил?
Беньямин вздохнул.
— Я не знаю, о чем она. — Но что-то в этом было. Оно висело прямо над бритвенным лезвием памяти, и чем старательнее он пытался ухватить, тем дальше оно отступало. — Не знаю, — повторил он. — Может, это опять ее… ну, это, сказки… вроде той бессмыслицы, что она сделана из часовых колесиков или что ей не надо есть?
— Хм-м, — отозвался Йозеф. Он сел и долил им вина. — Расскажи мне подробнее, что там случилось в Леопольдштадте. Кто были нападавшие? Христианские социалисты? Люди Люгера? — И, не дожидаясь ответов, продолжил: — Этот глупец уже четыре года нас предупреждает.
Беньямин помолчал мгновение, вспоминая их ночные разговоры. На выборах в 1895 году бургомистр угрожал начать конфискацию имущества. Пустая угроза, конечно: Люгер попросту пытался сделать так, чтобы евреи не поддерживали его политических оппонентов. И конечно, обращался он к зажиточным, ассимилировавшим евреям — торговцам, специалистам, ученым, а не к жалким созданьям, бежавшим из дома и искавшим в Вене укрытия. И все же это был тот самый Карл Люгер, кто прозвал венгерскую столицу Юдапештом[153], — и толпа, ликуя, подхватила эту издевательскую шутку.
— Люгер эту кашу заварил, — сказал он наконец. — Скажет что угодно, лишь бы набрать популярности.
Йозеф кивнул.
— И ему плевать на последствия. Пока это все разговоры — какие-то поядовитее прочих. Попомни мои слова: рано или поздно какой-нибудь безумец воспримет его болтовню всерьез. И что тогда? Евреи виноваты — вот девиз. В чем, спрашивается? Вечный вопрос. В том, что решит гойское большинство, естественно. Как ни поверни, мы всегда козлы отпущения. — Он кашлянул. — И как же ты удрал от этих мерзавцев?
— Уполз, — пробормотал Беньямин и тут же пожалел об этом слове.
Он почувствовал, как у него загорелись щеки, и потупился. Вымазал ладони в собачьем дерьме, а отмыть их было негде, пока до канала не добрался. Смеркалось, он присел на берегу, глотая слезы. Оттирался долго, но запах все равно въелся в исцарапанную кожу. Как ему теперь прикасаться к Лили — самой чистоте и невинности? Когда же он наконец поднялся на ноги — все у него затекло и болело, а малейшее движение отворяло чуть подсохшие раны, — он оглянулся на Шаттенплац. Он увидел, как вздымаются два столба темного дыма, до того толстые и прямые, что сами были будто печные трубы, навершие у каждой плоско упиралось в небо. Беньямин никак не мог изгнать это видение из головы.
Йозеф похлопал его по плечу.
— Иди-ка ты в постель, парень. Сон — лучший лекарь. Все утром будет полегче. Колени заживут не сразу, а вот ссадины на щеке неглубокие. — Он улыбнулся. — Шрама не будет.
— Минутку, — проговорил Беньямин устало. — Еще кое-что…
— Подождет до завтра, уверен.
— Нет, это важно. Тот человек…
— Который напал на тебя в Леопольдштадте?
— Я его уже видел. — Беньямин умолк, пытаясь привести мысли в порядок, но процесс замедлялся его нежеланием вспоминать череду отвратительных унижений. — Он сегодня наведывался в клуб — или, по крайней мере, мне так показалось, однако, быть может, связь здесь плотнее. Он мужчина видный, очень светловолосый, почти белый, и у него тут шрам. — Беньямин провел пальцем по щеке. — Образованный, одет безупречно. Что-то в нем такое… он улыбается… все время, но только ртом, если вы понимаете, о чем я. А глаза, — Беньямин слегка содрогнулся, — бледные, как у рыбы. Холодные как лед.
— Неприятный тип, — проговорил Йозеф.
— Более того. Он был в кабаке в тот вечер, сидел рядом со мной и с Хьюго, пока мы разговаривали. Поминали мы клуб…
Йозеф склонился вперед. Глаза блеснули.
— А Лили?
— Не по имени, — быстро ответил Беньямин. — Ну, мы его и не знаем, верно? Нет, я говорил о пропавших девушках в целом. — Он кашлянул. — Хуго угостил меня «Обстлером». А я к такому крепкому непривычный.
— Распустил язык?
— Мы… эм-м… еще поговорили о «Телеме» и… э-эм… может ли девушка оттуда сбежать. Блондин, вероятно, подслушал. Я все время думал, что это он за мной проследил после того, как я ушел. Если он работает в клубе, тогда все сходится. Я не собирался еще раз ему попадаться и получать тумаков, и потому, когда он мне сегодня велел убираться, дважды ему повторять не пришлось. — Беньямин поднял голову и посмотрел Йозефу в глаза. — Но я потом вернулся все равно.
— И вот он ждал тебя в Леопольдштадте.
— Да. Надеюсь больше никогда его не встретить.
— Как его зовут? — не отступался Йозеф.
Беньямин нахмурился, пытаясь вспомнить минуты перед тем, как его сбили с ног. Он закрыл глаза и увидел светловолосого главаря, его трон из обвалившейся стены, как он полирует не сворованную корону, а золотой светильник. И вновь услышал насмешки его прихвостней.
— Клингеманн. Другие называли его Клингеманном.
— Не знаю такого имени. — Йозеф поморщился. — Так, значит, это все он.
— Возможно. — Беньямин с любопытством всмотрелся в доктора, приметив тень облегчения у того в голосе. Разобраться в этом подозрении ему не удалось: доктор поторопил его встать и, с полупустой бутылкой в одной руке и одеждой своего сына на другой, повел Беньямина через кухню к конюшне.
Йозеф Бройер пробудился от сна столь глубокого и без сновидений, что на мгновение задумался, до чего похож он на безмятежный покой мертвых. Еще не открыв глаз, он почесался и потянулся, напряг все мышцы, словно этим маленьким усилием убеждал себя в собственной телесности. Когда мысли вернулись к событиям прошлого вечера, Йозеф почувствовал, как вновь накатывают волны раздражения: Беньямин впутался в то, что наверняка помешает их расследованию. Мальчишка — глупец. Что еще оставалось делать Йозефу — только запретить Беньямину возвращаться в клуб? Видному врачу не с руки брать на себя ответственность и отправлять своего слугу на верные увечья или смерть. Случись худшее — возникнут вопросы. Вылезет правда. На невинные цели визита навешают гнусных толкований. И в конце концов он, герр доктор Йозеф Бройер, окажется виновен. И работа всей жизни — псу под хвост, и все семейство Бройер — в опале.
У него вскипела кровь. Он распахнул глаза.
Комната полнилась бабочками: белые крылья, черные точки, все крутится, вертится, взлетает, пикирует — мягко, будто лепестки на ветру. Они двигались бесцельно и от этого делались существами сновидений: таким, с ее красотой и хрупкостью — и тайной, — была Лили. Йозеф спустил ноги с кровати — в нетерпении вновь увидеть, коснуться ее… доказать себе, что она не видение, возникшее от его тоски по утраченной любви. Он все еще сидел свесив ноги, и тут взгляд его привлекли две бабочки, устроившиеся на спинке кровати, — они сплели усики, словно влюбленная парочка. Психея и Купидон, подумал он мрачно, хотя в данном случае в маске — Психея, а не Купидон. О Лили, Лили… что за темная цель привела тебя сюда? Он постучал по раме кровати, и бабочки взмыли и принялись прясть свой любовный танец у него над головой. По комнате разлилось странное, сладкое благоухание, пробуждавшее воспоминания о весне за городом.
Йозеф вернулся мыслями к Беньямину. Мальчишка бестолков, что есть, то есть, садовых паразитов не может вывести, — но зато его помятое состояние вызвало красноречивый отклик у Лили.
— «Надо было предвидеть, — проговорил Йозеф вслух, смакуя каждое слово. — Надо было предвидеть, что он не сдержит слово. — Йозеф нахмурился. — Я сделала все, что он от меня хотел», — добавил он, хотя не был уверен, что она закончила эту фразу.
Бабочки плясали все ближе, кружили у него над головой, и он раздраженно отмахнулся от них. Что значили слова Лили? Почему она ни с того ни с сего решила, что знает человека, учинившего нападение на Беньямина? Означало ли это, что она знакома с этим светловолосым субъектом, с этим — как бишь его? — ах да, Клингеманном. И почему совсем не удивилась ранениям юноши?
Он вновь перебрал скудные факты, слова и умолчания, взвесил тонкости, поискал скрытые значения. Успокоения не принесло. Ответ был вполне прост: они в сговоре. Йозеф сжал кулаки. В висках застучало. Их планы, какими бы ни были, пошли наперекосяк — неблагодарная парочка сама себя выдала. Осталось лишь выяснить их цели. Он вскочил на ноги, с неудовольствием отметив, как затрещали суставы, и так же быстро опять сел.
Разумеется, можно посмотреть на все иначе. Если этот Клингеманн связан с «Телемой» и если Лили знала его по этому низменному месту, тогда она уже… Тут его ум увильнул прочь от понятия «падшая женщина» и приземлился на восхитительно многозначительном «скверная девчонка». Более того, подумал Йозеф с внезапным восторгом, такая, которая делает все, что от нее хотят. Такая девица может запросто переметнуться. Ей доступно было все, что душе угодно. Ясное дело, ничто так не отсрочивает старость, как девушка ангельского вида с невероятными сексуальными аппетитами Лилит и послушанием Евы при этом. Ликуя от накатившего возбуждения, Йозеф распахнул дверцу комода, выбрал едва ли не лучший свой жилет и приготовился браться за дневные дела. Как только он убедит Лили признать ее прошлое, нужно будет немедля идти искать очаровательную квартирку.
По лестнице он прыгал через ступеньку, а сам упивался мыслями о том, как он будет обставлять эту квартирку мелочами и безделушками, которыми большинство женщин — не Матильда, хотя и она в свое время такое любила, — обожают себя окружать. А затем его Лили просто исчезнет. Гудрун обрадуется, что ее больше нет, и тут все просто: нашлась семья, он выслал девушку домой — и вся недолга. Что же до Беньямина, то ему он предложит награду за молчание — и за пресечение любых нелепых надежд касательно этой девушки: денег побольше, положение позавиднее, даже некие начатки образования. Если не сработает, Беньямину тоже придется исчезнуть: внезапная болезнь, горячка или несчастный случай с каким-нибудь ядовитым садовым снадобьем. Уксуснокислую-метамышьяковистокислую медь, «парижскую зелень», — нынешнее оружие парижан против нашествия крыс в канализации — можно добыть без труда. И даже необходимо: мальчишка и грызунов вывести не может, как и этих чертовых бабочек.
Аппетит к завтраку у Йозефа сегодня был куда меньше, чем потребность укрепить уверенность в себе. Добравшись до кабинета, он глянул на полку с номерами «Wiener medizinische Wochenschrift»[154], в который он писал с 1868 года: «Zwei Flle von Hydrophobie», «Das Verhalten der Eigenwrme in Krankheiten», «ber Bogengnge des Labyrinths»[155]. Стояли здесь и другие издания; он уж потерял счет ученым статьям. Не просто так его пять лет назад избрали членом-корреспондентом Венской Императорской академии наук. А была ведь еще и работа в военно-медицинской школе, продемонстрировавшая роль блуждающего нерва. В то время он был едва ли старше Беньямина, и тем не менее его открытия перевернули профессиональное понимание связи между дыхательным аппаратом и нервной системой. Как мог нищий садовник и чернорабочий тягаться с врачом, описавшим механизм рефлекса Херинга — Бройера?[156] Йозеф задумчиво потыкал в свою модель внутреннего уха. Он разгадал тайны жидкости в полукружном канале. Равновесие и дыхание — вот две основы человеческого существования, вот что роднит нас с Богом. Йозеф, если разобраться, не был никем,что бы там ни считали Фрейд и его подхалимы. И чахлым стариком, каким его видела Матильда, он тоже не был. А Гудрун с ее чепухой получит сегодня жесткую отповедь.
Придвинув Лили кресло, Йозеф сам присел на край стола и улыбнулся, надеясь тем самым создать непринужденность и скрыть беспокойство. Бабочки не только расположились на гардинном карнизе, но и, похоже, обжились у него в животе. Он огладил бороду.
— Вы сегодня славно выглядите, моя дорогая. Как всегда, впрочем, как всегда.
Лили перебирала складки юбки.
— Я сказала старухе, что в полоску не надену, но она сказала, что надо.
— Никогда так больше не будет, — быстро сказал Йозеф. — Вы сами станете выбирать себе одежду — шелка, атласы, бархат, ситец, с отделкой из кружева или перьев, — всё, к чему будете благосклонны. Мы найдем портниху…
— Мне все равно, что на мне надето, лишь бы не полоски сверху к земле.
— Хорошо. — Йозеф усомнился, долго ли продлится объявленное Лили безразличие к одежде. — Может, тогда украшения.
— У меня уже есть браслет. — Лили потянула за рукав — показать сплетенное из травы кольцо, отделанное высохшими цветками обычных маргариток. — Беньямин мне сделал.
Йозеф поджал губы.
— О.
Выбрав одну цветочную головку, она оборвала на ней лепестки один за другим.
— Любит, не любит…
— Бриллианты и жемчуг быстрее ответят на этот вопрос. Или, быть может, вы предпочитаете сапфиры? — Лили не ответила, и он вернулся к себе в кресло, повозился с бумагами. Мальчишке так или иначе придется уйти. — Итак, моя дорогая, у меня к вам еще несколько вопросов. Надеюсь на ваши откровенные ответы. — Она подняла взгляд. — Вы знаете женщину по имени Берта Паппенхайм? — Он подался вперед, пристально вглядываясь ей в лицо.
Лили покачала головой.
— Люди часто теряют имена. Имена проваливаются в ямы, их съедают дикие звери. Иногда их уносит ветер.
— Все так, все так. — Йозеф решил не обращать внимания на это бессмысленное заявление. — Не исключено, что фройляйн Паппенхайм использовала другое имя. — Он помедлил и добавил мягко: — Анна, к примеру.
— Она в вас влюбилась?
Йозеф охнул.
— Откуда… — Но тут же спохватился. Значит, Лили знала Берту. Далее следует двигаться осторожно — если он хочет выяснить, не по поручению ли бывшей пациентки здесь эта девушка, не создавать ли ему неприятности. — Как себя чувствует фройляйн Паппенхайм? — спросил он. — Последний раз я слышал, она в Мюнхене с матерью.
— Мы никогда не встречались. Я о ней где-то слышала, — уклончиво сказала Лили. — Она не писательницей стала? Или работорговкой?[157] Не думаю, что она все еще жива.
— Полагаю, жива. — Возражая ей, Йозеф уже отбросил эти мысли. Лили явно знала слишком мало. — А герр доктор Зигмунд Фрейд?
— Ficken[158], — ответила Лили.
У Йозефа глаза на лоб вылезли.
— Продолжайте.
— Кто-то мне говорил, что у него Geschlechtsverkher[159]с мозгом, — сказала она с бесовской улыбкой, какую он раньше у нее не видел.
— Вы знакомы?
— О нет. Каким образом?
— Он живет недалеко отсюда, — сказал Йозеф, вновь вглядываясь в нее. — Берггассе, 19.
— В Вене? — Лили нахмурила лоб. — А я думала, он…
— Да?
— Нет, все верно. Я перепутала.
Йозеф подождал, но Лили обратила свое внимание на бабочек. Одна села ей на протянутую руку. Губы у девушки задвигались, и ему показалось, что она либо произносит заклинание, либо рассказывает историю, хотя ни единого слова не услышал. Он откашлялся.
— Вы Беньямина сегодня видели?
— Он в саду, ест хлеб с медом. Прилетел дрозд, поклевал. — Она глянула на Йозефа, и бабочка тут же спорхнула. — Наша любимая еда — после абрикосов и вишен. И мы оба ненавидим суп — особенно старухин.
— У него довольно серьезные травмы. — Йозеф помолчал. — Насколько я понимаю, вы знаете человека, который их нанес.
— Белый ворон.
Йозеф записал сказанное. Он-то думал, что в мифологии какой-то забытой расы белая ворона пророчила последний путь человечества. Позже можно проверить. А потом он вспомнил, как Беньямин описывал Клингеманна: светлые волосы, почти белые.
— Расскажите мне о нем. — Она не ответила, и он добавил: — Вас он тоже обижал, Лили?
— Одна к печали, — пробормотала она.
— Две на веселье, — поддержал он, продолжая детскую песенку[160]. Затем подошел и положил ей руку на плечо, слегка сжал его. Пальцы его двинулись вдоль ее шеи, к милой ямке, едва видимой над кружевом лифа. — Одна, может, и к печали, зато вдвоем — уже на веселье…
— Семь — на тайну…
— Поведайте мне вашу тайну, Лили. Она про «Телему»? Вас держали узницей в этом клятом клубе? Что там произошло? Как вас обижали? Этого больше не случится. И им это еще припомнится. — Он склонился еще ближе, коснулся губами коротких кудряшек у нее на макушке. — Ну же, мне можно доверять. Расскажите мне все.
— Столько тайн найдется, но про них молчок, — прошептала Лили. — Я правда могу вам доверять?
— Конечно, дорогая моя. Лучше друга вам не найти… и, конечно, я бы сблизился гораздо больше…
— Но я вам уже доверяла, и смотрите, что случилось.
Йозеф уронил руку с ее плеча. Он выпрямился и посмотрел на нее вопросительно.
— Я не…
— Вы же обещали мне уничтожить чудовище.
— Скажите мне его имя, и я отдам его правосудию.
Лили покачала головой.