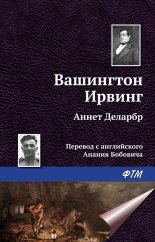Подвиг Севастополя 1942. Готенланд Костевич Виктор

– Раньше – это при царе? – спросил я его, а потом заострил вопрос: – Тогда, когда Украина была русской колонией?
Старовольский вздохнул. Однако сдержался. Спокойно пояснил:
– И при царе, и раньше. Только это долго объяснять, всю русскую историю пересказывать надо.
– Так значит, вы все-таки украинец?
– Можно и так сказать. Коль скоро я с Украины, из Киева.
Я поспешил поймать его на противоречии.
– А только что сказали – русский.
Старовольский не смутился. В голосе прозвучала насмешка.
– Да ты в школе отличником был, похоже. Историю любил?
– Да. У нас хороший был учитель. Старый большевик, из ссыльных политкаторжан.
Старовольский задумался. По улице прошел патруль. Звякнула железка. Меликян простонал во сне. Рана не давала ему покоя, а условия были, безо всяких оговорок, антисанитарные.
– Как бы тебе объяснить… – шепнул Старовольский, прислушиваясь к звукам снаружи. – Не все, что пишут в учебниках, – правда. Или не вся правда. Чаще это полправды, четверть правды, осьмушка.
Я снова не понял, что он имеет в виду. На всякий случай пояснил:
– Я по советским учебникам учился, не по буржуазным.
Он вздохнул, как мне показалось – печально. Потом сказал:
– Так и быть, попробую объяснить. Все равно до ночи делать нечего. Видишь ли, есть разные украинцы. Есть такие, которые украинцы – и потому не русские. Это их право, хотя они, к сожалению, очень часто становятся нашими врагами.
– Как те диверсанты?
– Да, как те. Есть такие, которые украинцы, но, несмотря на это, всё равно русские. Их когда-то обманули, сказав, что одновременно быть русским и украинцем нельзя, а можно только или-или. И они поверили. Но отказаться от себя не смогли. Это ведь очень трудно – от себя отказаться. Почти невозможно. Их прадеды были русскими, их деды, их отцы, а они почему-то ими быть перестали… А есть такие, которые украинцы – и именно поэтому русские. Правда, они не любят, когда их называют украинцами. Потому что многие, вроде тебя, считают, что ежели ты украинец, то значит, не русский. Их очень много, пусть и гораздо меньше, чем прежде. Вот к ним я и отношусь. И мой отец, и мать, хоть она по происхождению и не совсем русская.
– А Шевченко?
– Видимо, и он. Но у него спросить нельзя. Раньше не до этого было, а теперь не получится.
– А Тарас?
– Какой еще Тарас? – удивился Старовольский.
– Который тоже Шевченко.
Старовольский беззвучно рассмеялся.
– Що до Тараса, то вин безусловно относится к первой категории. Может быть, сначала он тоже был русским, но потом ему надоело.
– Почему? – не понял я в который раз.
– Потому что быть русским порой бывает не очень легко.
– Почему? – спросил я снова.
На этот раз Старовольский ответил быстро и не задумываясь:
– Потому что Россия очень трудная страна. Французом быть куда приятнее. Солнце, вино, код Наполеон. Правда, французам ради этого пришлось несколько столетий потрудиться. Четыре с половиной революции меньше чем за девяносто лет.
Что такое «код Наполеон» и над чем там трудились французы, я спрашивать не стал. Мне интересен был Тарас Шевченко.
– Но он же не стал французом.
Поверху медленно проехали мотоциклы. Отчетливее стали звуки отдаленной перестрелки. Настолько отдаленной, что без привычки не разберешь, то ли это стрельба, то ли какой-нибудь стук. «В лесу раздавался топор дровосека…»
Старовольский тоже послушал, после чего продолжил:
– Не стал, но, возможно, решил, что если перестанет быть русским, то станет не хуже француза. Такое случается и в некоторых обстоятельствах принимает массовый характер. Когда люди начинают кричать: «Я не русский, я хороший…» К слову, немцем после этой войны тоже быть будет непросто. Но они, я думаю, не сломаются и не начнут прыгать в сторону и орать: «Я не немец!» Разве что отдельные австрийцы. Хотя тоже не факт. Все-таки уровень культуры иной.
– По-вашему выходит, что украинцы это русские?
– Ну да. Или просто русские, как я, или бывшие русские.
– Короче, все вокруг русские. А Меликян? Он-то точно нерусский.
Теперь меня не понял младший лейтенант.
– А зачем Меликяну быть русским? Он армянин, у него своя родина. Древняя культура. Он ничего не потеряет, если русским не будет.
– А украинцы потеряют много?
– «Много» не то слово, – сказал Старовольский решительно. – При переделке в украинцев население Южной России теряет практически всё. Так много, что потом придется крепко думать, как бы вернуть себе то, от чего когда-то сами отказались. Понимаешь?
– Не очень.
– Это и на самом деле очень сложные вещи. Будет время, объясню. Только будет ли оно, время. Разве что после победы, если удастся дожить. Я, кстати, уверен, что, когда мы победим, очень многое изменится. В том числе и терминология. Название страны, городов. Мы снова будем Россией. Днепропетровск станет Екатеринославом, Кировоград – Елисаветградом, Куйбышев – Самарой, Краснодар – Екатеринодаром. Исчезнут все эти…
Он запнулся, но я понял и так – передо мной монархист. Пережиток. Бывший, хотя и совсем молодой.
– У нас будет когда-нибудь такая страна, о которой учителя из бывших политкаторжан даже додуматься не могли. Французы обзавидуются.
И он улыбнулся опять. Грустно-грустно, словно бы и сам не верил в это.
Молчать не хотелось. Я продолжил разговор.
– Разве можно вот так взять человека и переделать? Был русским, стал нерусским?
– Конечно, можно. Вот ты советский человек?
– Ну да.
– Представитель, так сказать, советского народа?
Мне не понравилось «так сказать», однако я кивнул вторично.
– И родился ты… В каком году?
Я назвал ему свой год рождения. Не самый худший, тысяча девятьсот двадцать третий, шестой по счету год новой эры в истории человечества. Старовольского такой ответ устроил.
– Значит, ты всегда был советским. А твой отец – советский человек?
Я почти обиделся. Какой еще, спрашивается? Но подвох уже почуял. Не дурак, считать умею.
– А он когда родился? – безжалостно довел лейтенант до конца свою мысль. – И что, он тоже на протяжении всей жизни был советским?
Я промолчал. Нечего было спорить. Киевлянин прижал меня к стенке.
– А ведь такие слова, как «советский человек», «советский народ», звучат куда более странно, чем «украинский». И ведь ничего, привыкли. Как там в песенке поется: «Если вас ударят в глаз, вы невольно вскрикнете…»
Тут я совсем разозлился. Не стал смотреть, что он командир, спросил его прямо:
– Что же в «советском народе» такого странного?
Старовольский ухмыльнулся.
– А почему он советский-то?
– Потому что у нас советская страна, Советский Союз.
– А почему она советская?
– Потому что советский строй.
– А что такое советский строй?
– Ну, это наш строй.
– Но почему он советский? – насел на меня Старовольский. – Ты парень умный, десять классов кончил. Значит, должен понимать, что прилагательное «советский» изначально является не качественным, а относительным. А если оно относительное, то должно быть образовано от какого-то существительного. От какого?
– Совет, – пожал я плечами, честно говоря не особенно помня, чем качественные прилагательные отличаются от относительных. – Потому и власть у нас советская.
– А что такое «совет» в нашем случае?
Мне захотелось фыркнуть. Конечно же, «в нашем случае». В вашем, а не в нашем, товарищ младший лейтенант, разные у нас случаи, и нечего меня к себе притягивать. Сжав зубы, я ответил:
– Орган государственной власти. У нас везде советы, товарищ младший лейтенант, если вы не в курсе. Райсоветы, горсоветы, облсоветы, и высший орган у нас Верховный Совет.
Но лейтенанту было хоть бы хны, он словно бы и не заметил моего нахальства.
– А в других странах есть органы государственной власти?
Я вконец на него обиделся, но виду не подал, а он сидел и улыбался, словно бы рад был поучить меня, дурака, словно бы не под Севастополем мы были среди немцев и румын, а на экзамене в каком-то институте. Словно бы город был наш, словно не немцы его взяли, а мы освободили. Не знал бы я, кто он такой и что он тоже воевал вместе с нами, то подумал бы…
– Есть, – процедил я.
– Например?
– Во Франции – парламент. В Англии тоже.
– А в Америке – конгресс. А в Германии рейхстаг. А в Польше был сейм. Стало быть, во Франции и Соединенном Королевстве Великобритании и Ирландии обитает «парламентский народ», в Американских Штатах – «конгрессовский», в Польше – «сеймовский», а в Германии – «рейхстаговский». Хотя нет, теперь у них фюрер за главного, так что и народ должен быть «фюрерским». Чушь?
– Чушь, – ответил я, ощутив полнейшую безнадежность. А он продолжил жестко:
– Вот и «советский народ» такая же чушь. Нет такого народа, красноармеец Аверин. Есть русский народ, литовский, татарский, армянский. Народ России есть. Народ Советского Союза в крайнем случае.
«Ага, как Советского Союза, так сразу в крайнем», – подумал я, но вяло уже, без задора.
– Хоть лучше все-таки народы. Между ними могут быть очень и очень сложные отношения, порой трудно разобраться, где кончается один народ, а начинается другой, порой разные народы выступают как один. Но называть народ по имени органов государственной власти довольно глупо. Вот так-то.
Я молчал, а он не унимался, как будто бы долго молчал, а теперь получил возможность выговориться, высказать всё то, что накопилось.
– Учись возвращать словам их подлинный смысл, тезка. Особенно привычным, которые произносишь, не задумываясь. Если бы люди думали над словами… Впрочем, это невозможно, не могут же все быть филологами, кому-то и уголь добывать надо, и землю пахать. – И, помолчав, он серьезно добавил: – Но над некоторыми словами думать надо. Чтобы не быть покорным и бездумным стадом.
С боку на бок перевернулся Мухин. Тихо, не проснувшись, матернулся. Я не знал, как реагировать на Старовольского. Хороший человек, а такое себе позволяет.
– Разрешите еще один вопрос, товарищ младший лейтенант?
– Разрешаю.
– Почему вы говорите, как… – Я осекся.
– Как кто? Ну говори, говори, не бойся.
– Как враг, – прошептал я испуганно и, видимо, здорово покраснел, до того мне стало стыдно, сам не знаю почему.
– Чей? – полюбопытствовал Старовольский. – Твой?
– Нет.
– Меликяна? Шевченко?
– Народа, – сказал я ему. И неожиданно осознал, какую сказал нелепость.
– А ты, Меликян, Шевченко, Сергеев, Зильбер, Марина, Бергман – вы не народ? Или я вам все-таки враг?
– Нет, не враг. А вот Земскиса вы побили… Я знаю.
Он улыбнулся. Как будто бы вспомнил о чем-то до чрезвычайности приятном.
– Вот ему я враг, безусловно.
– Потому что он латыш?
– Потому что он мерзавец.
– Но вы ведь сами кричали – курва нерусская.
– Я? – недоверчиво спросил Старовольский. Помолчал и вдруг рассмеялся. – Довел меня Мартын Оттович, нечего сказать. Нет, Алексей, к латышам я вполне равнодушен и скорее благожелателен. Но не к таким.
– Каким «таким»? – спросил я лейтенанта, добавив в голос яду. Хоть яда этого почти не оставалось, выдохся, а я и не заметил как.
Он подумал и ответил:
– Ландскнехтам революции, черт бы побрал их, ублюдков.
Я не понял, при чем тут средневековые немецкие наемники. Земскис был не немцем и совсем не средневековым. А про революцию опять прозвучало по-вражески. Он же, не смутившись, насмешливо спросил:
– Так что, я враг народу или нет?
– Нет… Только я теперь совсем ничего не понимаю.
Он поскреб пальцами по заросшей щетиной щеке.
– Это только кажется, что ничего. Часто, когда мы чувствуем, что ни черта не понимаем, это и есть первая стадия понимания. А вот те, кому все понятно, чаще всего ни хрена на самом деле не понимают. Так что ты, похоже, начинаешь вникать кой во что.
Мы замолчали. Снова вслушивались в звуки, напряженно, со странной надеждой. Казалось, грохот боя сделался чуть ближе. Нет, не ближе, а дальше. Или все-таки ближе? Где продолжалась стрельба? На мысе Херсонес? Что там происходило? Восстановлена оборона? Быть может, высажен десант, прибыли подкрепления, боеприпасы? Какое сегодня число? Вчера было тридцатое. Июнь короткий месяц, сегодня уже июль. Первое число. Или второе? Скоро ночь. Нам нужно будет выбраться отсюда. Пробиться. На Херсонес, туда, где продолжался бой. Туда, откуда начнется новое наступление. Или хотя бы эвакуация. Лишь бы не сдохнуть здесь, как загнанным в угол крысам. Быть может, лучше пробиваться в горы? Я неожиданно представил себя на месте диверсантов, захваченных нами на Северной. Они тоже хотели пробиться и тоже на что-то надеялись.
– О чем думаешь? – спросил Старовольский.
– Об этих… в лесу. Врагах… Помните, как вы тогда из-за немцев… кипятились. А за них ни слова не сказали… Наоборот…
– Они хуже немцев, гораздо, – твердо сказал лейтенант.
– Как это хуже? Почему?
Я думал, он скажет, потому что предатели. Однако ошибся. Старовольский яростно заявил:
– А не хрен им тут у нас делать, вот почему!
Второй раз, кажется, я слышал, как он грубит.
– Не понимаю.
– Вот и видно, что ты не с Украины, валенок сибирский. Но я, конечно, виноват. Нельзя стрелять по пленным, никогда. Даже по таким, даже если…
Он осекся.
Подумать только, он считал виноватым себя. А ведь не отдавал команды, не стрелял. Но я его понимал, даром что после стольких смертей расстрел трех мерзавцев в лесу не казался мне чем-то особенно страшным.
Мы помолчали. Однако недолго. Старовольскому хотелось поделиться мыслями, и долго он в тот раз молчать не мог.
– Кстати, после этой истории был у меня интереснейший разговор с одним человеком – из рабочих. Из тех, которые их захватили. Помнишь? Ими еще сержант госбезопасности командовал. Так вот этот рабочий считает, что после войны все непременно будет по-другому. Дескать, союзники заставят Сталина установить демократию. Как при царском режиме…
Я насмешливо спросил:
– А что, при царском режиме была демократия?
– Нет, конечно. Но ты пойми, он наивный человек, в голове все сильно перемешано. Исходит из того, что демократия хорошо, этому его научили в школе. Что царский режим чем-то лучше советского, это ему сказала бабка или мать. А США и Англия – демократические страны. Ведь так пишут в газетах.
– Про царский режим пишут?
– Да нет, про Англию и Штаты. Наивность, повторяю. Но ведь главное в другом – в людях живет жажда справедливости. Им надоело вранье. Я, конечно, сказал ему и про царский режим, и про то, что не стоит уповать на союзников – ведь навязанная демократия немного стоит, этакая демократизация равносильна превращению в заморскую колонию, – и русский народ такого не потерпит. Что рассчитывать надо только на себя.
– В каком таком смысле? – спросил я подозрительно.
Он не заметил моего раздражения.
– Даже не знаю. Ведь я, с одной стороны, радуюсь, видя, что люди хотят какой-то новой, иной совершенно жизни…
«Опять ему наша жизнь не нравится», – подумал я без особенной злости.
– Без постоянного страха за себя и близких, без крови, без гонений. Но ведь раньше, когда не было всего этого, людям тоже хотелось более справедливой жизни, а когда дошло до дела, оказалось, что справедливость всяк понимает по-своему. И мы получили гражданскую войну и кучу прочих прелестей. Я попытался ему это объяснить, и представляешь, что он мне заявил?
Я промолчал.
– Неужели, говорит мне этот парень, армия останется в стороне? Мы оказались не готовы к войне, лучшие из лучших погибли. Неужели армия не отплатит за тех, кого безвинно казнили в тридцатых? Ведь мы, говорит, великий народ, мы достойны других вождей и настоящей, не советской демократии. Вот так-то, Алексей. Его мысль напряженно ищет выхода из тупика. Он соглашается с моими доводами, но сразу же ищет иные пути. Потрясающая воля к улучшению несовершенной системы. Но я снова не знал, что ответить – похоже, из меня плохой предсказатель будущего. Знаю немного – что нужно сделать в данный момент, чтоб не лишиться самоуважения. И чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах.
– Давить надо таких рабочих, – сказал я обиженно.
– За что? За высказанное мнение?
– За мнение давить не надо. У нас социалистическая демократия и свобода слова. А вот за контрреволюционную пропаганду… Пятьдесят восьмая статья, не помню какой там параграф.
– Десятый, – подсказал Старовольский.
– А? – встрепенулся вдруг Мухин во сне. Видимо, услышал про статью и увидел соответствующий сон. «Пить», – прошептал Меликян.
– Если не выберемся сегодня, нам хана, – проговорил лейтенант. – Тебе и мне уже поспать не удастся. Через час встаем и… – Он неопределенно покрутил рукою в воздухе. – У тебя еще есть вопросы?
– Да нет, – задумался я. – Вот вы против советской власти…
– Я это говорил? – сказал он удивленно.
– Значит, за?
– И об этом я не говорил. Мы ведь совсем о другом с тобою беседовали. Ты сейчас совершаешь логическую ошибку.
– Какую?
– Поспешного обобщения. И вообще, у тебя какой-то очень уж двухцветный мир.
– А у вас цветной?
– Не знаю.
То, чего не узнал красноармеец Аверин
Цветов в мире младшего лейтенанта Старовольского было, конечно же, более двух. Тогда, в декабре восемнадцатого, как минимум три. Белый снег, черная фигура на нем – и красная кровь на снегу. Но разве расскажешь теперь обо всем? Что бы понял этот парнишка? Двадцать лет – и такие разрушения в народном сознании.
Да и о чем говорить? О том, что среди первых твоих воспоминаний – валявшийся на снегу во дворе твоего же дома русский офицер – один из тех, кто попытался защитить твой город от жовто-блакитной петлюровской шантрапы? Что твой отец, военный инженер, травленный на фронте газами и взявший снова в руки оружие, чудом остался жив и долго не спал ночами, ожидая казавшегося неизбежным ареста? О том, как затем раз за разом в город приходили большевики и среди них была все та же шантрапа, местная и пришлая, крикливая и наглая? И что даже тогда, когда город был ненадолго освобожден русской армией, в ней тоже достало шантрапы – и не понять, какой там было больше: всё той же, давно знакомой, что перебегала в ту пору с одной стороны на другую, или иной, с виду вполне приличной, могущей при случае и пофранцузить… Спору нет, в последнем случае процент был гораздо меньшим, но вполне достаточным, чтобы скомпрометировать трижды святое дело. И каждый раз стреляли, грабили, пытали, и ты сам, шестилетний, увидел однажды, как с телег, конвоируемых бессмысленными китайцами со звездами на картузах, стекала на брусчатку кровь.
Или рассказать о том, как, решившись уходить с отступающей русской армией, вы с толпами прочих беженцев были перехвачены на полпути «червонными казаками» и потом два месяца возвращались назад – чтобы, вернувшись домой, обнаружить – кто бы сомневался? – что нет у вас больше дома, и потом ютиться в комнатенке у тетки, вдовы расстрелянного красными профессора романской филологии?
Или о том, как еще через три месяца в город пришли поляки, а следом за ними – все та же жовто-блакитная шваль, и как поляки эти ходили по улицам, гордые, важные, проклиная большевиков, но больше-таки Россию, и давали понять, что больше России не будет, а что будет – не ваше дело, господа киевляне, то решит начальник Пилсудский вместе с новым своим союзником – ненавистным всем и каждому Петлюрой, коего возвращения в город никто и не ожидал после того, как был он разгромлен, разбит, рассеян всеми, кто только мог держать оружие в руках: большевиками, русской армией, бандитскими ватагами Махно, а также румынами – ну и, разумеется, поляками, теперь вот нежданно для всех сделавшихся его друзьями и покровителями – а как же не стать за этакую плату, как признание польских прав не только на австрийскую Галицию, но и на русскую Западную Волынь? И когда через месяц вчерашние победители наперегонки сыпанули из города и многие из знакомых, не сумевших эвакуироваться раньше, теперь пытались уйти вместе с ними, в том числе и несчастная вдова профессора филологии, твой отец всю ночь просидел в раздумье, а утром с непреклонной твердостью сказал: «С этими – никогда». «Dlaczego?» – спросила мать, отчего-то по-польски. «Dlatego», – отрезал отец. Потом, случалось, жалел очень горько, но бывало и не жалел.
Есть ведь такие вещи, которые не то что Аверину, себе не объяснишь. Вот взять хотя бы тех же поляков. Почему после призыва в тридцать девятом ты, интеллигентный русский юноша, не шовинист какой-то великодержавный и уж точно не большевик или украинский националист узколобый, ты, Алексей Старовольский, у которого в роду со стороны матери в Сибири перебывало столько народу, что иному польскому патриоту и не приснится, ты, весь такой правильный и образованный, не прошибаемый никакой пропагандой, ты – если не радостно, то все ж таки без принуждения и даже не без злорадства – горланил, маршируя в строю, эту песню дурацкую, не забыл? «Сила панская дрогнет и сломится, на штыках наших доблестных рот. Артиллерией, танками, конницей мы проложим дорогу вперед. Белоруссия родная, Украина золотая…» И до сих пор в этом не раскаиваешься и не раскаешься никогда. Потому что крепко засел в памяти этот польский парад на Крещатике и это их торжество от того, что Россия гибнет. Пусть же теперь на шкуре своей испытают, как это невесело – погибать. И бить вас будут вашим же оружием – «Украиной», чьи права на «независимость» во время наступления на Киев продекларировал ваш начальник Пилсудский. А вы как думали – воспользоваться чужой бедой, хапнуть побольше и отсидеться за спиной у Антанты? Не вышло, панове, добро пожаловать в сердечные объятия кремлевских азиатов. А уж потом, в сороковом, когда стали бить по-настоящему, и пошли слухи о новых арестах, и потянулись на восток эшелоны с выселяемыми, никакого злорадства не осталось и вновь залила сердце лютая ненависть ко всем этим, кто изувечив твою страну, принялся теперь за другую.
Да и шут с ними, с поляками, к чему такие сложности. Тут и о многом другом не расскажешь, куда более близком. Например, как после Гражданской, когда все утряслось и России, казалось, не стало, но отец твой, и мать, и ты сам все же остались живы – а вот младшего брата пришлось схоронить, когда среди зимы возвращались из отступления, – после всего этого, стало быть, когда все худо-бедно устроилось и даже был объявлен нэп, людей вдруг стали гнать со службы не только за «политику», но и за незнание нового языка. И отец твой, кто бы мог подумать, вдруг в силу своей начитанности и природного любопытства оказался среди знающих, и потому отчасти привилегированных, хотя картину портило происхождение и боевые заслуги на германской войне. Но ведь должен был кто-то работать за несчастных крестьян, в одночасье делавшихся начальниками и тоже не знавших этого языка, которого вообще никто не знал, кроме поспешно творивших его писак да понаехавших из Польши обманутых галичан. Или как мать твоя устроилась в читальном зале – и ее выкинули оттуда, когда старая жаба Крупская добралась до народных библиотек. Выкинули вместе с Платоном, Достоевским и Тютчевым. И как потом – ты был уже студентом – отца снова арестовали, и как ночами мать не спала, а тебя самого вышвырнули из политехнического. И как спустя два года отца освободили, и потом он молчал месяцами – пока не пришла война.
– Товарищ лейтенант, что с вами? – спросил я Старовольского.
– Ничего, Алексей, все в порядке, – тихо ответил мне он и снова ушел в себя. Думал, должно быть, о прорыве на мыс Херсонес.
И все-таки, как сложно было всё. Нестеренко тогда, правоверного, хоть и честного Нестеренко, без пяти минут коммуниста, прорабатывали за великорусский шовинизм. Впрочем, не арестовали, и ладно. А в Москве – кто бы мог подумать, в Москве – в государственном, в советском театре шла постановка по пьесе их земляка, про это вот самое, что было при гетмане и при Петлюре, и люди шептались: о нас. И пели в компаниях полузабытые песни, вспоминая с тоской что было и то, что уже не вернуть. Но все же на что-то надеялись. «Украинцы» бесились, ездили к усатому, что-то ему доказывали, а он хихикал над ними и отсылал их прочь. А потом опять арестовывали и снова кого-то стреляли.
Трудно быть киевлянином, когда вселенная перевернулась и в ней торжествует подлость.
* * *
– Подразделение, стройся, – произнес Старовольский шепотом, когда я разбудил Меликяна с Мухиным, и они, натыкаясь в темноте на стены и друг на друга, собрали свой нехитрый скарб.
Услышав команду, Мухин развеселился и пробормотал:
– В три шеренги.
– Отставить пустые разговоры, – все тем же шепотом отрезал лейтенант. – Подтянулись, животы убрали.
– Ага, есть что убирать, – продолжал комментировать Мухин. Старовольский пока не сердился, а тоже проявлял веселость.
– Равняйсь, – вышептывал он нам. – Видим грудь четвертого товарища… На первый-второй рассчитайсь…
– Раз, два, три, четыре, пять, – шептал за всех нас Мухин, – двадцать, тридцать, шестьдесят…
В тон бытовику младший лейтенант объявил:
– Итак, как вам известно, положение наше архихреновое.
– Разрешите вопрос? – поинтересовался Мухин. – «Архи» это как?
– Это так, что хреновее не бывает. А потому необходима строжайшая дисциплина и высочайший боевой дух. Все поняли? Мухин понял, вижу. Он всегда отличается если не первым, то вторым. Меликян тоже.
– Шнобелем он отличается, – уточнил Мухин, – и повышенной волосатостью.
– Аверин… – продолжил лейтенант.
– Первым точно, – вставил Мухин, – вторым надо посмотреть.
– Слушай, урод, ты замолчишь когда-нибудь? – возмутился Меликян. Хоть и шепотом, но несколько громче, чем следовало.
– Давай, давай, выслуживайся. В наряд по кухне не пойдешь.
Я тоже не выдержал и шикнул:
– Да замолчи ты наконец!
Старовольский усмехнулся.
– Пусть выговорится. Есть еще замечания, товарищ красноармеец?
– Замечаний больше нет, товарищ младший лейтенант.
– Тогда заткни свое хайло и не воняй. Так понятно?
– Так понятно, – согласился Мухин.
Старовольский перешел к сути дела. Сказал, что Мухин отправляется в разведку. Задача – пользуясь темнотой, осмотреться снаружи и отыскать свободный от немцев проход. Мухин, не ставя под сомнение задачу как таковую, усомнился в целесообразности своей кандидатуры.
– С хрена ли я, товарищ командир?
– Ты же у нас тут самый боевой. Меликян ранен. Аверин еще…
Мне захотелось обидеться. Мухин же разозлился.
– С Авериным ясно. А вы? Я ведь, лейтенант, человек ненадежный, не первый срок мотаю. Это вы у нас герой. Рыцарь без страха и упрека. И за пистолетик не хватайтесь. А то немцы услышать могут.
Неожиданно для него Старовольский не стал пререкаться.
– Ладно. Красноармеец Мухин, остаетесь за старшего. Потом договорим.
Мухин, не предполагавший, что дело решится так быстро, растерянно пробормотал положенное по уставу «есть». Я попытался встрять. Не потому что сильно хотелось, а потому что сделалось стыдно.
– Товарищ младший лейтенант. Разрешите мне.
– Разговор окончен. Вот, возьми, Алексей. Пусть пока у тебя побудет. А то блестит, демаскирует.
Лейтенант передал мне пилотку со звездочкой и, резко повернувшись, направился к лестнице, выводившей из подвала на первый этаж. Бесшумно ступая, поднялся наверх и протиснулся в дверной проем, примерно на три четверти заваленный обрушившимися кирпичами.
Я присел на перевернутое пустое ведро, служившее мне стулом последние два вечера. Меликян с бесшумным стоном опустился рядом, на кучу строительного мусора, остававшуюся тут с довоенных, а может, и дореволюционных времен. Мухин остался стоять.
Прошло примерно полчаса. Мы молчали. Горло распухло от жажды, про еду давно не думалось. Непонятно было, что происходит наверху. Тишина становилась невыносимой. Мухин не выдержал и, поднявшись по лестнице, осторожно выглянул наружу. И как раз в этот момент раздался страшный шум. Выкрики, приказы, нестройный топот ног. Взревела мотором машина. Грохнуло несколько выстрелов. Мухин скатился вниз.
Мы прождали еще два часа. Старовольский назад не вернулся. Когда забрезжил рассвет и улица вновь оживилась, Мухин угрюмо сказал: