Под покровом небес Боулз Пол
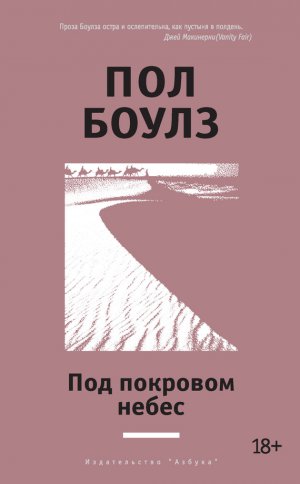
– Да что же мы за лицемеры такие, оба! – воскликнула она. – Ты ведь не хуже меня знаешь, что я не подходила к нему уже несколько часов. Вдруг он уже умер? Он может умереть там совсем один! А мы и знать не будем. Кто удержит его?
Он поймал ее руку, твердо сжал.
– Ты вот что, погоди минутку, а? Ответь мне на вопрос: кто сможет удержать его, даже если мы оба будем сидеть с ним рядом? Кто? – Он выждал паузу. – Если тебе так уж хочется видеть все в самом худшем свете, тогда сделай милость, девочка моя, включи хотя бы логику. Кто сказал, что он собирается умирать? Ты не должна даже в мыслях допускать этого! И вообще, не сходи с ума. – Одновременно с этими словами он слегка встряхнул ее руку, как делают, когда хотят пробудить человека от глубокого сна. – Ну-ка, будь умницей. Все равно теперь тебе до утра к нему не попасть. Так что расслабься. Попытайся хоть чуточку отдохнуть. Ну пожалуйста.
Слушая его уговоры, она внезапно снова разразилась слезами и, в отчаянии обвив его руками, припала к его груди.
– Ах, Таннер! Я так его люблю! – между рыданиями говорила она, прижимаясь к нему все теснее. – Я так люблю его! Люблю!
Залитый светом луны, он улыбался.
А крик Порта длился и длился, пока горячечное сознание рисовало финал: на земле пятна свежей и яркой крови. Кровь на экскрементах. Вот момент истины, высший предел, на фоне которого меркнет даже пустыня, – когда две эти стихии, кровь и экскременты, долго хранимые друг от друга, сливаются. И появляется черная звезда, точка кромешной тьмы на ясности ночного неба. Точка тьмы и врата в покой. Протяни руку, прорви покров небес, ткань которого истончилась, и будет тебе покой.
XXIV
Она отворила дверь. Порт лежал в странной позе, с ногами, плотно обмотанными простыней. Весь его угол комнаты был как стоп-кадр, фотография, внезапно выхваченная из середины бегущего потока изображений. Кит тихо затворила дверь, заперла ее, вновь повернулась в его сторону и медленно пошла к матрасу. Она затаила дыхание, нагнулась и заглянула в ничего не выражающие глаза. Она уже знала, знала прежде, чем, судорожно вытянув руку, коснулась его голой груди, знала даже без того, чтобы с силой толкнуть его недвижимый торс, хотя все же сделала это сразу после. Тут ее руки взметнулись к лицу, и она вскрикнула:
– Нет! – но всего лишь раз, и смолкла.
Долго-долго она стояла неподвижно, вскинув голову и глядя в стену. Ничто внутри ее не шевелилось; она не сознавала ничего ни вне себя, ни внутри. Если бы к двери подошла Зайна, вряд ли Кит услышала бы и стук в дверь. Но никто не приходил. Внизу, в поселке, на рыночной площади расположился недавно прибывший караван; караван готовился к отходу на Атар, нагруженные верблюды, взревывая, вставали и неспешным шагом выходили в оазис; их бородатые черные погонщики молча шли рядом, думая о двадцати днях и ночах пути, который предстояло одолеть, прежде чем над скалами замаячат стены Атара. А всего в нескольких сотнях футов от них капитан Бруссар в своей спальне за утро прочел целый рассказ, напечатанный во французском журнале, который ему доставили только что вместе с почтой, привезенной вчерашним грузовиком. В палате же, однако, ничего не изменилось.
Тем утром, но уже гораздо позже и, скорее всего, просто устав стоять, она начала ходить по комнате, все время по одной и той же крошечной орбите в ее середине – несколько шагов в одну сторону и несколько шагов в другую. Прервал это громкий стук в дверь. Кит остановилась, обернулась к двери. Стук повторился. Раздался голос Таннера, нарочито приглушенный:
– Кит?
Ее руки снова взметнулись прикрыть лицо, и в этой позе она стояла все время, пока он оставался за дверью, стуча в нее сначала тихонько, потом часто и нервно, а под конец принявшись молотить со всей силы. Когда эти звуки окончательно прекратились, она села на свою подстилку, посидела, затем легла, положив голову на подушку, будто собирается спать. Но глаза у нее оставались открытыми и смотрели почти таким же остановившимся взглядом, как и глаза того, кто лежал рядом. То были первые моменты нового существования, странного бытия, уже приоткрывшегося ей проблеском безвременья, в которое предстояло погрузиться. Так человек, который отчаянно считал секунды, спеша на поезд, а прибыв на вокзал, увидел его хвост (при этом следующего поезда не будет очень долго, и он это знает), чувствует такой же внезапный перехлест времени, у него возникает это же мимолетное чувство, будто он с головой тонет в некоей стихии, сделавшейся вдруг слишком вязкой и тягуче-изобильной, чтобы ее использовать, и от этого в его глазах она становится такой бессмысленной, что вроде как бы даже исчезает. Проходила минута за минутой, но никакого желания двигаться не возникало; мыслей тоже не было даже близко. Куда-то начисто забылись все их разговоры, во время которых они частенько обсуждали идею смерти, – возможно, потому, что идея смерти не имеет ничего общего со смертью реальной. Не вспоминалось ей и то, как их обоих вдруг однажды осенило: ведь человек может быть каким угодно, только не мертвым, потому что эти два слова, поставленные рядом, вступают в противоречие. Забылась и ее же замечательная придумка насчет того, что если Порт умрет раньше ее, то она откажется в это верить, она будет считать, что он опять каким-то образом ушел в себя, на сей раз навсегда и просто больше никогда о ней не вспомнит, так что в реальности это не он, а она перестанет существовать – по крайней мере отчасти, но в весьма значительной степени. Это как раз она войдет в царство смерти, тогда как он по-прежнему будет жить в виде боли у нее внутри, этакой дверцы, оставшейся неоткрытой, в виде непоправимо упущенной возможности. Совершенно забыла она и тот августовский день, который был всего-то около года с небольшим назад: они сидели тогда одни на травке под кленами и смотрели, как несется к ним гроза, прочесывая речную долину; заговорили в том числе и о смерти. Порт сказал тогда: «Смерть, конечно, придет, но то, что мы не знаем, когда именно, мне кажется, как-то умаляет значение конечности жизни. Сама по себе неизбежность – это ничего; жуткая точность ее осуществления – вот что главным образом нас ужасает. Незнание точного срока дает нам возможность смотреть на жизнь как на неисчерпаемый колодец. Хотя все в жизни случается лишь некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень небольшое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь какой-нибудь вечер в твоем детстве, вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него? Ну четыре, ну пять раз. Может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь восход полной луны? Ну раз двадцать. А все равно жизнь кажется бесконечной». В тот день она его вообще не слушала, потому что эта тема угнетала ее и расстраивала; теперь же, если бы она о том разговоре и вспомнила, он показался бы ей не имеющим отношения к делу. Теперь думать о смерти она была не способна, но, поскольку смерть была прямо здесь, она не могла думать ни о чем вообще.
Впрочем, где-то там, в глубине, глубже этого пустого провала, которым было ее сознание, в самой смутной и внутренней глубине себя некую мысль она уже, должно быть, вынашивала, потому что, когда Таннер под вечер снова пришел и забарабанил в дверь, она встала и, положив руку на ручку двери, заговорила:
– Это кто? Это ты, Таннер?
– Господи боже мой, где ты была утром? – крикнул он.
– Давай увидимся вечером. Я буду в восемь в том сквере, – сказала она, понизив голос так, что ее было еле слышно.
– Как он? Нормально?
– Да-да. Он по-прежнему.
– Хорошо. Увидимся в восемь. – Ушел.
Она бросила взгляд на часы: четверть пятого. Подойдя к своему дорожному несессеру, принялась выкидывать из него содержимое: одна за другой все щеточки, склянки, тюбики и маникюрные инструменты полетели на пол. Далее с видом крайней сосредоточенности она опустошила и другие свои сумки и чемоданы, выхватывая оттуда и отсюда то кофточку, то какую-нибудь штучку и аккуратно укладывая отобранное в небольшой чемодан. Иногда замирала и прислушивалась, но единственным звуком, который был слышен, оказывалось ее собственное размеренное дыхание. Послушав, каждый раз на вид приободрялась и с новой энергией принималась за свои решительные действия. В кармашки по бокам чемоданчика положила свой паспорт, банковские документы и остававшиеся у нее деньги. Потом перешла к багажу Порта и некоторое время рылась в его одежде, после чего ее чемоданчик обогатился еще множеством тысячефранковых купюр, которыми она забила в нем все щели и пустоты.
Укладывание чемодана заняло почти час. Покончив с этим, она закрыла его, скрутила цифирки на кодовом замочке и пошла к двери. Прежде чем повернуть ключ, секунду колебалась. Открыв дверь, с ключом и чемоданом в руке шагнула во двор и заперла дверь за собой. Прошла на кухню, там обнаружила мальчишку, ведавшего лампами; он сидел в углу и курил.
– Можешь выполнить одну мою просьбу? – сказала она.
С улыбкой он вскочил на ноги. Вручив ему чемодан, она велела отнести его в лавку Дауда Зозефа и там оставить, сказав, что это от американской леди.
Вернувшись в комнату, она опять заперла за собой дверь и подошла к окошку. Одним движением сорвала простыню, прикрывавшую проем. Ближайшая стена уже порозовела: солнце опускалось все ниже, розовой стала вся комната. Все время, пока она, собираясь, ходила туда-сюда, ни разу она не взглянула в тот угол. Теперь приблизилась и, встав на колени, заглянула Порту в лицо – так, будто никогда его прежде не видела. Едва касаясь кожи, с бесконечной нежностью провела рукой вдоль лба. Нагнувшись еще ниже, прижала губы к гладкому челу. Не разгибалась довольно долго. Комната стала красной. Тихонько приложилась щекой к подушке и погладила его по волосам. Слез не было; то было молчаливое прощанье. Открыть глаза ее заставило странно громкое жужжанье совсем рядом. Как зачарованная, она смотрела на двух мух, которые совершали свое яростное и краткое совокупление на его нижней губе.
Затем она встала, надела пальто, взяла бурнус, который оставил ей Таннер, и, не оборачиваясь, вышла за дверь. Дверь за собою заперла, ключ положила в сумочку. У больших ворот часовой дернулся, будто хочет преградить ей дорогу. Она с ним поздоровалась и протиснулась мимо. Не успев отойти далеко, услышала, как он вызывает напарника из будки при воротах. Она дышала глубоко и шла себе вперед, вперед и вниз, в поселок. Солнце село; земля была как уголь в печке, но последний и единственный, который быстро остывает, становится черным. Где-то в середине оазиса бил барабан. Наверное, позже в садах будут танцы. Начинается сезон празднеств. Быстро и ни разу не оглянувшись, она сошла с холма и направилась прямо в лавку Дауда Зозефа.
Вошла. В сгущающихся сумерках Дауд Зозеф стоял за прилавком. Наклонился к ней, пожал руку.
– Добрый вечер, мадам.
– Добрый вечер.
– Ваш чемодан у меня. Хотите, пошлю мальчика, он принесет?
– Нет-нет, – сказала она. – Ну, то есть, не сейчас. Я к вам зашла поговорить.
Бросила боязливый взгляд на дверной проем сзади; хозяин не заметил.
– Я очень рад, – сказал он. – Один момент. Я принесу вам стул, мадам.
Достав откуда-то из-за прилавка, поставил рядом с ней небольшой складной стульчик.
– Спасибо, – сказала она, но осталась стоять. – Я хотела спросить вас, как здесь насчет машин, чтобы из Сба уехать.
– А, которые ходят в Эль-Гаа. Так ведь… регулярного сообщения у нас нет. Вот вчера ночью грузовик пришел. А сегодня под вечер уехал. У нас никто даже не знает, когда придет следующий. Но капитана Бруссара уведомляют – это обязательно, хотя бы за день. Однако про это лучше спросить его самого.
– Капитана Бруссара… Ага, понятно.
– А что ваш муж? Ему лучше? Молоко пригодилось?
– Молоко… А, да, оно ему понравилось, – медленно проговорила она, немного удивленная тем, как естественно у нее вышли эти слова.
– Надеюсь, он скоро поправится.
– Да он уже поправился.
– Ah, hamdoul’lah![116]
– Да. – И, словно заходя с другого боку, заговорила снова: – Мсье Зозеф, я хочу попросить вас об одолжении.
– Мадам, я выполню любую вашу просьбу, – произнес он галантно. В сгущающемся мраке ей почудилось, что при этом он поклонился.
– О большом одолжении, – предупредила она.
Дауд Зозеф, думая, что она, может быть, хочет занять у него денег, принялся греметь какими-то побрякушками, лежавшими на прилавке.
– Но что же это мы в темноте-то разговариваем! – сказал он. – Подождите-ка, зажгу лампу.
– Нет! Пожалуйста! – вырвалось у Кит.
– Но мы друг друга не видим! – протестующе воскликнул он.
– Я знаю, – накрыв его руку ладонью, проговорила она, – но, пожалуйста, не надо лампы. Я лучше прямо так вас попрошу. Можно мне провести эту ночь с вами и вашей женой?
Дауд Зозеф оказался в полной растерянности, но удивление быстро уступило место облегчению.
– Сегодня? – спросил он.
– Да.
Последовала короткая пауза.
– Вы понимаете, мадам, с одной стороны, для нас, конечно, это честь – приютить вас у себя дома. Но вам же будет неудобно! Вы таки сами знаете: дом бедняков все же немножко не отель и даже не пост-милитэр наших глубокоуважаемых господ французов…
– Но коли я вас попросила, – укоризненно перебила его она, – значит мне это все равно. Вы думаете, мне это важно? Все время, что я жила здесь, в Сба, я спала на полу.
– Ну, в моем доме вам этого делать не придется, – решительно заверил ее Дауд Зозеф.
– Да я бы с радостью и на полу выспалась. Да где угодно. Это не важно!
– О нет! Нет, мадам! Только не на полу! Quand-mme![117] – всерьез уперся владелец лавки. Он чиркнул спичкой, чтобы зажечь лампу, но Кит помешала ему, снова коснувшись его локтя.
– Ecoutez, monsieur,[118] – проговорила она, понизив голос до заговорщицкого шепота, – меня ищет муж, и я не хочу, чтобы он меня нашел. Мы с ним немножко повздорили. Я не хочу его сегодня видеть. Дело обычное. Думаю, ваша жена поймет.
– Ну конечно! Конечно! – расплылся в улыбке Дауд Зозеф.
Все еще усмехаясь, он затворил уличную дверь, запер ее на засов и, чиркнув спичкой, поднял ее высоко в воздух. Так, всю дорогу зажигая спички, он и провел ее через маленькую подсобную комнатушку и внутренний дворик. На небе звезды, звезды… Перед дверью помедлил.
– Вот, можете спать здесь. – Он открыл дверь и ступил внутрь.
Снова зажглась спичка. Кит увидела крошечную каморку, в ней беспорядок, у стены кровать с провисшей железной сеткой, прикрытой матрасом, через дыры изрыгающим стружечную набивку.
– Но, я надеюсь, это не ваша комната? – осмелилась она уточнить, когда спичка погасла.
– Да ну, что вы! У нас с женой есть другая кровать и другая комната, – ответил он с ноткой гордости в голосе. – А здесь спит мой брат, когда приезжает из Коломб-Бешара. Раз в году он приезжает и проводит с нами месяц, иногда побольше. Погодите-ка. Пойду принесу лампу.
Он вышел, и она услышала, как он с кем-то говорит в другой комнате. Скоро он вернулся с керосиновой лампой и небольшим железным ведерком воды.
При свете комната оказалась еще более жалкой. У Кит появилось чувство, что пол здесь не подметали никогда – с тех самых пор, как строители вмазали в стену последний саманный блок: повсюду грязь, крошки глины со стен и пыль, тонким порошком день и ночь выпадающая из воздуха… Кит подняла взгляд на хозяина и улыбнулась.
– Моя жена спрашивает, едите ли вы лапшу, – спросил Дауд Зозеф.
– Да, конечно, – ответила Кит, пытаясь увидеть себя в облупленном зеркале над умывальником. Но так ничего и не увидела.
– Bien.[119] Да, вы знаете, моя жена не говорит по-французски.
– Правда? Ну, придется вам побыть моим переводчиком.
Послышался глухой стук: какой-то, видимо, покупатель хочет в лавку. Дауд Зозеф, извинившись, побежал через двор туда. Кит затворила дверь, поискала ключ, его не оказалось, постояла, подождала. Солдатам крепостной охраны ничего не стоило проследить за ней. Вот только вряд ли кому-нибудь из них в тот момент это пришло в голову. Сев на убогую кровать, она уставилась в стену напротив. Над лампой поднимался столб вонючего дыма.
Ужин в доме Дауда Зозефа был плох невероятно. Она заставляла себя глотать какие-то непонятные глыбы теста, зажаренного в жиру, и, видимо, довольно давно: на стол это кушанье подали холодным; куски хрящеватого мяса и непропеченного хлеба были тоже не очень аппетитны; зато робкие комплименты, которые отпускала Кит, хозяева принимали очень тепло и потчевали с новой силой. Несколько раз на протяжении ужина она взглянула на часы. Таннер уже, должно быть, ждет ее в том сквере, а когда уйдет, направится, конечно, в крепость. Тут-то переполох и начнется. Завтра посетители лавки непременно донесут его отголоски до Дауда Зозефа.
Отчаянно жестикулируя, мадам Зозеф требовала, чтобы гостья ела побольше и не стеснялась; взгляд ярких глаз хозяйки был неотрывно устремлен в тарелку Кит. Кит посмотрела на нее, улыбнулась.
– Скажите жене, что я немного расстроена, поэтому у меня нет аппетита, – сказала она Дауду Зозефу, – но я не откажусь взять что-нибудь из еды к себе в комнату, чтобы поесть попозже. Ну, например, пару кусочков хлеба…
– Ну разумеется! Конечно, – сказал он.
Когда Кит была уже в отведенной ей комнате, мадам Зозеф принесла ей туда тарелку, полную ломтиков хлеба. Кит поблагодарила ее и пожелала хозяйке доброй ночи, но уходить та явно не собиралась: несомненно, ей было интересно, что у гостьи в чемоданчике. Кит решила ни в коем слуае не открывать его перед ней: тысячефранковые банкноты сразу прославят ее на весь поселок. Она притворилась, что не понимает, похлопала по чемодану, покивала. Поулыбалась, потом обратила взгляд опять к тарелке с хлебом и еще раз поблагодарила. Но взгляд мадам Зозеф так и вцепился в чемоданчик. Тут во дворе раздалось кудахтанье и хлопанье крыльев. В дверях появился хозяин с жирной курицей, которую он поставил на середину пола.
– Это от насекомых, – показывая на нее, пояснил он.
– Насекомых? – как эхо, повторила Кит.
– Ну да. Если к вам сюда сунется скорпион, она его – хвать! – и съест.
– А-а! – Кит изобразила зевок.
– Я понимаю, мадам нервничает. Думаю, с такой охраной она может быть спокойна.
– Знаете, я так сегодня устала! – сказала Кит. – Спать хочу до того, что ничего уже мне не страшно.
Они попрощались – торжественно, с рукопожатиями. Дауд Зозеф вытолкал жену из комнаты, вышел сам и затворил дверь. Курица покопалась с минуту в пыли, потом взобралась на перекладину умывальника и там затихла. Кит сидела на кровати, глядя на колеблющееся пламя лампы; комната была вся в дыму. Тревоги не чувствовала, только непреодолимое желание поскорее выбраться, покончить со всем этим абсурдом, выкинуть его из головы. Встала, постояла, приложив ухо к двери. Послышались голоса, потом вдалеке упало что-то тяжелое. Она надела пальто, набрала в карманы кусочков хлеба и, снова усевшись, стала ждать.
Время от времени она глубоко вздыхала. Один раз встала прикрутить фитиль. Когда стрелки часов показали десять, снова подошла к двери, послушала. Приотворила; двор весь сиял, залитый лунным светом. Вернувшись в комнату, взяла бурнус Таннера и зашвырнула его под кровать. От этого поднялась такая пылища, что она чуть не расчихалась. Взяла сумочку, чемодан и вышла, аккуратно притворив за собой дверь. Пробираясь через подсобку лавки, обо что-то споткнулась и чуть не потеряла равновесие. Двигаясь медленнее, пошла дальше – в торговое помещение, там вдоль прилавка, слегка придерживаясь за него пальцами левой руки. Дверь была заперта на простой засов, который ей не сразу удалось сдвинуть; когда это получилось, он отозвался тяжелым металлическим лязгом. Она быстро распахнула дверь и оказалась на улице.
Луна светила ярко до свирепости: идти под ней по белой улице было все равно что под солнцем. «Меня увидит тут кто угодно!» Но видеть ее было некому. Она шла прямо к окраине поселка – туда, где ограды самых дальних двориков тонули в буйной зелени оазиса. Где-то еще ниже, укрытые кронами пальм, образующими сплошную черную завесу, все еще рокотали барабаны. Звук шел от негритянской деревни, расположенной в середине оазиса; это был ксар – напоминающее гигантский термитник нагромождение слепленных вместе глинобитных жилищ с подсобными помещениями и двориками.
Она свернула в длинную прямую щель между высокими стенами. За ними шелестели пальмы и журчала вода. Иногда попадались притулившиеся к стене белые поленницы, сложенные из сухих пальмовых веток; каждый раз она сперва принимала поленницу за человека, сидящего у стены. Щель между стенами свернула в ту сторону, откуда слышались барабаны, и вывела на площадь, всю изрезанную узенькими канальцами и акведуками, по которым вода текла парадоксальным образом во всех направлениях, – это было похоже на большую и очень сложную игрушечную железную дорогу. Несколько тропок уводили оттуда в ненаселенную часть оазиса. Она выбрала самую узкую в надежде, что такая скорее обогнет ксар, чем приведет к его входу, и пошла по ней дальше между стенами. Тропка сворачивала то туда, то сюда.
Рокот барабанов стал громче; теперь слышались и голоса, повторяющие ритмичный рефрен, каждый раз один и тот же. Голоса были мужские; а как много-то их! Иногда перед тем, как в очередной раз нырнуть в густую тень, она останавливалась и с загадочной улыбкой на устах прислушивалась.
Чемодан в ее руках становился все тяжелее. Все чаще и чаще она перекладывала его из руки в руку. Но останавливаться и отдыхать не хотела. Каждую секунду она готова была развернуться и отправиться назад, на поиски другого проулка – в том случае, если этот вдруг выведет ее с затерянных между стенами задворков на середину ксара. Музыка теперь слышалась где-то поблизости, но с какой стороны она доносится, понять было трудно из-за лабиринта стен и деревьев за ними. Иногда она звучала почти рядом, словно поющие находятся сразу за стеной – ну или за ближайшим садом, в паре сотен футов, – а порой слышалась издали, и ее почти заглушал сухой шорох ветра в пальмовой листве.
Доносящееся со всех сторон сладостное журчанье ручейков оказало на нее подсознательное воздействие: внезапно ей очень захотелось пить. Прохладный лунный свет и тихо колышущиеся тени, сквозь которые она шла, в значительной мере скрадывали это желание, но с некоторых пор ей стало казаться, что удовлетворить его полностью она сможет, только если вода будет окружать ее со всех сторон. Вдруг в стене, вдоль которой бежала ее тропинка, она увидела пролом, за проломом был сад – грациозные пальмы, вздымающие свои кроны высоко вверх по сторонам большого пруда. Кит стояла, глядя на гладкую темную поверхность воды; она уже не помнила, было ли у нее желание искупаться все время или захотелось в тот самый момент, когда она увидела столько воды сразу. Как бы то ни было, пруд-то – вот он. Через дыру в крошащейся стене она влезла в сад и поставила чемодан рядом с кучей земли, оказавшейся на пути. Попав в сад, она, ни на секунду не задумавшись, принялась стаскивать с себя одежду. Слегка удивляло ее только то, что она сначала делает и лишь потом, уже сделав что-то, осознает сделанное. Каждое ее движение казалось ей воплощением легкости и изящества. «Осторожнее! – говорила ей какая-то часть ее сознания. – Не наделай глупостей». Но это была та же часть сознания, которая вечно что-то там бубнила, когда у нее начинался очередной алкогольный срыв. Куда там! В такие моменты ей всегда хоть кол на голове теши. «Да ладно! – мысленно отвечала она себе самой. – Только-только впереди замаячило счастье, и я должна сдерживаться? Еще чего!» Скинув туфли, она стояла голая среди пальм, чувствуя в себе зарождение какой-то новой, незнакомой силы. Оглядываясь в тихом ночном саду, вдруг заметила, что впервые с самого детства видит предметы ясно. Наконец-то она окунулась в жизнь, всецело вошла в нее и больше не наблюдает за ней в окошко. Достоинство и гордость, ощущаемые теми, кто сумел слиться с жизнью, исполниться ее мощи и великолепия, не были чужды ей, но как давно, сколько лет уже она не испытывала этих чувств! Выйдя на лунный свет, она ступила в воду и побрела к середине пруда. Его дно было глинистым и скользким; вода на середине доходила до пояса. Погрузившись в нее полностью, она подумала: «Все. С истериками покончено». Вся ее зажатость, самовлюбленность, страхи – это уйдет, этого больше не будет в ее жизни.
Она купалась долго-долго; обливающая кожу прохладная вода будила в ней желание петь. Каждый раз, когда она нагибалась, чтобы зачерпнуть воды сомкнутыми пригоршнями, у нее вырывалось что-то вроде песни без слов. Вдруг остановилась, прислушалась. Барабанов больше слышно не было, лишь плеск водяных капель, падающих с ее тела в пруд. Она молча закончила мыться, доступ к вершинам духа куда-то исчез, но ощущение полноты жизни оставалось при ней. «Нет, это останется со мной», – пробормотала она вслух, возвращаясь к берегу. Пальто она использовала в качестве полотенца, но, пока вытиралась, начала уже ежиться и подпрыгивать на месте от холода. Одеваясь, тихонько, себе под нос что-то насвистывала. Временами переставала, секунду-другую прислушивалась, не раздадутся ли голоса, а может, снова забьют барабаны? Поднялся ветерок, но не внизу, а где-то над головой, где вершины деревьев, да еще неподалеку журчала вода. Больше ни звука. Вдруг ее охватил страх, не произошло ли чего-то за ее спиной, не сыграло ли с ней злую шутку время: быть может, она купалась несколько часов, а не считаные минуты, как ей казалось. Празднество в ксаре подошло к концу, народ разошелся, а она даже не заметила, когда стих рокот барабанов! Абсурд, конечно, но иногда такие вещи случаются.
Она нагнулась за часами, которые, раздеваясь, клала на камень. Часов на месте не оказалось, так что сверить время не удалось. Немного поискала, понимая, что теперь уж не найдет: исчезновение часов являлось частью шутки. Легким шагом она вернулась к стене, подхватила с земли чемоданчик и, перебросив пальто через руку, сказала вслух, обращаясь к саду:
– Думаете, мне это важно? Могу и на полу поспать! – После чего вылезла через пролом в стене, не забыв перед этим над собой посмеяться.
И быстро зашагала дальше, заставляя себя думать только о чувстве крепкого и беспримесного удовольствия, которое сумела в себе возродить. Она всегда знала, что оно при ней, просто где-то пряталось, а ведь было время – и какое долгое! – когда она считала, что не иметь его – это естественно и вообще в нормальной жизни его не бывает. Теперь же, снова его заполучив, опять познав простую радость бытия, она обещала себе цепляться за нее отныне что есть силы и ни за что не отпускать. Вынула из кармана пальто кусок хлеба и стала с жадностью есть.
Проход тем временем расширился, стены кончились, вместо них теперь тропинку обступала дикая растительность. Она вышла в уэд, сухое русло, которое в этом месте предстало ей в виде плоской широкой долины, усеянной мелкими песчаными наносами. Там и сям на глаза попадались купы плакучего тамариска, облаком серого дыма распластанные по песку. Не колеблясь, она направилась к ближайшему дереву, поставила чемоданчик на песок. Перистой листвой ветви мели песок со всех сторон от ствола: получался как бы естественный шатер. Кит надела пальто, заползла под ветви и втащила за собой чемодан. И не успела закрыть глаза, как уже спала.
XXV
Стоя в своем саду, лейтенант д’Арманьяк надзирал за тем, как Ахмед с несколькими местными строителями занимается окончательной доделкой высокой внешней стены: ее снабжали короной из вмазанных в глину осколков битого стекла. Жена сто раз просила его добавить этот уровень защиты их жилища, и сто раз он, как правильный колонизатор, это обещал, но не делал; зато теперь, к ее возвращению из Франции, все будет готово, это будет ей еще один приятный сюрприз. Пока все хорошо: ребенок не болеет, мадам д’Арманьяк довольна, а в конце месяца он поедет в столицу, в город Алжир, их встречать. Встретит, и они отправятся отдыхать – проведут несколько счастливых дней в каком-нибудь хорошем отеле у моря (что-то наподобие второго медового месяца), а уж потом только вернутся в Бунуру.
Правда, хорошо дела шли только в его маленьком личном мирке; совсем не так было у капитана Бруссара в Сба, и лейтенанту было его искренне жаль, а уж о том, что все это могло свалиться на него (эк ведь Господь-то уберег!), думал просто с содроганием. Ведь он даже уговаривал этих путешественников остаться в Бунуре; вот уж насчет этого его совесть чиста. О том, что американец болен, он не знал, так что его вины тут нет – в том числе и в том, что тот двинулся дальше и умер на территории Бруссара. Но конечно же, смерть от брюшного тифа – это одно, а исчезновение в пустыне белой женщины – совсем другое, а именно это и стало причиной страшной суматохи. Искать женщину отправились на джипах, но природный рельеф вокруг Сба не способствует успеху таких поисков; кроме того, во всем военном округе имелись только две подобные машины, к тому же приказ прочесывать местность был отдан не сразу: как-никак в крепости оставалось тело умершего американца и разбираться с ним требовалось безотлагательно. Да особо-то искать и не рвались: все были уверены, что ее вот-вот найдут где-нибудь в поселке. Лейтенанту было даже жаль, что он так и не познакомился с этой самой женой. Она, должно быть, забавная: типично американская девица-сорванец. Только американка может поступить столь неслыханным образом: запереть больного мужа в палате и сбежать в пустыню, оставив его умирать в одиночестве. Это, конечно, непростительно, но сама идея… – нет, нельзя сказать, чтобы она его так уж и впрямь ужасала, как она, видимо, ужаснула Бруссара. Но Бруссар – он ведь известный святоша. Вечно его все возмущает, и не подкопаешься: этакий весь противно-безупречный. Девицу он, надо думать, сразу возненавидел, потому что своей привлекательной внешностью она нарушила его душевный покой; такие, как Бруссар, этого не прощают.
Он еще раз пожалел, что не сподобился увидеть американскую дамочку, прежде чем она умудрилась столь успешно исчезнуть с лица земли. По поводу же недавнего возвращения в Бунуру второго американца он испытывал смешанные чувства: с одной стороны, как человек, тот ему понравился, но оказаться вовлеченным в это дело лейтенант опасался: зачем ему такая морока? Так что он истово молил Всевышнего о том, чтобы эта американская жена не объявилась на его территории, особенно теперь, когда она стала притчей во языцех. Кроме того, запросто может оказаться, что она тоже больна… – в общем, как ни любопытно ему было бы на нее посмотреть, но ввиду возможных осложнений по работе и вороха всяких бумаг, которые пришлось бы писать, – нет уж, нет уж, лучше не надо! «Pourvu qu’ils la trouvent l-bas!»[120] – мысленно просил он судьбу.
В калитку постучали. Ахмед распахнул ее, за ней стоял американец: он приходил каждый день в надежде на свежую информацию и каждый день, услышав, что никаких новых известий пока нет, уходил со все более унылым видом. «Я знал, что у того, второго, были нелады с женой, а теперь я, пожалуй, даже знаю, какие именно», – сказал себе лейтенант, обернувшись и увидев несчастное лицо Таннера.
– Bonjour, monsieur,[121] – на ходу напуская на себя веселый вид, поздоровался он с пришедшим. – Новости пока все те же, то есть никаких. Но вечно так продолжаться не может.
Таннер ответил на приветствие и понимающе кивнул, услышав то, что, в общем-то, и ожидалось. Лейтенант дал повисеть положенной в такой ситуации паузе, после чего предложил вместе зайти в дом и, по установившемуся между ними обыкновению, выпить коньяку. За то недолгое время, что Таннер сидел и ждал в Бунуре, эти утренние визиты к лейтенанту стали для него делом привычным и даже обязательным – этаким стимулом, необходимым для поддержания боевого духа. Лейтенант, оптимист по натуре, был легок в общении и говорил простыми словами, будто нарочно приспособленными для понимания иностранца. Приятно было посидеть с ним в великолепно обставленной гостиной, предметы убранства которой, сплавленные воедино действием коньяка, создавали приятный entourage;[122] надо сказать, что только эти регулярные посиделки с лейтенантом и поддерживали Таннера, не давали ему совсем уж погрузиться в бездну отчаяния.
Окликнув Ахмеда, хозяин повел гостя в дом. Они сели лицом друг к другу.
– Еще две недели, и я опять стану семейным человеком, – сказал лейтенант и радостно улыбнулся, главным образом тому, что, пожалуй, у него еще есть время показать американцу девушек народности улед-наиль.
– Очень хорошо, очень хорошо.
Уныния Таннера эта весть не рассеяла. Бедная, бедная мадам д’Арманьяк, думал он. Это же представить невозможно: ей придется провести здесь всю жизнь! Со времени смерти Порта и исчезновения Кит пустыню он возненавидел: справедливо или нет, но вину он возлагал на нее – а кого еще ему было винить в том, что он лишился друзей? Все же пустыня штука настолько мощная, что ее просто нельзя не представить себе в виде живого существа. Одно ее молчание уже наводит на мысль о некоей безмолвно затаившейся, не то чтобы разумной, но сознающей себя силе. (Капитан Бруссар, когда на него однажды вечером накатила болтливость, помнится, сказал ему, что даже французы, с небольшими подразделениями войск углублявшиеся в пустыню, порой доходили до того, что видели там джиннов, хотя и после этого отказывались в них поверить, но это как раз понятно: гордыня-с! Вот и думайте, что это может значить, – помимо того, что бесы, джинны и прочие такие сущности первыми возникают в нашемвоображении, когда нечто непонятное надо представить в виде зримого образа.)
Вошел Ахмед, принес бутылку и бокалы. Какое-то время пили молча. Потом лейтенант вдруг говорит (не столько чтобы что-то сообщить, сколько просто желая развеять молчание):
– Гм, да. Жизнь – удивительная штука. Ничто никогда не происходит так, как этого ожидаешь. Причем ясней всего это начинаешь понимать именно здесь; никакие расчеты, никакие научные выкладки здесь не действуют. За каждым поворотом – неожиданность. Когда ваш друг приехал сюда без паспорта и обвинил в краже беднягу Абделькадера, кто мог подумать, что с ним такое случится, да так скоро! – Потом, решив, что логика его высказывания может быть неверно истолкована, добавил: – Абделькадер, кстати, очень огорчился, услышав о его кончине. Он, знаете ли, не таил на вашего приятеля совершенно никакого зла.
Таннер, казалось, не слушал. Мысль лейтенанта тем временем переключилась на другое.
– Вот скажите мне, – вновь заговорил он голосом, в котором звучало любопытство. – Вам удалось убедить капитана Бруссара в том, что все его подозрения относительно мадам были беспочвенны? Или он до сих пор думает, что женаты они не были? В своем письме ко мне он отзывался о ней очень неблагоприятно. Вы показали ему паспорт мсье Морсби?
– Что? – тревожно вскинулся Таннер, решив, что вот сейчас-то у него и начнутся затруднения с французским. – А, да. Паспорт я ему отдал, чтобы он отослал его в консульство, приложив к отчету. Но в то, что они были женаты, он так и не поверил, потому что миссис Морсби обещала предъявить ему свой, а вместо этого сбежала. Поэтому он считает, что полагать, будто он знает, кто она такая на самом деле, у него нет оснований.
– Но они ведь и правда были мужем и женой, не так ли? – тихо продолжил лейтенант.
– Да-да, конечно, разумеется, – нахмурился Таннер, чувствуя себя в какой-то мере предателем уже из-за того, что такой разговор происходит и он в нем участвует.
– А если бы даже и не были, какая разница?
Лейтенант подлил в бокалы им обоим и, видя, что его гость не расположен развивать эту тему, перешел к другой – в надежде, что она не вызовет ассоциаций, болезненных для чувств его визави. Таннер, однако, и к новой теме отнесся с энтузиазмом ничуть не большим. Где-то на заднем плане сознания он вновь и вновь переживал день похорон с Сба. Смерть Порта явилась единственным действительно прискорбным событием в его жизни. Уже теперь он понял, как много потерял, понял, что Порт и впрямь был его ближайшим другом (как же он не сознавал этого раньше?), но все еще считал, что лишь когда-нибудь, когда удастся полностью смириться с фактом его смерти, он найдет в себе силы исчислить полный размер потери.
Таннер был сентиментален, и, как свойственно людям такого склада, его частенько мучила совесть; теперь она страдала оттого, что он не оказал более решительного сопротивления капитану Бруссару, когда тот настаивал на том, чтобы во время похорон были проведены некоторые религиозные церемонии. В результате приходится жить с ощущением, что струсил: он был уверен, что Порт отнесся бы ко всякой такой чепухе на похоронах с презрением и очень надеялся, что друг проследит, чтобы ничего подобного не происходило. И Таннер – да, конечно, возражал, предупреждая, что Порт не был католиком; да он, собственно, даже и христианином-то не был и поэтому должен быть избавлен от всего этого камланья на своих похоронах. Но капитан Бруссар на это ответил не без горячности: «Мсье, все это ваши голословные утверждения. Мало того: когда он умирал, вас с ним не было. О том, каковы были его последние мысли и чего он в последний момент хотел, вы понятия не имеете. Даже если вы искренне желаете взять на себя такую чудовищную ответственность, утверждая, будто знаете все доподлинно, я вам этого позволить не могу. Сам я, да будет вам известно, католик, а главное, командую здесь я». И Таннер сдался. Так что, вместо того чтобы быть похороненным анонимно и безгласно в пустыне (будь то хамада или эрг, не столь важно), как покойный сам того желал бы, Порт оказался удостоен официальных похорон на маленьком христианском кладбище на задах крепости, и при этом не обошлось без фраз, произносимых по-латыни. На взгляд сентиментального Таннера, все это было грубым надругательством, но действенного способа воспрепятствовать этому он не нашел. И теперь переживал, что оказался слаб и в чем-то даже допустил предательство. Лежа ночью без сна, он все думал, думал, и у него даже закрадывалась мысль: а не вернуться ли в Сба, там выждать момент, ворваться на кладбище да и разломать этот дурацкий крестик, поставленный на могиле. Такого рода жест принес бы ему много удовольствия, но подспудно он понимал, что никогда этого не сделает.
Наоборот, будет вести себя разумно и практично, чтобы выполнить то, что сейчас важнее всего, то есть найти Кит и переправить ее назад в Нью-Йорк. Вначале он вполне серьезно думал, что вся эта история с ее исчезновением есть не что иное как кошмарный розыгрыш, что к концу недели она благополучно появится, как появилась тогда, во время их путешествия на поезде из Орана в Бусиф. Поэтому он решил набраться терпения и просто ждать. Потом, когда назначенный им срок миновал, время шло, а о ней не было ни слуху ни духу, он понял, что будет ждать и дальше – если потребуется, до бесконечности.
Он опустил бокал, поставил его на кофейный столик. И, как бы раздумывая вслух, сказал:
– Я здесь останусь до тех пор, пока миссис Морсби не будет найдена.
Сразу же у него возник вопрос: зачем такое упрямство, почему на возвращении Кит у него свет клином сошелся? Ведь не влюблен же он в эту бедняжку! Все его авансы, все знаки внимания к ней делались сами собой, просто из вежливости (все-таки женщина: пусть ощутит себя востребованной) и из тщеславия (а как иначе? – он мужчина!), то есть по большому счету его действия диктовало стяжательство, желание прибавить к коллекции очередной трофей и больше ничего. Так, это поняли, а дальше? А дальше ему открылось, что если не думать на эту тему специально, то даже эпизод с их близостью куда-то исчезает, мысль за него не цепляется, и Кит по-прежнему предстает ему в том же качестве, что и при первой встрече, когда и она, и Порт, произведя на него глубокое впечатление, сделались в его глазах теми единственными людьми на свете, которых он хотел бы узнать поближе. Когда смотришь на нее таким образом, совесть страдает все-таки меньше; и так ведь раз за разом приходится спрашивать себя, что случилось в тот злополучный день в Сба, почему она отказалась открыть ему дверь палаты и призналась она в своей неверности Порту или нет. От всей души он надеялся, что нет; на эту тему даже думать не хотелось.
– Да-а, – протянул лейтенант д’Арманьяк. – Вам не позавидуешь. В Нью-Йорке вас сразу стали бы спрашивать: «И что это ты сделал там с нашей миссис Морсби?» Вернувшись, вы попали бы в крайне неловкое положение.
Внутренне Таннер содрогнулся. Вернуться он, конечно же, не мог. Знакомые обеих семей наверняка и так уже вовсю друг друга донимают вопросами, потому что оба несчастья уже известны матери Порта, которой он послал две телеграммы с промежутком в три дня: тогда он еще надеялся, что Кит объявится; но это ж ведь… они там, а он здесь. Здесь не надо, по крайней мере, смотреть им в глаза, когда ему скажут: «Ага, значит, ни Порта, ни Кит больше нет!» Такое было бы просто выше его сил – нет, это и представить себе невозможно, а если он просидит в Бунуре достаточно долго, он обязательно дождется, ее найдут, из-под земли достанут!
– Да, положение было бы крайне неловким, – согласился он, помимо собственной воли усмехнувшись.
За одну только смерть Порта и то достаточно трудно было бы отчитаться. Обязательно найдутся те, кто скажет: «Господи боже мой, ты что, не мог запихнуть его в самолет и отправить в нормальную больницу – ну хотя бы в город Алжир? Брюшной тиф не убивает в мгновение ока!» И тут ему придется признать, что он их бросил, поехал куда-то один, да и вообще «не справился» с пустыней. Однако даже это само по себе было бы вполне представимо и не смертельно: как-никак Порт пренебрег прививками – вообще никаких вакцинаций перед отъездом не сделал. Но уехать, бросив Кит неизвестно где, было невозможно ни с какой точки зрения.
– Уж это точно, – покачал головой лейтенант, снова мысленно перебирая возможные осложнения, которые все-таки падут на его голову, если пропавшая американка обнаружится не в самом лучшем виде, где бы ее ни нашли. Ведь доставят-то ее сюда, в Бунуру, поскольку Таннер ждет ее именно здесь. – Но вы должны понимать, что ждете вы ее здесь или не ждете, на поиски это не влияет.
Эти слова, едва лейтенант их произнес, заставили его тут же устыдиться, но было поздно, они уже вылетели.
– Да знаю, знаю, – торопливо согласился Таннер. – Но я все-таки буду ждать.
Тем самым тема была исчерпана, и лейтенант д’Арманьяк этот вопрос больше не поднимал.
Они еще посидели, поговорили. Лейтенант упомянул о возможности как-нибудь вечерком вместе посетить quartier rserv.[123]
– Ну, можно, в принципе, – без энтузиазма кивнул Таннер.
– Вам надо отвлечься. Долго печалиться вредно. Я знаю тут одну девушку, она как раз…
Тут он осекся, вспомнив, что давным-давно убедился на собственном опыте: откровенные предложения такого рода, как правило, не пробуждают в человеке любопытство, а, наоборот, губят всякий интерес. Ни один охотник не захочет, чтобы дичь ему кто-то выбирал и за него выслеживал, даже если без этого ее, скорее всего, ему не добыть.
– Ладно. Хорошо, – безучастно кивал Таннер.
Вскоре он встал и принялся прощаться. Он будет так же приходить и завтра, и через день, и каждое утро, пока в один прекрасный день лейтенант д’Арманьяк не встретит его в дверях, впервые по-настоящему сияя, и не скажет: «Enfin, mon ami![124] Наконец-то хорошие вести!»
Выйдя в сад, Таннер опустил взгляд на голую, запекшуюся землю. По ней бегали огромные рыжие муравьи, иногда останавливаясь, чтобы воинственно помахать в воздухе передними лапками и жвалами. Ахмед затворил за ним калитку, и он уныло побрел обратно в пансион.
Обычно после этого он полдничал в накаленной солнцем маленькой, примыкающей к кухне обеденной зале, а чтобы пища была съедобнее, запивал ее целой бутылкой розового вина. Потом, одуревший от вина и жары, поднимался к себе в номер, раздевался и падал на кровать, чтобы проспать до той поры, пока солнечные лучи не станут более косыми, а окружающий пейзаж не лишится части убийственного сияния, которым блещет здесь в середине дня каждый камень. Теперь можно совершить приятную прогулку по окрестностям: в открыточно-яркую Игерму на холме, в довольно многолюдный Бени-Изген, расположенный ниже по долине, в Таджмут с его многоярусными террасами розовых и голубых строений и, конечно же, в обширную palmeraie,[125] где местные жители понастроили себе похожих на кукольные домики загородных особнячков со стенами из красной глины и крышами из выбеленных солнцем пальмовых листьев. Там постоянно слышится скрип колодезных воротов, а плеск воды, переливающейся по узким акведукам, лживо ласкает слух, противореча жесткой сухости земли и воздуха. Иногда целью его прогулки становился огромный базар в самой Бунуре; там он садился где-нибудь в тени аркады и наблюдал, следя за постепенным совершением какой-нибудь нескончаемой сделки, в ходе которой как покупатель, так и продавец в стремлении сбить цену или, наоборот, ее повысить прибегают ко всем мыслимым приемам актерского мастерства за исключением разве что настоящих слез. Бывали дни, когда он всех этих ничтожных людишек от всей души презирал: они же как ненастоящие – просто гротескные недочеловеки какие-то, как можно их всерьез считать равными прочим обитателям планеты! Это бывало в те дни, когда его приводили в ярость мягкие ручонки маленьких детишек, которые неосознанно хватали его за одежду или натыкались на него в уличной толчее. Поначалу он принимал их за карманников, а потом понял, что они просто пользуются им как опорой, чтобы быстрее продвигаться сквозь толпу, словно он дерево или стена. Это злило его еще больше, он яростно их отталкивал: дети все до единого были золотушные, в большинстве своем лысые, с темными черепами в подсыхающих болячках, обсиженных сплошным слоем мух.
Но бывали и другие дни, когда его состояние не было столь нервным; в такие дни, глядя, как медленно движутся вдоль рядов базара невозмутимые старцы, он говорил себе, что, если, дожив до их возраста, сумеет выступать с видом такого же достоинства, можно будет смело говорить себе, что жизнь прожита правильно. Потому что на их лицах естественным образом отражалось внутреннее благополучие и удовлетворенность. Не особенно об этом задумываясь, он постепенно пришел к выводу, что прожить жизнь так, как ее прожили они, пожалуй, стоило.
Вечера он просиживал в фойе пансиона, играя в шахматы с Абделькадером, противником, как оказалось, хотя и медлительным, но вовсе не пустячным. В результате этих ежевечерних посиделок они с Абделькадером сделались закадычными приятелями. Когда гостиничная прислуга выключала в заведении все фонари и лампы, кроме той, что горела в уголке, где они сидели за доской, и они оставались последними, кто еще не спит во всем доме, они иногда попивали вместе перно, после чего Абделькадер, шкодливо улыбаясь, собственноручно мыл и убирал бокалы: совсем ни к чему людям знать, что и он способен иногда употребить спиртное. Таннер поднимался к себе в номер, ложился и забывался тяжелым сном. А проснувшись, думал: «Может, сегодня…» – и к восьми уже выходил на крышу в трусах позагорать; туда же каждый день ему приносили завтрак, там он пил кофе и штудировал французские глаголы. Потом жажда новостей становилась нестерпимой – значит, пора идти наводить справки.
Случилось неизбежное: совершив бесчисленное множество поездок из Мессада во всех направлениях, Лайлы вновь наведались в Бунуру. А чуть опередив их, на старом военном грузовике прибыла группа французов, которых тоже разместили в пансионе. Таннер как раз спустился к ланчу, когда до его слуха донесся знакомый рев «мерседеса». Поморщился: какое занудство – терпеть тут еще и присутствие этой парочки! Он совершенно не был расположен через силу кланяться и улыбаться. Дальше шапочного знакомства его отношения с Лайлами так и не пошли – отчасти потому, что они уехали из Мессада всего через два дня после того, как привезли туда его, а отчасти по причине отсутствия у него какого бы то ни было желания, чтобы эти отношения развивались. Миссис Лайл – глупая, жирная, болтливая тетка, а Эрик – великовозрастный балованный маменькин сынок; таково было его к ним отношение, и он не собирался его менять. О причастности Эрика к истории с паспортами Таннер не догадывался: полагал, что они были украдены из отеля в Айн-Крорфе сразу оба, наверняка каким-нибудь местным со связями в уголовном мире или непосредственно с легионерами из Мессада.
Тут в холле раздался приглушенный голос Эрика:
– Гляди-ка, мамочка, еще не хватало. Тут до сих пор валандается этот обалдуй Таннер!
По всей видимости, шустрый юнец успел уже пробежать глазами список постояльцев, вывешенный над стойкой регистратуры. И тут же на него накинулась мать:
– Эрик! Ты что, дурак? Молчи! – послышался ее театральный шепот.
Таннер допил кофе и через боковую дверь вышел на удушающую жару, надеясь пробраться к себе в номер незамеченным, пока они сидят за ланчем. Маневр удался. Но посреди сиесты в номер постучали. Проснуться получилось не сразу. Открыл дверь, за ней хозяин пансиона с извиняющейся улыбкой на лице.
– Вам было бы не очень сложно переехать в другой номер? – спросил Абделькадер.
Таннер поинтересовался, зачем это.
– Дело в том, что у меня сейчас только две свободные комнаты остались – одна слева от вашей, а другая справа. А тут приехала английская леди с сыном и хочет, чтобы они жили в смежных комнатах. Говорит, что иначе ей боязно.
Портрет миссис Лайл, нарисованный Абделькадером, как-то не вязался с представлением о ней Таннера.
– Ну ладно, – проворчал он. – Что одна комната, что другая… Присылате боев, пусть переносят вещи.
Абделькадер благодарно потрепал его по плечу. Пришли бои, отперли дверь между его комнатой и той, что рядом, начали перетаскивать чемоданы. Посередине процесса в освобождаемую комнату вошел Эрик. Увидев Таннера, встал как вкопанный.
– Ага! – воскликнул он. – Надо же! Кто бы мог подумать, старик! По моим расчетам, вам пора бы уже быть где-нибудь в Тимбукту.
– А, привет, Лайл, – сказал Таннер.
Оказавшись с Эриком лицом к лицу, он обнаружил, что едва может заставить себя смотреть на него, а не то чтобы коснуться его руки. Он даже сам не ожидал, что юнец будет ему так противен.
– Вы уж простите этот глупый мамочкин каприз. Она просто очень устала с дороги. Ехать сюда из Мессада – это что-то жуткое, мама все нервы себе измотала.
– О, сочувствую.
– Так что вы уж не сердитесь, что мы вас этаким манером шуганули.
– Да ничего, ничего, – проговорил Таннер, придя в ярость от такой формулировки. – Когда уедете, переберусь обратно.
– А, конечно. А о супругах Морсби что-нибудь слышно?
Таннер давно заметил, что Эрик, когда с кем-нибудь разговаривает, если уж смотрит собеседнику в глаза, то взглядом настолько цепким и пристальным, что кажется, будто он сверлит им тебе мозг, пытаясь доискаться там истинной подоплеки сказанного, – мол, что мне твои слова? слова это пустой звук! В этот раз Таннеру показалось, что парень приглядывается к нему со вниманием еще и большим, чем обычно.
– Да, – через силу выговорил Таннер. – С ними все в порядке. Извините. Пойду, пожалуй, впаду опять в дрему, так не ко времени прерванную.
Он вышел в межкомнатную дверь и оказался в соседнем номере. Когда бой внес туда последний из чемоданов с пожитками, Таннер запер дверь и лег на кровать, но заснуть не получалось.
– Ну и мразь, господи прости! – проговорил он вслух и добавил, злясь на себя за то, что поддался: – Какого черта они о себе воображают?
Вся надежда была на то, что тянуть из него вести о Порте и Кит клещами Лайлы не будут, иначе придется им что-то рассказывать, а этого ему очень не хотелось. Оповещать Лайлов о трагедии, а тем более искать их сочувствия Таннер не собирался, надеясь справиться своими силами: принимать от них соболезования ему было бы нестерпимо.
В тот же день ближе к вечеру он шел через фойе. Там в сумеречном, чуть не подземном свете сидели Лайлы, звякали чашками. Миссис Лайл повсюду разложила свои старые фотоработы, некоторые даже прислонила к жестким кожаным подушкам вдоль спинки дивана: Абделькадеру предлагалось какую-нибудь выбрать, чтобы повесить рядом со старинным ружьем, украшающим стену. Заметила, что в дверях нерешительно мнется Таннер, и встала его поприветствовать.
– Мистер Таннер! Как я рада! Вот уж не ожидала вас увидеть! Вот вы уехали из Мессада, а я потом все думала: как же вам повезло! Или как умно вы поступили – не знаю уж. Когда мы вернулись туда, покончив со всеми поездками, там оказалось совершенно невозможно находиться: зверский климат! Просто жуть какая-то! И конечно, тут же разыгралась моя малярия, свалила в постель. Я думала, мы никогда оттуда не выберемся. Да еще Эрик с его дурацкими выходками.
– Рад снова вас видеть, – сказал Таннер. Он думал, что окончательно с ней распрощался в Мессаде, и теперь отчаянно изыскивал в себе последние остатки привитой воспитанием вежливости.
– Завтра мы поедем смотреть развалины. Они очень древние, остались еще от гарамантов. Вы обязательно должны поехать с нами. Это невероятно интересно!
– Я очень благодарен вам, миссис Лайл…
– Давайте к нам, будем пить чай! – вскричала она, хватая его за рукав.
Еле от нее отбившись, он направился в пальмовую рощу и принялся бродить там под деревьями, наматывая милю за милей вдоль бесконечных глинобитных стен и все более проникаясь ощущением, что этак, пожалуй, он из Бунуры никогда не выберется. По непонятной причине после того, как на горизонте снова появились Лайлы, ощущение возможности того, что Кит найдется, сделалось еще более призрачным, чем прежде. На закате повернул назад и до пансиона добрался уже в темноте. У себя под дверью обнаружил телеграмму, текст которой был написан почему-то от руки фиолетовыми чернилами и таким почерком, что поди еще разбери. Телеграмма была за подписью американского консула в Дакаре и пришла в ответ на множество запросов: «ИНФОРМАЦИЕЙ О КЕТРАЙН МОРСБИ НЕ РАСПОЛАГАЕМ ЧТО-ТО УЗНАЕМ СООБЩИМ». Он бросил листок в мусорную корзину и сел на штабель чемоданов Кит. Некоторые из них были из багажа Порта; теперь все они принадлежали Кит, но хранились в его комнате, ждали.
«Сколько же так может продолжаться?» – спрашивал себя Таннер. Он задыхался, словно рыба, вынутая из воды; бездействие сказывалось на нервах. Нет, ну, с одной стороны, конечно, правильно – сидеть тут, ждать, когда Кит объявится, где-нибудь вынырнет из этой чертовой Сахары, – но вдруг этого не произойдет никогда? Вдруг (нельзя ведь сбрасывать со счетов и такую возможность) ее вообще уже нет в живых? Должен быть какой-то предел ожиданию, окончательная дата, после которой ему придется отсюда уехать. И что тогда? А тогда (он это видел чуть ли не воочию) ему придется вновь войти в квартиру Хьюберта Дэвида на Восточной пятьдесят пятой стрит, где когда-то он впервые встретил Порта и Кит. Там будут все их общие знакомые; некоторые станут шумно сопереживать, некоторые возмущаться; кто-то будет молча, с понимающим и презрительным видом поглядывать, вслух ничего не говоря, но много чего по сему поводу думая; ну а для кого-то все происшедшее будет этаким героико-романтическим эпизодом, трагичным, но, в общем-то, проходным. Нет, никого из них он видеть не желает. Чем дольше он здесь проторчит, тем более отдаленным сделается случившееся и тем менее острым и определенным будет их осуждение, направленное лично на него, это уж точно.
В тот вечер шахматы радовали его куда меньше обычного. Абделькадер заметил его рассеянность и внезапно предложил прекратить игру. Обрадовавшись возможности лечь спать пораньше, Таннер поймал себя на том, что думает о новой комнате и в особенности о качествах новой кровати, надеясь, что она не преподнесет ему неприятных неожиданностей. Попрощавшись с Абделькадером до завтра, он медленно пошел вверх по лестнице в полной уверенности, что Бунуру придется лицезреть еще и в зимнем ее обличье. Ничего, жизнь здесь дешевая, его финансы выдержат.
Первое, что он заметил, войдя в номер, это открытую межкомнатную дверь. В обоих номерах горел свет, вдобавок в комнате было что-то ярко светящееся, маленькое и мельтешащее. Маленьким и ярким оказался фонарик в руке Эрика Лайла, стоящего с другой стороны кровати. На секунду оба замерли. Потом Эрик сказал, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно:
– Да? Кто это?
Таннер затворил за собой дверь и двинулся к кровати; Эрик отступил к стене. Направил фонарик в лицо Таннеру.
– Кто… Только не говорите мне, что я ошибся номером! – с вымученным смешком проговорил Эрик; как бы то ни было, звук собственного голоса, похоже, придал ему храбрости. – По вашему лицу вижу, что так и есть! Какой ужас! А я только что зашел из коридора. То-то я смотрю: тут все мне как-то странно. – (Таннер молчал.) – Должно быть, я вошел сюда машинально: все же с утра-то мои вещи были здесь. Боже мой! Я так вымотался, что едва ли что-нибудь соображаю.
По складу характера Таннер склонен был верить всему, что люди ему говорят; подозрительность не была в нем развита, и, хотя секунду назад в нем зародились некоторые сомнения, поддавшись этому жалостному монологу, он начал остывать. Готов был уже сказать: «Да ладно, ничего страшного», как вдруг его взгляд упал на кровать. На ней лежал один из несессеров Порта, он был открыт, и половина содержимого грудой вывалена на одеяло.
Медленно поднял взгляд. И одновременно набычился, отчего Эрик, которого обдало страхом, опасливо произнес:
– Э, э!
Но Таннер, четырьмя широкими шагами обойдя кровать, уже стоял перед застывшим в углу противником.
– Ах ты, чертов мелкий сучонок!
Схватив Эрика за грудки левой рукой, он пару раз его встряхнул и, не отпуская, сделал шаг в сторону, чтобы удобнее было размахнуться. Удар, нанесенный сбоку, был не слишком сильным, однако Эрика отбросило к стене, где он и остался, будто прилипнув к ней спиной, судорожно изогнувшись и не сводя расширенных глаз с лица Таннера. Когда стало ясно, что никакой другой реакции от юнца не дождешься, Таннер опять подступил к нему, пытаясь заставить его выпрямиться, но еще не решив, то ли ударить еще раз, то ли какой другой позыв возникнет у него в следующий момент. Когда он вновь сграбастал тяжело дышащего Эрика за ворот рубашки, тот всхлипнул и, не сводя с Таннера пронзительных глаз, вдруг тихо, но отчетливо сказал:
– Ударь меня.
Эти слова привели Таннера в ярость.
– Да с удовольствием! – отозвался он и врезал, да еще и сильнее, чем прежде.
Даже намного сильнее – во всяком случае, если судить по тому, что Эрик рухнул на пол и больше не двигался. Какое-то время Таннер с отвращением смотрел сверху на его пухлую побелевшую физиономию. Затем собрал вываленные из несессера вещи, закрыл его и остановился, собираясь с мыслями. Мгновение спустя Эрик завозился, застонал. Таннер поднял его, дотащил до двери и яростным пинком выкинул в соседнюю комнату. Потом захлопнул дверь и запер ее, чувствуя легкую тошноту. Его расстраивало всякое насилие, а чинимое им самим – особенно.
Следующим утром Лайлы отбыли. А фотография – вирированный в сепию портрет пеулки-водоноши на фоне знаменитой «Красной мечети» в Дженне – так и висела в фойе всю зиму, пришпиленная к стене над диваном.
Книга третья
В небесах
Кафка
- Начиная с определенной точки,
- Возврат уже невозможен.
- Этой точки надо достичь.
XXVI
Где она, Кит поняла сразу, как только открыла глаза. Луна на небе стояла низко. Кит натянула на ноги полы пальто и лежала, временами подрагивая и не думая ни о чем. Часть души в ней болела и нуждалась в отдыхе. Лежать было хорошо – просто лежать, существовать, не задавая вопросов. Она была уверена, что при желании сумеет вспомнить все, что случилось. Надо только приложить небольшое усилие, и дело пойдет. Но ей было хорошо и так, по эту сторону матовой завесы, скрывающей прошлое. Кит не хотелось поднимать ее, не хотелось заглядывать в пропасть вчерашнего дня и снова погружаться в то же горе, в те же угрызения. Взгляду из настоящего все, что было тогда, представало смутным и не поддающимся опознанию. Да она и нарочно старалась взгляд туда не направлять, ничего там не осматривать, сосредоточив все усилия на том, чтобы соорудить между собой и прошлым барьер покрепче. Подобно шелкопряду, чей кокон становится все толще и все лучше его защищает, она усилиями воли все крепила и крепила тонкую перегородку, за которой пряталась уязвимая часть ее существа.
Лежала тихонько, подобрав ноги под себя. Песок был мягким, но его холод проникал сквозь одежду. Когда уставала дрожать, выползала из-под укрывающего дерева и принималась шагать перед ним взад и вперед в надежде согреться. Воздух стоял вмертвую, ни дуновения, а холод все равно с каждой минутой нарастал. Шагая, она забредала все дальше; ходила и жевала хлеб. Но каждый раз возвращалась к тамариску, под ветви которого хотелось заползти и уснуть. Тем не менее ко времени, когда затеплился рассвет, она была бодра и от холода не страдала.
Пейзажем пустыни лучше всего любоваться в сумерках – на рассвете или после заката. Чувство расстояния в это время подводит: близенький хребтик может оказаться далекой горной грядой, любая мелкая деталь способна предстать в качестве главной доминанты, вокруг которой крутятся бесконечно повторяющиеся вариации ландшафтной темы. Восход солнца сулит перемену, и только когда его сияние в разгаре, наблюдатель начинает подозревать, что день опять все тот же: тот самый день, в котором он живет давным-давно, проживая его снова и снова, – по-прежнему ослепительно-яркий и не тускнеющий от времени. Глубоко вздохнув, Кит обвела взглядом мягкую линию небольших барханов, обозревая широкий чистый свет, переливающийся через скальный край хамады; обернулась к лесу пальм позади (нет, там еще ночь) и поняла, что день, который на подходе, все-таки не тот же самый. И даже когда окончательно рассвело, даже когда выскочило огромное солнце и к песку, к деревьям и небесам постепенно вернулся их дневной знакомый вид, у нее не возникло никаких сомнений: да, это новый, совершенно отдельный, самостоятельный день.
Тут в сухом русле появился идущий к ней караван – более двух десятков верблюдов, груженных набитыми битком шерстяными мешками. Рядом с животными шли несколько мужчин. Замыкали процессию двое всадников на высоких хеджинах мехари, которые из-за кольца в носу и поводьев выглядели еще более надменно, чем вьючные верблюды, шедшие впереди. Едва она этих двоих увидела, как уже знала, что поедет с ними, и эта уверенность сообщила ей неожиданное ощущение власти: вместо неуверенной возни с предзнаменованиями и приметами она теперь будет сама их создавать, сама ими станет. Открыв в себе эту новую черту, новое измерение бытия, она удивилась, но лишь слегка. Встав на пути приближающейся процессии, она обратилась к погонщикам, помахав в воздухе руками. Но прежде чем верблюды остановились, она кинулась обратно к дереву и выхватила из-под него свой чемоданчик. Двое всадников в ошеломлении смотрели то на нее, то друг на друга. Они подъехали к ней ближе и, наклонившись, стали ее восхищенно и с любопытством разглядывать.
Являясь внешним выражением полной внутренней убежденности, все ее жесты были повелительными и властными, ни в одном из них не проскальзывало ни тени сомнения, так что хозяевам каравана и в голову не пришло помешать ей, когда она передала чемодан одному из пеших погонщиков и жестами велела привязать его, водрузив поверх мешков на ближайшего вьючного верблюда. Мужчина бросил взгляд на своих хозяев и, не увидев на их лицах выражения, которое значило бы неприятие ее команды, заставил жалобно взревевшее животное встать на колени и принять добавочный груз. Другие погонщики молча наблюдали, как она, подойдя к всадникам, вскинула руки по направлению к тому, что помоложе, и сказала ему по-английски:
– Для меня там у вас место найдется?
Всадник улыбнулся. Громко ворчащий могучий мехари был поставлен на колени, она села на него боком в нескольких дюймах впереди всадника. Когда животное вставало, седоку пришлось держать ее, обхватив рукой за талию, – иначе бы она непременно свалилась. Всадники немного посмеялись и обменялись краткими возгласами, прежде чем возобновить движение по уэду.
Через какое-то время они покинули долину реки, свернув на широкую, лишенную растительности пустошь, усеянную каменьями. Дальше путь лежал через желтые барханы. Навалилась жара, и пошли то медленные взбирания на гребни, то осторожные спуски во впадины, снова и снова, – и живое, неотступное давление обнимающей ее руки. Ничего неприятного для себя она в этом не ощущала: ей хорошо было расслабленно наблюдать за уходящим вдаль однообразным пейзажем. Несколько раз ей, конечно же, показалось, что они не движутся вовсе, а бархан, по острому гребню которого они проезжают, это все тот же самый бархан, что давным-давно остался позади, ибо какое может быть продвижение куда-то, если они едут из ниоткуда и в никуда. Когда все это стало приходить ей в голову, новые ощущения пробудили в ней слабенькое шевеление мысли. «Может быть, я умерла?» – спросила она себя, но без боли: было понятно, что это не так. Ибо, если она может задаваться вопросом: «Существует ли что-либо?» – и отвечать: «Да», она не может быть мертвой. Да вот хотя бы: есть же небо, солнце и песок и медленная монотонная поступь хеджина. Размышления подсказывали ей, что, даже если придет такой момент, когда она уже не сможет ничего ответить, оставшийся без ответа вопрос все равно будет витать перед ней и она все равно будет знать, что жива. Эта мысль успокаивала. Она оживилась; откинувшись назад, прильнула к человеку в седле, но тут же ощутила крайний дискомфорт: у нее затекли ноги, и, видмо, давно. И теперь побежавшие по ним мурашки заставляли ее, без конца так и сяк ерзая, пытаться отыскать удобное положение. Она задергалась, заизвивалась. Всадник покрепче обхватил ее и обменялся несколькими словами со своим спутником; оба захихикали.






