Под покровом небес Боулз Пол
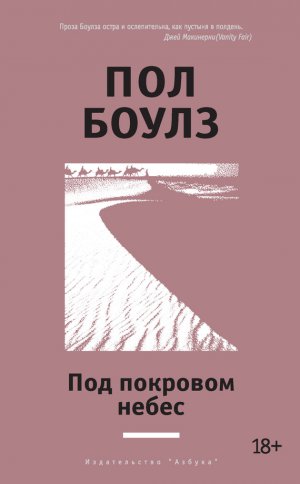
Для Порта такой поворот темы оказался неожиданным. И все же случай заслуживал определенной траты сил. Он подтащил Мохаммеда к дверям клетушки, в которой сидела она, и показал ее.
– Узнайте для меня насчет вот этой, – сказал он. – Вы ее знаете?
Мохаммед пригляделся.
– Нет, – в конце концов сказал он. – Но я выясню. Если это возможно, я сам все устрою, а вы заплатите мне тысячу франков. Деньги пойдут ей; себе возьму только на кофе и легкий завтрак.
Цена была для Айн-Крорфы запредельной, это Порт сознавал. Но торговаться было, похоже, не время, и он, одобрив сделку, по настоянию Мохаммеда удалился в первую комнату, где снова оказался в обществе тех двух неинтересных девиц. Девицы к этому моменту увлеклись каким-то очень серьезным разговором и едва ли даже заметили его появление. Комната полнилась разговорами и смехом; он сел на прежнее место и прислушался: пусть он ни слова и не понимал, но ему нравилось слушать чужой язык, его интонации.
Мохаммед не приходил довольно долго. Время шло к ночи, количество людей, сидящих вокруг, постепенно уменьшалось: посетители либо удалялись во внутренние кабинки, либо расходились по домам. Две девушки продолжали сидеть, болтая и временами заходясь в приступах смеха, во время которых хватались друг за дружку так, будто иначе упадут со смеху на пол. Порт уже подумывал о том, не пойти ли поискать Мохаммеда. Пытался сидеть спокойно, совсем отринув чувство времени, как в заведении подобном этому, наверное, и положено, однако ситуация вряд ли была такова, чтобы можно было позволить себе отдаться игре воображения. Когда Порт в конце концов все же отправился во двор на поиски, Мохаммед тут же нашелся: лежал на кушетке в комнате напротив среди каких-то своих приятелей и курил трубку, начиненную гашишем. Приблизившись, Порт к нему обратился, не заходя в комнату: этикет гашишекурилен был ему неизвестен. Впрочем, оказалось, что никакого особого этикета нет в заводе.
– Заходи, дорогой, – донесся из облака едко пахнущего дыма голос Мохаммеда. – Выкури трубочку.
Порт вошел, поприветствовал собравшихся и тихо спросил Мохаммеда:
– Так что же насчет девушки?
Несколько секунд лицо Мохаммеда ничего не выражало. Потом он усмехнулся:
– А, та танцовщица? С ней тебе не повезло, дорогой. Ты знаешь, что с ней? Она слепая, бедняжка.
– Я это знаю, знаю, – перебил Порт с нетерпением и нарастающей тревогой.
– Послушай, да? Зачем она тебе такая? Ведь она слепа!
Порт вышел из себя.
– Mais bien sr que je la veux![57] – закричал он. – Хочу ее! Где она?
Мохаммед слегка приподнялся на локте.
– Ого, – хмыкнул он. – Вот разошелся! Сядь, дорогой, выкури трубочку. Просто так, по дружбе.
Порт гневно развернулся на каблуках и, выскочив во двор, тут же начал планомерный поиск по всем клетушкам от одного крыла здания до другого. Но девушка исчезла. Вне себя от разочарования, он вышел из ворот на темную улицу. У подъезда, тихо переговариваясь, стояла парочка – какой-то арабский солдат с девушкой. Проходя мимо них, Порт пристально вгляделся в ее лицо. Солдат возмущенно на него уставился, но и только. Нет, не она. Оглядевшись по сторонам на плохо освещенной улице, он различил вдали две-три фигуры в белых просторных одеяниях; одна уходила в одну сторону, другая в другую. Зашагал, злобно пиная ногами камни, попадающиеся на пути. Теперь, когда она исчезла, он так расстроился, словно не мимолетного удовольствия лишился, но утратил самое любовь. Влез на гору и сел около форта, откинувшись спиной на старинную каменную кладку. Внизу горело несколько городских огней, дальше все укрывали неизбежные горизонты пустыни… Эх, а она бы положила ладони на лацканы его пиджака, тихонечко коснулась бы лица, медленно провела своими чувствительными пальцами вдоль губ. Она обоняла бы аромат бриолина от его волос и осторожно ощупывала на нем оджду. А в постели, не имея зрения, чтобы что-то видеть за пределами кровати, она была бы вся в его власти, как пленница… Ему представились чудные игры, которым он мог бы с ней предаваться: сделал бы вид, например, что исчез, но, никуда не деваясь, наблюдал за нею; ему подумалось о бесчисленном множестве способов, которыми он мог заставить ее испытывать к нему благодарность. И все время за образами этих его фантазий проглядывало невозмутимое, чуть вопросительно глядящее лицо, при всей своей гармоничности непроницаемое как маска. Его пробрала дрожь от жалости к себе, и это было почти приятно – настолько полно этим был выражен его настрой. Такая физическая, телесная дрожь; а он такой одинокий, брошенный, безнадежно растерянный и замерзший. Вот: замерзший – это особенно; глубокий внутренний холод не изменишь ничем. И пускай сейчас это основная его неприятность – этот холод, эта ледяная мертвость, – но он и дальше будет за него цепляться, потому что холод лежит в основе всего его существа: он все свое бытие вокруг него выстроил.
Тут он почувствовал, что, помимо всей метафизики, он еще и просто озяб, что странно: ведь он только что довольно резво лез на гору и даже не успел еще окончательно отдышаться. Охваченный внезапным страхом – сродни тому ужасу ребенка, который тот чувствует, коснувшись в темноте чего-то непонятного, – он подпрыгнул и бросился бежать по гребню горы, пока не добежал до тропки, что ведет вниз, на базарную площадь. Пока бежал, страх рассеялся, но едва остановился и бросил взгляд вниз на огни, кольцом опоясывающие рынок, как снова почувствовал холод, словно внутри сидит холодная железяка. Он снова побежал, теперь уже под гору, решив взять в номере отеля виски и отправиться с ним опять в бордель (ведь кухня-то в гостинице закрыта!), чтоб там взять чая и приготовить себе горячий грог. По пути в патио Порт вынужден был переступить через сторожа, лежавшего на пороге. Сторож слегка приподнялся и воззвал:
– Echkoun? Qui?[58]
– Numro vingt![59] – отозвался Порт, спешно проскакивая вестибюль, полный вони.
Щелка под дверью комнаты Кит не светилась. Оказавшись в своей комнате, он взял бутылку виски и бросил взгляд на часы, которые из осторожности с собой не брал, оставив на ночном столике. Было три тридцать. Он решил, что, если идти быстрым шагом, можно обернуться туда и обратно к половине пятого, если только у них там не погасли еще все печки.
Когда выходил на улицу, сторож вовсю храпел. Выйдя, он заставил себя шагать так широко, что противились мышцы ног, но физической нагрузкой так и не удалось разогнать холод, который застудил ему, казалось, все нутро. Город выглядел совершенно спящим. А, вот и знакомый дом. Но музыки оттуда уже не слышно. Двор совсем темен, темно и в большинстве комнат. Некоторые, впрочем, еще открыты и освещены.
Мохаммед оказался на прежнем месте; лежит, болтает с приятелями.
– Ну что, отыскал ее? – обратился он к Порту, когда тот вошел. – А что это ты такое принес?
Слабо улыбаясь, Порт поднял вверх бутылку.
Мохаммед нахмурился.
– Нет, дорогой, это тебе не надо. Это плохая, очень плохая вещь. От нее можно потерять голову. – Одной рукой он делал в воздухе спиральные движения, а другой пытался выкрутить у Порта бутылку. – Сядь, дорогой, выкури трубочку, – настоятельно требовал он. – Это гораздо лучше. Давай-давай, садись.
– Я бы хотел еще чаю, – сказал Порт.
– О, это слишком поздно, – абсолютно уверенно заявил Мохаммед.
– Почему? – глупо уперся Порт. – Мне надо!
– Слишком поздно. Уже огня нет, – с каким-то даже удовлетворением отрубил Мохаммед. – Выкуришь трубку, про чай забудешь. Ты ведь чай пил уже! Слушай, да?
Порт выбежал во двор и громко хлопнул в ладоши. Ничего не произошло. Сунув голову в одну из клетушек, где он заметил сидящую женщину, по-французски попросил чаю. Она сидит, смотрит. Он повторил просьбу на своем ломаном арабском. Она ответила, что уже слишком поздно.
– Сто франков, – сказал он.
Послышался ропот мужских голосов: сотня франков – это было стоящее, интересное предложение, но женщина, полная матрона средних лет, сказала: «Нет». Порт удвоил ставку. Женщина встала и жестом позвала за собой. За нею следом он нырнул под занавеску, скрывающую заднюю стену комнаты, потом они прошли сквозь целый лабиринт крошечных темных клетушек, пока наконец не оказались под звездами. Женщина остановилась и показала ему то место (прямо на земле), где он должен сидеть, дожидаясь ее возвращения. Отойдя на несколько шагов, она исчезла в отдельной лачуге, где, как ему было слышно, продолжала ходить и что-то делать. А еще ближе к нему в темноте спало какое-то животное; оно тяжело дышало и время от времени ворочалось. Земля была холодной, он начал дрожать. Сквозь дыры и щели в стене проступило мерцание света. Женщина зажгла свечу и теперь ломала какие-то ветки. И вот они уже трещат в огне, а она машет, машет, раздувает его.
Когда она в конце концов вышла из хибары с горшком углей, прокричал первый петух. Усыпая дорогу искрами, она провела его в одну из темных комнат, через которую они уже проходили, там этот горшок установила и поставила на него чайник. Помимо красного свечения горящих углей, света не было. Он сел на корточки перед огнем и стал водить руками, как бы загребая к себе тепло. Когда чай был заварен, женщина легонько толкнула его, и он сел; под ним оказался матрас. На матрасе было теплее, чем на земле. Она подала ему стакан.
– Meziane, skhoun b’zef,[60] – прокаркала она, в меркнущем свете пристально его разглядывая.
Он выпил полстакана и долил его доверху виски. Повторив процедуру, почувствовал себя лучше. Потом, опасаясь, что сейчас взмокнет от пота, сказал:
– Baraka ‘llahoufik,[61] – и они пошли обратно в комнату, где лежали и курили мужчины.
Увидев Порта с женщиной, Мохаммед рассмеялся.
– Ай, что ты делаешь, ну что творишь! – укоризненно воскликнул он. И, округлив глаза, указал ими на женщину.
У Порта слипались веки, заботило одно: скорей добраться до отеля и лечь в постель. Он лишь покачал головой.
– Да! Да! – настаивал Мохаммед, решивший во что бы то ни стало добиться, чтобы его шутка дошла. – Знаю я вас! Тот юноша-англичанин, который позавчера уехал в Мессад, он тоже был тот еще фрукт. Притворялся невинным мальчиком. Будто бы та женщина – его мать и он вообще как бы ни сном ни духом, но вышло так, что я застал их вместе.
Сразу-то Порт не отозвался. Но потом аж подпрыгнул.
– Что? – вскричал он.
– Ну да, конечно. Открываю я дверь их номера – да, комнаты одиннадцать, – а они там вместе нежатся в постели. В самом прямом, натуральном смысле. Вот ты, ты поверил ему, когда он говорил, что она его мать? – настаивал он, видя недоверчивое лицо Порта. – Видел бы ты, что увидел я, когда дверь открыл! Сам бы убедился, какой он лжец. Тот факт, что дама в возрасте, ничуть ее не останавливает. Нет, нет и нет. Да и мужчину тоже. Вот потому я и спрашиваю: что ты с ней делал там? Ничего? – И он опять зашелся смехом.
Порт улыбнулся и, расплачиваясь с женщиной, сказал Мохаммеду:
– Вот посмотрите. Я плачу ей только две сотни франков, которые обещал за чай. Убедились?
Мохаммед лишь еще громче засмеялся.
– Две сотни франков за чай! Больно уж много за одну чашку! Надеюсь, ты подержался хотя бы за обе. Ай, молодец, дорогой!
– Доброй ночи, – попрощался Порт со всеми присутствующими и вышел на улицу.
Книга вторая
Острый край земли
Прощай, – сказал умирающий зеркалу, которое держали перед ним. – Мы больше уже не увидимся.
Поль Валери. Навязчивая идея, или Двое у моря
XVIII
Лейтенант д’Арманьяк, командир военного гарнизона Бунуры, свою жизнь там находил достаточно наполненной, пускай и несколько монотонной. Поначалу его радовал нвизной собственный дом; книги и мебель для него прислали из Бордо родители, и он находил добавочное удовольствие в том, чтобы любоваться на них в этой новой, невероятной обстановке. Потом пошли дела с аборигенами. Лейтенант был достаточно умен, чтобы настойчиво культивировать в себе роскошь отсутствия снобизма по отношению к местному населению. Он открыто исповедовал убеждение, что жители Бунуры представляют собой часть великого и загадочного племени, в общении с которым французы могут многое почерпнуть, надо лишь крепко постараться. Другие служащие заставы к нему, как к образованному, относились снисходительно и не держали на него зла за его безумно благосклонное отношение к туземцам: сами-то они с радостью упрятали бы их за колючую проволоку, и пусть тлеют там на солнцепеке «…comme on a fait en Tripolitaine»,[62] а он… что ж, говорили они меж собой, когда-нибудь он и сам, придя в чувство, осознает, что это за никчемный и безмозглый сброд. Горячего сочувствия лейтенанта к местным хватило, правда, только года на три. То есть примерно на то время, за которое ему успели надоесть штук шесть любовниц улед-наилек, после которых – всё, период искренней симпатии к аборигенам подошел к концу. Не то чтобы он стал сколько-нибудь менее объективен, верша над ними правосудие, просто разом перестал о них думать и начал их воспринимать как тягостную реальность.
В том же году съездил в Бордо, провел там шестинедельный отпуск. Там возобновил знакомство с молодой дамой, которую знал в юности; теперь, однако, она внезапно возгорелась к нему особым интересом, а когда он собирался уже отбыть в Северную Африку для продолжения службы, даже заявила, что не может представить себе ничего изумительнее и желанней, нежели перспектива провести остаток жизни в Сахаре, поэтому она считает его счастливейшим из смертных, раз он туда как раз и направляется. Последовала переписка; между Бордо и Бунурой письма так и сновали. Меньше чем через год он съездил в город Алжир, чтобы встретить ее с парохода. Медовый месяц провели там же, в окрестностях столицы, в маленьком, укрытом зарослями бугенвиллеи домике в элитном пригородном поселке Кара-Мустафа (где дождь шел каждый день!), после чего вместе отправились в прокаленную солнцем суровую Бунуру.
О том, насколько связанные с этим местом ожидания совпадут у молодой жены с представшей воочию реальностью, заранее лейтенант знать не мог, но и по приезде ничего толком выяснить не получилось: во мгновение ока она была уже опять во Франции. А как же, ведь скоро должен будет родиться их первенец! Потом она, конечно же, возвратится, и они во всем разберутся вместе.
А пока он страдал от скуки. После того как мадам д’Арманьяк уехала, лейтенант попытался было возобновить прежнюю жизнь, причем прямо с того момента, как она прервалась, но, увы, девушек из соответствующего квартала Бунуры он находил теперь раздражающе простоватыми – особенно после куда более многогранных отношений, к которым он в последнее время приохотился. В результате занялся пристройкой к дому добавочной комнаты: решил этим удивить жену, когда та вернется. Комната должна будет являть собой salon arabe.[63] Для нее уже имелись специально заказанные диваны и кофейный столик, а еще он купил очень красивый, большой, кремового цвета шерстяной ковер на стену и две овечьи шкуры на пол. Две недели он занимался отделкой этой комнаты, когда случилась одна неприятность.
Эта неприятность, пусть, в сущности, и несерьезная, его работе все же помешала, и уже хотя бы поэтому не могла быть оставлена без внимания. Более того, когда ему случалось быть прикованным к постели, будучи человеком деятельным, он сразу начинал скучать, а проваляться в ней на сей раз пришлось много дней. Вообще-то, все это было просто несчастным случаем: если бы первоначальный сигнал поступил от кого-нибудь другого – от местного жителя, к примеру, или даже от кого-то из подчиненных, – он не чувствовал бы себя обязанным уделять ему столько внимания. Но он имел несчастье сам все обнаружить – однажды утром, во время личного обхода деревень, который он проводил два раза в неделю. Тем самым происшедшему был придан статус события, причем официально признанного и важного. Дело было у самых стен Игермы, которую он всегда посещал сразу после Тольфы, пешком пройдя через кладбище и взобравшись потом на гору; из огромных ворот Игермы открывался вид вниз, на долину, где ждал солдат его заставы с грузовиком, на котором должен был потом везти командира в Бени-Изген: пешком туда тащиться все же далековато. Когда лейтенант проходил в ворота на территорию поселка, его внимание привлекло нечто на первый взгляд совершенно обыденное. Мимо пробежала собака, держа в зубах что-то большое и подозрительно розовое, частично свисающее и волочащееся по земле. Но он почему-то в этот предмет так взглядом и впился.
Вернулся, немного прогулялся вдоль внешней стороны стены. Навстречу попались еще две собаки с похожей добычей. И наконец наткнулся на то, что искал: это был всего лишь младенец, убитый, по всей вероятности, только что, нынешним утром. Он был завернут в старый номер газеты «Эхо Алжира» и брошен в неглубокую канаву. Опросив нескольких человек, которые тем утром побывали за воротами, лейтенант установил, что вскоре после восхода солнца в ворота вошла некая Ямина бен-Раисса, и шла она при этом не той своей дорогой, какой ходила обычно. В том, чтобы разыскать Ямину, сложности не было: она жила с матерью неподалеку. Сперва она истерически отпиралась, утверждала, что ничего об этом преступлении знать не знает, но когда он вывел ее из дома одну на край деревни и поговорил с ней пять минут «как следует», она спокойно рассказала ему все до точки. Чуть ли не самым удивительным в ее рассказе было то, что она умудрилась скрыть свою беременность от матери – во всяком случае, так она утверждала. Лейтенант был склонен этому не поверить, но затем вспомнил о том, какое количество нижних юбок носят местные женщины; приняв это во внимание, он решил, что она говорит правду. Хитростью заставив старшую женщину из дома удалиться, она родила ребенка, задушила его и бросила за воротами завернутым в газету. К тому времени, когда вернулась мать, она уже мыла пол.
Главное, что волновало Ямину, это как бы вызнать у лейтенанта имена тех, кто помог ему ее найти. Кроме того, она была поражена быстротой, с которой он обнаружил ее деяние, и прямо ему об этом сказала. Такая примитивная бесчувственность его даже позабавила, и минут пятнадцать он позволял себе всерьез раздумывать о том, как бы ухитриться провести с нею ночь. Но когда он с ней вместе спустился с горы к дороге, где ждал грузовик, эти свои фантазии, обуревавшие его всего пару минут назад, он вспоминал уже с удивлением. Визит в Бени-Изген он отменил и повез девушку прямо в комендатуру. Тут он вспомнил о младенце. Убедившись, что Ямина под замком и никуда не денется, он поспешил с одним из солдат на место преступления и собрал там в качестве вещественных доказательств то немногое, что еще оставалось от тельца. Эти крошечные кусочки плоти и послужили причиной тому, что Ямину поместили в местную тюрьму, где она должна была ожидать отправки в столицу на суд. Но суд так и не состоялся. На третью ночь ее заточения серый скорпион, проползая по земляному полу камеры, в углу обнаружил неожиданно приятное тепло и около него затаился. Когда Ямина во сне шевельнулась, случилось неизбежное. Жало насекомого вошло в шею, и проснуться ей уже не пришлось. Весть о ее смерти быстро разнеслась по городу; правда, скорпион в слухах не фигурировал, так что окончательной и как бы официальной народной версией было предположение, что над девушкой надругались, мучили всей заставой и при участии самого лейтенанта, после чего сочли за лучшее убить. Естественно, полное доверие эта версия вызывала не у всех, но тот факт, что она умерла, находясь в неволе у французов, оспорить было невозможно. Поверили в это в конечном счете местные или не поверили, но авторитет лейтенанта начал явно клониться к закату.
Внезапная непопулярность лейтенанта возымела непосредственный результат: в его доме перестали появляться рабочие, ведущие отделку пристройки. Пришел один каменщик, но только для того, чтобы просидеть с его денщиком Ахмедом все утро в саду, пытаясь убедить его ни дня не оставаться больше в услужении у такого монстра. И, надо сказать, сбил-таки Ахмеда с панталыку! А еще у лейтенанта появилось вполне правильное впечатление, что с ним стараются не встречаться даже на улице. Особенный страх обуял женщин: они теперь, похоже, всячески его сторонились. Как только становилось известно, что он где-то поблизости, улицы сами собой пустели; все, что он слышал, проходя по ним, это клацанье засовов. А встретится мужчина – обязательно отводит глаза. Такие вещи представляли собой удар по его авторитету администратора, но они задевали его куда меньше, чем открытие, сделанное в тот день, когда он слег, ощущая странную комбинацию из желудочных колик, головокружения и тошноты: это надо же! – оказывается, его повариха, которая по непонятной причине от него не ушла, является двоюродной сестрой покойной Ямины.
Письмо из города Алжира от его тамошнего непосредственного начальника счастья не добавило. Там было сказано, что в юридической обоснованности его действий сомнений нет: в суде Бунуры хранится банка с вещдоками, законсервированными в формальдегиде, да и признание от девушки получено. Но была там и критика по поводу его халатности; мало того (и это ударило его больнее всего), начальство подняло вопрос о его способности учитывать «психологию туземцев».
Он лежал в кровати и смотрел в потолок; чувствовал себя при этом слабым и несчастным. Пора было уже явиться Жаклине, готовить ему консоме на полдник: в это время дня он всегда взбадривал себя крепким мясным бульоном. (После первых колик он предпочел от поварихи немедленно избавиться: уж настолько-то он способен был учитывать психологию туземцев!) Жаклина же, хотя и родилась в Бунуре, но арабом был только ее отец (во всяком случае, так считалось, и, надо полагать, обоснованно: об этом говорили и черты ее лица, и его цвет), а матерью была француженка, умершая вскоре после родов. Как француженка оказалась одна в Бунуре и что там делала, никому не ведомо. Однако все это было в далеком прошлом; ребенком Жаклину взяли к себе «Белые отцы» и воспитали при своей миссии. Она знала все песнопения, которым «Белые отцы» упорно и неустанно обучали детишек; то есть, вообще-то, она была как раз единственным ребенком, который их действительно выучил. Помимо пения и молитвы, ее обучили еще и готовить, в чем она проявила талант, для всей миссии явившийся истинным благословением: до этого несчастным Отцам приходилось годами обходиться местной пищей, и у всех от нее сильно пострадала печень. Когда отец Лебрюн узнал о проблеме, вставшей перед лейтенантом, он сразу изъявил готовность прислать на замену бывшей его поварихе Жаклину, чтобы она два раза в день готовила ему что-нибудь простенькое. В первый день патер пришел навестить его лично и, присмотревшись к лейтенанту, решил, что особой опасности в том, чтобы разрешить женщине навещать его, не предвидится – по крайней мере в течение ближайших нескольких дней. Счел возможным положиться на отчеты самой Жаклины о выздоровлении пациента, ибо с тех самых пор, как тот вступит на путь выздоровления, полагаться на его благонравие будет уже невозможно. В тот первый день, глядя на то, как лейтенант обессиленно лежит в своей измятой и вздыбленной постели, он сказал:
– Оставляю ее в твоих руках, сын мой, а тебя в руце Божией.
Лейтенант понял, что тот имеет в виду, и попытался улыбнуться, но даже на это по слабости был не способен. Зато потом он, вспоминая об этом, всякий раз улыбался, настолько эта Жаклина была тоща и страхолюдна – смотреть не на что.
В тот день она запаздывала, а когда пришла, долго не могла отдышаться: около зауйи ее остановил капрал Дюперье и послал к начальнику со срочным сообщением. Оно было об иностранном подданном – американце, который потерял паспорт.
– Американец? – эхом отозвался лейтенант. – У нас в Бунуре?
Да, подтвердила Жаклина. Он здесь с женой, остановились в пансионе Абделькадера (да где бы им еще и быть: во всей округе этот пансион – единственное место, где принимают постояльцев), причем в Бунуре они уже не первый день. Она даже своими глазами видела того джентльмена: вполне себе такой мужчина, молодой…
– Что ж, – сказал лейтенант. – Чего-нибудь поесть бы. Сегодня, может быть, с рисом? У вас найдется время приготовить?
– О да, мсье. Но он велел мне передать вам, что с американцем очень важно увидеться сегодня.
– Господи, да о чем вы? Зачем мне с ним видеться? Я же не могу отыскать его паспорт. На обратном пути в миссию – будете проходить мимо заставы – скажите капралу Дюперье, пусть передаст американцу, что ему следует возвращаться в город Алжир и обратиться там к своему консулу… Если он уже и так не догадался, – после паузы добавил он.
– Ah, ce n’est pas pour a![64] А в том, что в краже паспорта он обвиняет мсье Абделькадера.
– Что? – взревел лейтенант, которого аж подкинуло.
– Да. Приходил вчера, написал заявление. А мсье Абделькадер просит вас сделать так, чтобы он забрал его. Потому-то и надо, чтобы вы с ним сегодня увиделись.
Жаклина, явно в полном восторге от его реакции, ушла на кухню и принялась там греметь кастрюлями. Она была на седьмом небе от осознания собственной важности.
Лейтенант снова рухнул в постель; им овладело беспокойство. Сделать, чтобы американец отозвал свои обвинения, нужно обязательно – и не только потому, что Абделькадер его старый приятель и совершенно не способен ничего украсть, но главным образом потому, что это один из известнейших и наиболее уважаемых людей в Бунуре. Как владелец гостиницы, он в тесной дружбе с шоферами всех автобусов и грузовиков, совершающих рейсы по этой территории, а в Сахаре это весьма влиятельные люди. Несомненно, многим из них приходилось обращаться к Абделькадеру и получать кредит на проживание и питание; в большинстве своем они у него и живые деньги занимали. Для араба он поразительно доверчив и легко расстается с деньгами, так что и европейцы, и соотечественники, все его за это полюбили. Так что не только невозможно, чтобы он украл этот паспорт, а вообще немыслимо официально предъявлять ему подобное обвинение. В этом плане капрал совершенно прав. Заявление должно быть немедленно отозвано. «Вот не хватало мне несчастий на мою голову, – подумал лейтенант. – И черт принес сюда еще какого-то американца!» С французом он бы знал, как разговаривать, как убедить его покончить с этим делом мирно. Но с американцем? Он уже так и видел его перед собой: этакий гориллоподобный громила со злобно нахмуренной физиономией, сигарой в углу рта и, чего доброго, самозарядным пистолетом в заднем кармане. Да с ним, поди, и поговорить-то толком не удастся: ни я его языка по-человечески не знаю, ни он, наверное, не говорит по-французски. Он принялся вспоминать, что знает по-английски: «Сэр, я должен вас упросить… молить вас (или молять?), чтобы вы… Дорогой сэр, плииз, хотелось бы заставить вам отметить…» И тут он вспомнил, как кто-то ему поведал, что в любом случае… американцы, они ведь – того! – они не говорят даже и по-английски! У них свой собственный местный patois,[65] который только сами они и понимают. А самое неприятное для него в этой ситуации то, что он будет лежать в постели, тогда как американец сможет свободно болтаться по комнате, имея все преимущества, как физические, так и моральные.
Он даже негромко застонал, садясь, чтобы поесть наконец супу, который Жаклина давным-давно принесла. Снаружи завывал ветер и лаяли собаки в лагере кочевников, который те разбили за городскими воротами у шоссе; если бы солнце не сияло так ярко и качающиеся за окном широкие листья пальм не блестели, как стеклянные, закрой он глаза, могло бы показаться, что стоит глубокая ночь: во всяком случае, и ветер, и собаки звучали в точности как ночью. Он доел полдник; когда Жаклина была готова уйти, он ей сказал:
– Сходите на заставу, скажите капралу Дюперье, пуст приведет сюда американца к трем часам. Да пусть сам его приведет, вы, главное, это передать не забудьте.
– Oui, oui,[66] – пропищала она, все еще в состоянии неземного блаженства. Историю с детоубийством она упустила, бог с ней, зато этот новый скандал будет весь ее, с самого зарождения.
XIX
Ровно в три капрал Дюперье ввел американца к лейтенанту в приемную. В доме стояла полная тишина.
– Un moment,[67] – сказал капрал, направившись к двери в спальню.
Постучал, отворил, лейтенант сделал ему знак рукой, и капрал ретранслировал команду американцу; тот вошел в спальню. Лейтенант увидел перед собой юношу… быть может, несколько изможденного… и первым делом отметил, что молодой человек слегка странноват, раз ходит в такую жару в свитере с высоким воротом и в шерстяном пиджаке.
Американец подошел к одру больного и, подавая руку, заговорил на безукоризненном французском. Первоначальное удивление лейтенанта, вызванное неожиданной внешностью посетителя, сменилось радостью. Он распорядился, чтобы капрал принес гостю стул и предложил ему присесть. Затем отправил капрала обратно на заставу; решил, что сможет справиться с американцем собственными силами. Когда они остались наедине, он угостил гостя сигаретой и сказал:
– Я слышал, у вас пропал паспорт…
– Так точно, – отозвался Порт.
– И вы полагаете, что он украден, а не просто потерялся?
– Я знаю, что он украден. Он был в чемодане, который у меня всегда заперт.
– Тогда каким же образом его из этого чемодана украли? – в предчувствии близкой победы заговорил лейтенант, заранее усмехаясь. – Выходит, что «всегда» – это не совсем то слово?
– Украсть его, – спокойно продолжил Порт, – могли, когда я на минутку оставил вчера чемодан открытым, выйдя из номера в ванную. С моей стороны это была глупость, но так уж вышло. А когда я вернулся к двери номера, около нее стоял владелец гостиницы. Он объяснил это тем, что постучал ко мне – сказать, что полдник готов. Однако до того он никогда не заходил ко мне сам: всегда присылал кого-нибудь из боев. Причина, по которой я уверен, что это сделал владелец пансиона, в том, что вчера был единственный раз, когда я оставил чемодан открытым. Раньше не оставлял, покидая комнату даже на секунду. У меня тут никаких сомнений нет.
– Pardon. А у меня вот есть. И очень обоснованные. Нам теперь что – устроить из этого детективную историю? Когда вы в последний раз видели ваш паспорт?
– Когда мы приехали в Айн-Крорфу, – ненадолго задумавшись, ответил в конце концов Порт.
– Ага! – вскричал лейтенант. – В Айн-Крорфу! А теперь вы без колебаний обвиняете мсье Абделькадера. В этом есть логика?
– Да, я его обвиняю, – упрямо повторил Порт, уязвленный тоном лейтенанта. – Я его обвиняю, поскольку логика подсказывает, что он единственный подозреваемый. Он единственный туземец, у которого был доступ к моему паспорту, – вообще единственный из местных, кто мог это сделать.
Лейтенант д’Арманьяк приподнялся на одре чуть повыше.
– А почему вы, собственно, решили, что вором должен быть непременно местный?
Порт слабо улыбнулся:
– А разве не естественно предположить, что украл местный? Помимо того, что ни у кого больше не было возможности его взять, разве это не то, что, как правило, делают именно местные – при всей их любезности и очаровании?
– Нет, мсье. Мне как раз кажется, что такого рода вещи именно местные-то и не делают.
Порта это утверждение застало врасплох.
– То есть как это? Вы серьезно? – изумился он. – Почему? Почему вы так в этом уверены?
– Я тут живу среди арабов не первый год. Конечно, они крадут. И французы крадут. И в Америке у вас есть гангстеры, верно же? – сказал лейтенант с лукавой улыбкой.
Но Порт на это не поддался:
– Это было давно – вся эта эпоха гангстеризма, – отмахнулся он.
Но лейтенанта его слова не впечатлили.
– Да, люди крадут везде. И здесь тоже. Однако здесь… местный житель… – теперь он говорил медленнее, как бы подчеркивая каждое слово, – берет только деньги или то, что нужно лично ему. Он никогда не возьмет то, с чем могут быть связаны какие-то осложнения. Например, паспорт.
Порт не сдавался.
– Меня все эти мотивы не интересуют. Зачем он на него польстился, это один бог знает.
Но хозяин его разом оборвал.
– А вот я ищу как раз мотивы! – вскричал он. – И не вижу пока причин верить в то, что кому-либо из местных могло прийти в голову украсть ваш паспорт. Во всяком случае, наши, в Бунуре, на такое не пойдут никогда. Да и в Айн-Крорфе, думаю, то же самое. В одном я могу вам просто поклясться: если кто и украл, то только не мсье Абделькадер. Это уж вы мне поверьте.
– Да ну? – проговорил Порт с сомнением.
– Он – нет. Я знаю его несколько лет, и…
– Но у вас не больше оснований утверждать, что он не крал, чем у меня, что он украл! – раздраженно воскликнул Порт. Поднял воротник пиджака и нахохлился.
– Вы, я надеюсь, не замерзли? – удивленно спросил лейтенант.
– Да я, знаете ли, не первый день уже мерзну, – ответил Порт, потирая руки.
Несколько секунд лейтенант смотрел на него очень внимательно. Потом продолжил:
– Вы не могли бы сделать мне одолжение, если я отплачу вам тем же?
– Ну, могу, в принципе. А что такое?
– Я буду вам очень обязан, если вы заберете ваше заявление насчет мсье Абделькадера. Причем сразу, сегодня же. А я попытаюсь испробовать одну штуку: может быть, удастся ваш паспорт вернуть. On ne sait jamais.[68] Вдруг да и удастся? Если ваш паспорт действительно, как вы говорите, украли, то единственное место, где он, по логике вещей, может объявиться, это Мессад. Я телеграфирую в Мессад, чтобы там повнимательнее обыскали казарму Иностранного легиона.
Порт сидел совершенно неподвижно, глядя прямо перед собой.
– Мессад… – проговорил он.
– Вы что, и там были? Нет?
– Нет-нет…
Помолчали.
– Ну что, сделаете мне это одолжение? А у меня для вас будет ответ, как только там закончат обыск.
– Хорошо, – сказал Порт. – Схожу заберу сегодня же. А скажите, там, в Мессаде, что, получается, есть рынок сбыта для таких вещей, да?
– Ну конечно! На заставах Легиона паспорта в цене. А если паспорт к тому же американский – oh, l, l!
Настроение лейтенанта значительно повысилось: он достиг своей цели, и это сгладит, хотя бы частично, тот урон, который нанесло его авторитету дело Ямины.
– Tenez,[69] – сказал он, показывая на буфет в углу, – вот, как раз от холода. Дайте-ка мне вон ту бутылку коньяка. Примем по глоточку.
Это было вовсе не то, чего хотелось Порту, но он, конечно же, не мог отклонить этот жест гостеприимства.
А кстати, чего ему хотелось? Он толком сам не знал, но похоже, что просто долго-долго сидеть без движения в теплом, спокойном и укромном месте. На солнце ему становилось еще холоднее, а голова при этом горела, казалась огромной и словно перевешивала. Если бы не аппетит, с которым все было нормально, он заподозрил бы, что заболел. Он неуверенно пригубил коньяк, гадая, согреет он или заставит пожалеть, что выпил: коньяк иногда вызывал у него изжогу. Лейтенант, похоже, прочел его мысли, так как сразу же сказал:
– Это хороший, старый коньяк. От него хуже не будет.
– Да, прекрасный, – ответил Порт, вторую часть реплики хозяина предпочтя оставить без внимания.
Возникшее у лейтенанта впечатление, что сидящий перед ним молодой человек патологически озабочен собственной особой, подтвердилось сразу же, следующими же словами Порта:
– И вот что странно, – сказал он с искательной улыбкой. – С тех самых пор, как я заметил, что у меня нет паспорта, я чувствую себя каким-то полуживым. Ну, согласитесь, очень угнетает, когда в таком месте, как это, ты не имеешь никакого доказательства того, что ты – это ты, правда же?В ответ лейтенант протянул ему бутылку, от которой Порт отказался.
– Не исключено, что после моего маленького расследования в Мессаде вы сможете снова удостоверить свою личность, – усмехнулся он.
Если американец желает посвящать его в такие тонкости, что ж, он с удовольствием возьмет на себя роль его исповедника. Временно, конечно.
– Вы здесь с женой? – спросил лейтенант; Порт с отсутствующим видом подтвердил.
«Так вот в чем дело, – сказал себе лейтенант. – У него нелады с женой. Бедняга!» Еще он подумал, а не сходить ли им вместе в веселый квартал. Он им любил похвастать перед приезжими. Но только он собрался сказать: «А вот моя жена, по счастью, сейчас во Франции…», как тут же вспомнил, что Порт не француз – может и не понять, чего доброго.
Пока он над всем этим размышлял, Порт встал и принялся вежливо прощаться; визит получился немного, конечно, скомканным, но вряд ли от него ожидалось, что он проведет у постели больного весь день. Кроме того, надо выполнить обещанное: пойти забрать заявление на Абделькадера.
К стенам Бунуры он тащился по раскаленной дороге, понурив голову и не видя ничего, кроме дорожной пыли и россыпей мелких и острых камешков. Головы не поднимал, потому что знал, каким бессмысленным покажется ландшафт. Чтобы вдохнуть в жизнь какой-то смысл, нужна энергия, а вот ее-то у него сейчас как раз и нет. Он знал, что мир может предстать вдруг голым, лишенным всякой сущности, снесенной напрочь куда-то за горизонт, будто все вокруг выметено некоей злобной центробежной силой. Ему не хотелось видеть над собой ни это слишком густое небо – такое синее, что кажется нереальным, – ни эти ребристые красноватые стены каньона, со всех сторон перекрывающие обзор, ни этот похожий на ячеистые соты город на скале, у подножья которой темнеют зеленые пятна оазиса. Все это на месте, никуда не делось и могло бы даже радовать его глаз, имей он силу реагировать, как-то соотносить одно с другим или с самим собой, но он сейчас не в силах сводить увиденное в единый мысленный фокус, который тоже нужен – помимо простого оптического. Вот он и не будет на это смотреть.
Вернувшись в пансион, он задержался в дверях маленькой комнатки, служившей конторой; Абделькадер оказался на месте; сидя в темном углу на кушетке, играл в домино с каким-то типом в тяжелом тюрбане.
– Добрый день, мсье, – сказал Порт. – Я поговорил с властями и забираю свое заявление.
– А, мой лейтенант все устроил, – себе под нос пробормотал Абделькадер.
– Да, – спокойно подтвердил Порт, несмотря на досаду оттого, что никто, оказывается, не собирается благодарить его за великодушие.
– Bon, merci.[70]
Обронив эти слова, Абделькадер даже не поднял на него взгляд, и Порт пошел по лестнице наверх к жене.
Там обнаружилось, что Кит велела принести весь свой багаж в комнату и теперь все подряд распаковывала. Комната походила на базар: на кровати рядами обувь; через спинку изножья переброшены вечерние платья – красуются как на витрине; на ночном столике выстроились флакончики и коробочки с косметикой и парфюмерией.
– Боже правый! Что ты такое делаешь? – помимо воли вырвалось у мужа.
– Любуюсь своими вещичками, – невинно пропела Кит. – Как давно мы с ними не виделись! С самого парохода живу фактически на одной сумке. И так мне это надоело! А посмотрела сегодня после ланча в окошко… – Оживившись, она указала на окно, за которым расстилалась голая пустыня. – Чувствую, просто умру сейчас, если срочно не дам глазам отдых, посмотрев на что-нибудь окультуренное. Хотя бы так, но и не только. Заказала вот в номер бутылку виски и начала последнюю пачку «Плейерз».
– Да, плохи твои дела, – посочувствовал он.
– И вовсе нет! – с преувеличенной живостью отозвалась Кит. – Было бы как раз ненормально, если бы я к здешней жизни слишком быстро смогла адаптироваться. Я же все-таки пока еще американка, ты не забыл? И даже не пытаюсь стать кем-то другим.
– Виски, это надо же! – продолжил Порт свои мысли вслух. – По эту сторону от Бусифа к нему, поди, ни льда уже нет, ни содовой…
– А я его буду так, в чистом виде. – Надев бледно-голубое шелковое платье с открытой спиной, она подошла к зеркалу, висевшему на внутренней стороне входной двери, стала наводить марафет.
Пусть поиграет, решил он, если это поднимает ей настроение; смотреть, как она в самом средоточии дикости строит эти свои крошечные, жалкие редуты западной цивилизации, даже забавно. Сев на пол в середине комнаты, он не без удовольствия стал наблюдать за тем, как она снует туда-сюда, подбирает туфельки и примеряет браслеты. Когда в дверь постучал гостиничный бой, Порт сам подошел к двери и в прихожей принял у него из рук поднос с бутылкой и всем остальным.
– Почему ты не впустил его внутрь? – поинтересовалась Кит, когда он затворил дверь за боем.
– Потому что не хочу, чтобы он бросился разносить по всей округе животрепещущую весть, – сказал Порт, поставив поднос на пол и усаживаясь рядом.
– Какую весть?
Он слегка замялся.
– Ну, что у тебя тут всякие шикарные наряды и драгоценности. Потом слух об этом будет бежать впереди нас, куда бы мы ни направились. А кроме того, – улыбнулся он, – я не хочу, чтобы они тут знали, какая ты у меня хорошенькая. Бываешь, когда постараешься.
– Ой, да ну тебя, Порт! Ты реши сначала: это ты меня пытаешься защитить? Или боишься, что к нашему счету прибавят лишних десять франков?
– Давай иди сюда, пей свой вшивый французский виски. Мне надо тебе кое-что рассказать.
– А вот не пойду. Подай мне его, как положено джентльмену. – Она расчистила от вещей местечко на кровати и туда уселась.
– Прекрасно. – Он налил в стакан приличную дозу и принес ей.
– А ты разве не будешь? – спросила она.
– Нет. У лейтенанта я хватанул коньяку, и как-то он у меня не пошел. Дрожь бьет по-прежнему. Но я узнал кое-что новое и хотел этим с тобой поделиться. По последним данным почти несомненно, что паспорт у меня украл Эрик Лайл.
Он рассказал ей о рынке сбыта паспортов среди солдат Иностранного легиона в Мессаде. О том, что сообщил ему о своем открытии Мохаммед, Порт поведал ей еще в автобусе, на котором ехали из Айн-Крорфы. В ответ она, не выказав удивления, повторила свой рассказ о том, как смотрела их паспорта, – значит, в том, что они мать и сын, сомневаться не приходится. Точно так же не удивилась она и теперь.
– Думаю, он решил, что раз я видела их паспорта, он имеет право посмотреть твой, – сказала она. – Но как он до него добрался? Когда спер?
– Когда – это я как раз знаю. Тем вечером, когда он пришел ко мне в номер в Айн-Крорфе – якобы вернуть франки, которые я ему дал. Я тогда оставил его в своей комнате наедине с незапертым чемоданом, а сам пошел к Таннеру: казалось бы, чего мне опасаться? – бумажник-то я взял с собой… Мне и в голову не пришло, что этот гад польстится на мой паспорт. Да, несомненно, именно так все и было. Чем больше я об этом думаю, тем большей уверенностью проникаюсь. Найдут они что-нибудь в Мессаде или нет, я убежден, что это сделал Лайл. Думаю, он вознамерился спереть его уже тогда, когда впервые меня увидел. Ну, в самом деле, почему нет? Легкие деньги, тем более что мать ему денег не дает вообще.
– Думаю, давать-то дает, – сказала Кит. – Но при выполнении им некоторых условий. Ему все это до крайности неприятно, и он только и смотрит, как бы сбежать; связался бы с кем угодно и что угодно сделал бы, чем жить вот так. А она это, наверное, понимает и ужасно боится, как бы он и вправду не сбежал, поэтому делает все от нее зависящее, лишь бы предотвратить его сближение с кем бы то ни было. Помнишь, она говорила тебе, что он будто бы подхватил какую-то заразу?
Порт выслушал ее молча.
– Боже мой! Это ж надо, во что я втравил Таннера! – сказал он, немного подумав.
Кит рассмеялась.
– Вот ты о чем! Да ну, он выдержит. Ему это пойдет на пользу. Кроме того, я не могу представить, чтобы он так уж подружился с кем-то из них.
– Ну это, конечно, вряд ли. – Он налил себе виски. – Не стоило бы мне сейчас пить эту дрянь, – сказал он. – Еще и на коньяк наложится… Но я не готов позволить тебе уйти в отключку одной: тебе же несколько глотков, и ты с катушек!
– Знаешь, я, разумеется, рада, что ты составишь мне компанию, но тебе-то не станет ли от этого нехорошо?
– Да мне уже нехорошо! – воскликнул он. – Но не могу же я бесконечно осторожничать только потому, что все время зябну. Думаю, в любом случае, как только мы доберемся до Эль-Гаа, мне полегчает. Там ведь значительно теплее, ты ж понимаешь.
– Опять ехать? Мы же только что приехали.
– Но ты не будешь отрицать, что по ночам здесь бывает прохладно.
– Буду! Я непременно буду это отрицать. Но… как скажешь. Если надо переезжать в Эль-Гаа, тогда поехали, ради бога, но поехали тогда скорее, а там уже побудем, отдохнем.
– Это один из великих древних городов Сахары, – сказал он так, будто демонстрирует его, держа на ладони.
– Не надо мне его рекламировать, – сказала она. – И вообще, если уж тебе так хочется, то надо не так. Ты же знаешь, я в этом ровно ничего не смыслю, мне что Эль-Гаа, что Тимбукту, все более или менее едино, все равным образом интересно, но это не то, что мне прямо вынь да положь. Но если ты там будешь счастливее – я имею в виду твое самочувствие, – надо туда поспешить, конечно. – Тут она сделала рукой нервный жест в надежде отогнать наконец назойливую муху.
– Вот как. Ты думаешь, мое недомогание связано с психикой? Ты сказала «счастливее».
– Я ничего не думаю, потому что не знаю. Но мне кажется жутко странным, что кому-то может быть постоянно холодно в сентябре в пустыне Сахара.
– Еще бы это не было странным, – раздраженно ответил он. Потом вдруг взорвался: – У этих мух прямо когти какие-то! Одного этого довольно, чтобы полностью вывести человека из равновесия. Чего им надо? Заползти прямо в глотку? – Крякнув, он встал на ноги; она смотрела на него выжидающе. – Придумал. Я сделаю так, что больше мы от них страдать не будем. Вставай.
Порывшись в чемодане, он вытащил сложенную и скатанную в рулон марлю. Кит по его просьбе освободила кровать от своих вещей. Он накинул марлю на изголовье и изножье кровати, заметив при этом, что нет разумной причины, по которой противомоскитная сетка не может стать пологом от мух. Подоткнув марлю как следует со всех сторон, они залезли под нее с бутылкой и тихо там лежали до вечера. К приходу сумерек они были приятно пьяны и не испытывали никакого желания из-под этого своего балдахина выбираться. И может быть, только внезапное появление звезд в прямоугольнике окна помогло определиться с направлением их разговора. С каждой секундой цвет неба густел, и россыпь звезд в пространстве, еще недавно пустом, становилась все гуще. Одернув на бедрах платье, Кит сказала:
– Знаешь, когда я была совсем молоденькой…
– Совсем молоденькой – это сколько?
– Ну, мне двадцати еще не было, где-то так… так вот: я думала, жизнь – это такая штука, в которой все без конца нарастает. С каждым годом она становится все богаче и глубже. Чем старше, тем больше ты узнаешь, делаешься мудрее, прозорливее, все глубже проникаешься истиной… – Она замялась.
– А теперь ты поняла, что это не так. Верно? – Порт отрывисто хохотнул. – Вышло, что она как сигарета. Пока делаешь первые несколько затяжек, ее вкус прекрасен и ты даже мысли не допускаешь, что она когда-нибудь кончится. Потом начинаешь воспринимать ее как нечто само собой разумеющееся. И вдруг осознаешь, что она догорела уже почти до фильтра. И тогда начинаешь чувствовать ее горький вкус.
– Со мной не так: я всегда чувствую и неприятный вкус, и то, что она скоро кончится, – сказала она.
– Тогда тебе следует бросить курить.
– Какой же ты вредный! – воскликнула она.
– Да никакой я не вредный! – вскинулся он и чуть не расплескал свою стопку, приподнимаясь на локте, чтобы выпить. – Это всего лишь логика, понимаешь? Да жизнь вообще, на мой взгляд, это привычка вроде курения. Все говоришь, что бросишь, бросишь, а сам не бросаешь.
– Ты-то, как я погляжу, ничего бросать даже не собираешься, – с ноткой осуждения сказала она.
– Да с какой стати? Хочу, чтобы все продолжалось.
– Но ты ведь все время жалуешься.
– Ну жалуюсь, но не на жизнь же, а всего лишь на человечество в лице некоторых его представителей.






