Под покровом небес Боулз Пол
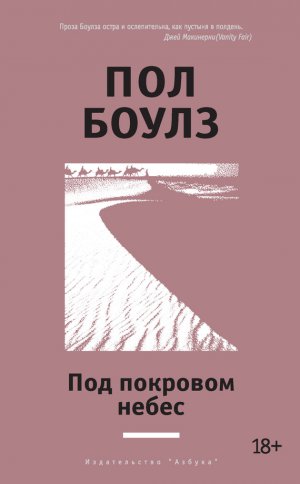
В течение нескольких минут она пыталась смягчать толчки автобуса, прильнув всем телом к спинке его сиденья, но у нее скоро устали мышцы, она опять откинулась и расслабилась, позволив его голове прыгать вверх-вниз у нее на груди. Его рука, лежавшая у нее на коленях, поискала и нашла ее руку – сперва крепко стиснула, потом хватка ослабла. Она решила, что он заснул, и тоже прикрыла глаза, думая: «Ну вот, теперь все, никуда не денешься. Попалась».
На рассвете они приехали в очередной бордж, расположенный на совершенно плоском месте. Автобус въехал в ворота и оказался во дворе, где стояло несколько шатров. Через окно прямо в лицо Кит надменно уставился верблюд. Пассажиры вышли, на этот раз все. Она разбудила Порта.
– Позавтракать не хочешь? – спросила она.
– Не знаю, даже самому не верится, но есть немножко хочется.
– Почему же не верится? – сказала она очень радужным тоном. – Утро. Почти что шесть часов уже.
Они опять попили черного кофе, поели крутых яиц и фиников. Когда, сев на пол, ели, мимо прошел молодой араб, который сообщил ей название того, предыдущего борджа. Помимо собственной воли Кит отметила, что он необычайно высок ростом и очень импозантно смотрится, когда, вот так выпрямившись, стоит в своих струящихся белых одеждах. Чтобы сгладить чувство вины (как это она могла что-то там еще о нем думать!), ей понадобилось привлечь к нему внимание Порта.
– Смотри, вон тот – какой клевый! – услышала она собственный голос; араб ушел.
Словечко было вовсе не ее и прозвучало в ее устах дико и ненатурально. Смутившись, она ждала, что скажет Порт. Но Порт схватился за живот; его лицо стало белым.
– Что с тобой? – вскрикнула она.
– Не отпускай автобус, – проронил он. Неуверенно встал на ноги и стремительно выскочил из комнаты.
Ковыляя в сопровождении какого-то мальчишки, он пересек широкий двор, прошел мимо шатров, около которых горели костры и плакали младенцы. Он шел, согнувшись пополам и держась одной рукой за голову, а другой за живот.
В дальнем углу оказалась крошечная каменная будка вроде орудийной башни, к ней-то и вел его мальчик.
– Sao daoua,[75] – сказал он.
Порт поднялся на две ступеньки и вошел, дощатая дверь за ним захлопнулась. Внутри стояла тьма и вонища. Опершись о холодную каменную стену, услышал, как рвется задетая головой паутина. Боль была какой-то двоякой: живот пронзали сильнейшие колики и подступала тошнота, причем все это сразу и одномоментно. Некоторое время он постоял, сглатывая и тяжело дыша. Весь слабый свет, какой был в будочке, проникал туда через квадратную дыру в полу. Что-то быстро пробежало по его шее сзади. Он отступил от стены и склонился над дырой, обеими руками держась за стену напротив. Внизу виднелась загаженная земля и покрытые кляксами и брызгами камни, шевелящиеся от мух. Он закрыл глаза и несколько минут оставался в этой позе ожидания, временами постанывая. Водитель автобуса принялся дудеть в клаксон; почему-то этот звук усилил страдания Порта.
– О господи, да заткнись ты! – крикнул он во весь голос и сразу же застонал.
Но гудки продолжались, короткие сигналы стали перемежаться длинными. В конце концов пришел момент, когда возникло ощущение, что боль вдруг стихла. Он открыл глаза и непроизвольно дернулся вверх, потому что на миг ему показалось, что снизу полыхнуло. Это было рассветное солнце, засиявшее на обгаженных камнях. Когда он открыл дверь, за нею стояли Кит и молодой араб; взявшись с двух сторон, они помогли ему дойти до ожидающего автобуса.
По мере того как созревало утро, пейзаж набирался какой-то новой мягкости, становясь, пожалуй, даже веселее, но был совершенно несравним ни с чем из того, что Кит когда-либо видела. Вдруг она поняла: это потому, что камень понемногу уступает место пескам. Среди песков там и сям росли прозрачные кружевные деревья, особенно в местах, где наблюдались скопления хижин, и эти места стали попадаться все чаще. Несколько раз им встречались группы смуглых людей верхом на верблюдах мехари. Гордо на них восседая, мужчины небрежно держали поводья, а их насурьмленные глаза над почти полностью скрывающим лицо густо-синим платком смотрели с вызовом.
Впервые она испытала некоторый всплеск интереса. «Надо же, – подумала она, – и правда впечатляет, когда в наш атомный век тебе встречаются подобные типы».
Порт сидел, закрыв глаза и откинувшись в кресле.
– Ты просто забудь, что я тут, – сказал он, когда они выезжали из борджа, – мне так будет легче с этой мутотой справляться. Осталось-то всего несколько часов: потом, даст бог, в постель.
Молодой араб владел французским как раз настолько, чтобы абсолютная невозможность настоящего разговора с Кит не страшила его и не вызывала в нем неприязни. Ему, похоже, казалось, что одного какого-нибудь существительного или глагола, изреченного с чувством, вполне достаточно, и она старалась его не разубеждать. С обычным для арабов талантом простое перечисление фактов превращать в легенду он рассказал ей об Эль-Гаа с его высокими стенами и воротами, которые запирают на ночь, о том, как тихо на его темных улицах, и о его огромном базаре, где продают много всякой всячины, которую привозят из Судана или из мест еще более отдаленных: это и соль в брусках, и страусиные перья, золотой песок, шкуры леопардов… Он перечислял все это длинным списком, не останавливаясь перед тем, чтобы, когда французское слово не подворачивалось, вставлять наименование товара по-арабски. Она слушала с полным вниманием, загипнотизированная его необычайно обаятельным лицом и голосом и очарованная экзотичностью того, о чем он говорил, вкупе со странностью способа их общения.
Вокруг теперь простирались песчаные пустоши, кое-где поросшие чахлыми деревцами, будто изломанными в попытках скорчиться пониже под губительным, смертельным солнцем. Небесная голубизна впереди тем временем стала превращаться в белизну такого жестокого каления, что ничего подобного Кит даже не предполагала возможным; это оказалось небо над городом. Не успела она оглянуться, как они уже катили по улице меж серых глинобитных стен. Вслед проезжающему автобусу кричали дети колючими, как яркие иголки, голосами. Глаза Порта были по-прежнему закрыты; она решила не беспокоить его, пока не приедут. Круто повернули налево в поднятую их же автобусом тучу пыли и, въехав в ворота, попали на огромную пустую площадь – этакое преддверие города; в другом конце площади видны были опять ворота, размером еще больше первых. За ними люди и животные исчезали, поглощаемые тьмой. Автобус, дернувшись, остановился, водитель торопливо выскочил и поспешил куда-то с таким видом – дескать, знать вас не знаю и видеть больше не хочу. Пассажиры еще спали или, позевывая, начинали озираться в поисках своих пожитков, которые по большей части оказывались вовсе не там, куда их клали вечером.
Словами и жестами Кит объяснила, что они с Портом будут оставаться на местах, пока не выйдут остальные. Молодой араб сказал, что в таком случае он тоже останется, потому что Кит понадобится его помощь, чтобы отвести Порта в отель. Пока сидели, ждали, когда все пассажиры лениво вылезут, он объяснил, что отель находится на другом конце города, рядом с крепостью – ведь он и предназначен почти исключительно для новых офицеров, у кого еще нет домов, потому что очень редко кто из приехавших на автобусе нуждается в отеле.
– Вы очень добры, – сказала она, откинувшись в кресле.
– Точно да, мадам.
Его лицо не выражало ничего, кроме дружелюбной заботливости, и она доверилась ему безоговорочно.
Когда наконец пассажиры освободили салон автобуса, оставив на полу и сиденьях россыпи гранатовых шкурок и финиковых косточек, он встал и вышел, сразу обратившись к группе мужчин с просьбой помочь донести багаж.
– Мы приехали! – громким голосом проговорила Кит.
Порт шевельнулся, открыл глаза и сказал:
– Надо же, под конец я заснул. Что за кошмарная поездка. А где отель?
– Он где-то тут, неподалеку, – уклончиво ответила она; говорить ему, что отель на другом конце города, не хотелось.
Он медленно сел прямее.
– Господи, надеюсь, что далеко идти не придется. Если это не так, не знаю даже, как дойду. Чувствую себя – просто жуть. В самом деле – кошмарная жуть!
– Тут один араб нам помогает. Он нас туда отведет. По его словам выходит, что отель где-то не совсем рядом с вокзалом.
Сообщив ему правду от имени араба, она воспряла духом: осталась как бы ни при чем, чтобы если Порт разозлится, то не на нее.
Снаружи лежал все тот же пыльный разор и беспорядок Африки, новым было то, что впервые он не носил никаких видимых следов европейского влияния, а в результате сцену отличала особого рода чистота, которой все прежние города были лишены, – этакое неожиданное совершенство, и оно странным образом сглаживало ощущение хаоса. Даже Порту, когда они его вывели, бросилась в глаза прелесть этого места.
– Как здесь здорово! – сказал он. – Насколько я способен видеть, во всяком случае.
– Насколько ты способен видеть? – эхом повторила Кит. – У тебя что-то с глазами?
– Да у меня плывет все. Это из-за температуры, как я понимаю.
Она пощупала его лоб, но сказала лишь:
– Что же мы на солнце-то стоим?
Молодой араб подошел к нему слева, Кит справа; взяли под локти. Носильщики уже ушли вперед.
– Первое приличное место, – горько сказал Порт, – а я в таком виде.
– Ты будешь лежать не вставая, пока совершенно не поправишься. А все тут исследовать у нас еще будет куча времени.
Он не ответил. Они вошли во внутренние ворота и сразу оказались в длинном извилистом тоннеле. Встречные расходились с ними во тьме впритирку. Вдоль стен по сторонам сидели люди, доносились их приглушенные голоса, нараспев произносящие длинные повторяющиеся фразы. Скоро снова вышли на солнце, потом опять проход по темноте, где улица буравила насквозь толстостенные дома.
– А он не сказал тебе, где это? Я уже на последнем издыхании, – сказал Порт. Ни разу он не обратился напрямую к арабу.
– Дэсат… пять тнадсат мхынут, – сказал молодой араб.
Порт все еще его игнорировал.
– Нет, это исключено, – сказал он Кит, ловя ртом воздух.
– Ну мальчик мой, ну милый, надо дойти. Не можешь же ты просто сесть здесь посреди улицы.
– В чем дэло? – спросил араб, наблюдавший за их лицами.
Когда ему объяснили, он остановил проходившего мимо незнакомца и коротко с ним переговорил.
– Fondouk.[76] Тут, нэдалэко. Если вонн туда. – Он показал куда. – Он может… – «спать», приложив руку к щеке, показал он жестом. – А мы пхойты в отель, взять лудэй и rfed,[77] trs bien.[78] – Он сделал вид, будто сейчас сгребет Порта в охапку и унесет на руках.
– Нет-нет! – вскричала Кит, думая, что их помощник готов и впрямь сейчас же поднять Порта на руки.
Араб улыбнулся и спросил Порта:
– Вы хотеть туда?
– Да.
Повернув обратно, они опяь двинулись сквозь крытый лабиринт. Снова молодой араб заговорил с кем-то на улице. Вернулся к ним, улыбаясь.
– Канэц. Следующий тхомный мэсто.
Искомый фондук оказался маленькой, переполненной и грязной версией борджа, которых они за последние недели навидались, разве что двор здесь был прикрыт решеткой с жиденьким настилом из камыша для защиты от солнца. Во дворе теснился местный люд и верблюды, причем все валялись на земле вповалку – люди вместе с верблюдами. Что ж, вошли в помещение, там араб поговорил с одним из охранников, тот очистил от постояльцев какое-то стойло и кинул в угол охапку свежей соломы, чтобы Порту было куда лечь. Носильщики с багажом, оставшись во дворе, сели на чемоданы.
– Я не могу тебя здесь оставить, – сказала Кит, оглядывая грязную клетушку. – Да руку-то! Руку подвинь!
Оказывается, его рука угодила прямо в россыпь сероватых и круглых, как каштаны, катышков верблюжьего помета, но он не стал менять ее положение.
– Давай иди, пожалуйста, – сказал он. – Ну, быстро! Я прекрасно тебя дождусь. Только давай быстрее. Прошу тебя, побыстрей!
Окинув его исполненным боли взглядом, она вышла во двор, араб за ней следом. Возможность идти по улице скорым шагом ощущалась как облегчение.
– Vite! Vite![79] – как заведенная повторяла она арабу.
Запыхавшись, они проталкивались сквозь медлительную толпу, сперва все ближе к центру, а потом от него отдаляясь к другой окраине, пока не увидели впереди увенчанную крепостью гору. В этой своей части город раскинулся более привольно и состоял в основном из садов, отделенных от улицы глухими стенами, над которыми изредка торчали высокие черные кипарисы. В конце одного такого длинного прохода нашли почти незаметную деревянную табличку с написанными краской словами: «Htel du Ksar»[80] и стрелкой, указующей влево.
– Ах! – вырвалось у Кит.
Даже здесь, на самом краю города, улицы сбивали с толку: все было устроено так, чтобы каждый проход казался тупиком с неприступной стеной в конце. Три раза они были вынуждены возвращаться и искать дорогу заново. Нигде не было никаких дверей, не было также ни киосков, где можно было бы спросить, и ни единого прохожего тоже не было – одни бесчувственные розовые стены, прожаренные свирепым солнцем.
В конце концов нашли крошечную, но крепко запертую дверку в середине огромной стены. «Entre de l’Htel»[81] – гласила табличка над дверью. Араб громко постучал.
Время шло, отклика не было. У Кит до боли пересохло в горле, сердце все еще колотилось часто-часто. Она закрыла глаза и прислушалась. Нет, тишина.
– Постучите снова, – сказала она и протянула руку, чтобы сделать это самой.
Но дверное кольцо все еще было в его руке, и постучал он, но более энергично. На этот раз где-то за стеной в глубине сада залаяла собака, лай стал постепенно приближаться, смешиваясь с сердитыми окриками.
– Escoot! Ekhras![82] – надрывалась женщина, но пес не унимался.
Потом несколько раз стукнул ударивший оземь камень, и лай прекратился. В нетерпении Кит оторвала руку араба от кольца и принялась настойчиво колотить; колотила до тех пор, пока все тот же женский голос не послышался у самой двери:
– Echkoun? Echkoun?[83]
Женщина и молодой араб вступили в длительные пререкания, в ходе которых, странно и преувеличенно жестикулируя, он требовал, чтобы она открыла дверь, а та наотрез отказывалась. В конце концов женщина ушла. Было слышно, как она шаркает тапками по дорожке, потом пес залаял снова, опять последовал окрик женщины, потом пса чем-то пару раз огрели, он взвыл, и наступила тишина.
– В чем дело? – в отчаянии воскликнула Кит. – Pourquoi on ne nous laisse pas entrer?[84]
Араб улыбнулся и пожал плечами.
– Мадам сычас, – сказал он. – Будэт кончить.
– Ах, боже мой! – вырвалось у нее по-английски.
Она схватилась за кольцо и давай им яростно греметь, одновременно что есть силы пиная в дверь ногой. Дверь не подавалась. Все еще улыбаясь, араб покачал из стороны в сторону головой.
– Peut pas,[85] – сказал он.
Но она продолжала ломиться. Понимая, что ее помощник тут совершенно ни при чем, она все же на него обозлилась: почему не смог заставить женщину открыть дверь! Чуть погодя она эти свои попытки бросила, почувствовав, что вот-вот упадет в обморок. Она вся дрожала от усталости, а рот и глотка были словно из ржавой жести. Солнце жарило голую землю: ни дюйма тени, разве что у самых ног. На ум пришло воспоминание о том, как много раз, бывало, она, девчонка, наводила увеличительное стекло на какое-нибудь несчастное насекомое, которое ползло, изо всех сил пытаясь скрыться от все более жгучего фокуса линзы, пока не попадало наконец под ослепительную точечку света; тогда насекомое вдруг, как по волшебству, переставало бежать, и она смотрела, как оно, медленно скорчившись, начинает дымиться. Вот и сейчас тоже – возникло такое чувство, будто, если посмотришь вверх, окажется, что солнце выросло до чудовищных размеров. Она прислонилась к стене и стала ждать.
Через какое-то время в саду послышались шаги. Она слушала, как их звук становится яснее и громче, пока шаги не замерли у самой двери. Она ждала, когда дверь откроется, даже не поворачивая головы. Однако этого не случилось.
– Qui est l?[86] – сказал женский голос.
Из опасения, что заговорит молодой араб и ему откажут в допуске из-за того, что он местный, Кит собрала все силы и выкрикнула:
– Vous tes la propritaire?[87]
Повисла короткая пауза. Потом женщина, говорившая с корсиканским или итальянским акцентом, разразилась длинной и страстной речью:
– Ah, madame, allez vous en, je vous en supplie!.. Vous ne pouvez pas entrer ici![88] Я сожалею! Но настаивать бесполезно. Я не могу вас сюда впустить! Больше недели уже никто не входит и не выходит из отеля. Это ужасно, но я не могу вас впустить!
– Но, мадам, – крикнула Кит, почти плача, – у меня очень болен муж!
– Ae![89] – Голос женщины сделался тоном выше, вместе с тем у Кит возникло подозрение, что женщина отошла на несколько шагов вглубь сада; ее голос, ставший более отдаленным, тут же это подтвердил. – Ah, mon dieu![90] Уходите! Я ничего не могу сделать!
– Но куда? – взмолилась Кит. – Куда мне идти?
Женщина была уже на полпути через сад к дому. Она лишь остановилась и крикнула:
– Уезжайте из Эль-Гаа! Вообще вон из города! При всем желании я не могу вас впустить. У нас тут пока нет эпидемии. Но это только здесь, в отеле.
Молодой араб попытался увести Кит. Он не понял ничего, кроме того, что в отель их не пустят.
– Пойдем. Мы найти фондук, – твердил он.
Она высвободилась и, сложив ладони рупором, крикнула:
– Мадам, а что за эпидемия?
Ответ пришел откуда-то уже совсем издали.
– Так это… Менингит! А вы не знали? Mais oui, madame! Partez! Partez![91]
Звук ее торопливых шагов сделался слабее и наконец затих. Из-за угла вышел какой-то мужчина, видимо слепой, он медленно к ним приближался, держась за стену. Широко распахнутыми глазами Кит посмотрела на молодого араба. В это время она говорила себе: «Что ж, это действительно критический момент. В жизни таких случаются считаные единицы. Я должна быть спокойной и думать, думать!» Тот, все еще ничего не понимая, при виде ее вытаращенных глаз ободряюще положил руку ей на плечо и сказал:
– Yallah![92] Пойдем уже, да?
<>Она не слышала его, но дала оторвать себя от стены как раз перед тем, как к ним приблизился слепой. После чего араб повел ее по улицам обратно в город, а она все думала про то, какой это критический момент. Этот ее самогипноз прервала лишь внезапная темнота в очередном тоннеле.– Куда мы идем? – спросила она.
Вопрос этот очень ему польстил: в нем он услышал признание того, насколько она ему доверяет.
– Фондук, – ответил он, но в то, как он произнес это слово, должно быть, вкрался отзвук победительного торжества, потому что, резко остановившись, она от него отшатнулась.
– Diri balik![93] – вдруг услышала она у себя над ухом, и в тот же миг ее чуть не сшиб с ног какой-то мужик с огромным тюком.
Вовремя подхватив под локоть, молодой араб мягко потянул ее к себе.
– А, в фондук, – будто очнувшись, повторила она. – Да-да…
И они двинулись дальше.
Порт в своем шумном стойле вроде бы спал. Его рука по-прежнему лежала на катышках верблюжьего навоза; значит, с тех пор он не двигался вообще. Тем не менее больной услышал, как они вошли, и, шевельнувшись, дал понять, что сознает их присутствие. Присев на корточки в соломе рядом с ним, Кит пригладила ему волосы. Что ему сказать, она не имела понятия; что делать дальше, естественно, тоже, но сама возможность быть с ним рядом, быть близко, в какой-то мере утешала. Она долго сидела на корточках, пока у нее не начало ломить суставы. Тогда встала. Молодой араб сидел на земле за дверью. «Порт не сказал ни слова, – думала она, – но он ждет, когда же люди, присланные из отеля, явятся, чтобы забрать его». На данный момент самой трудной частью ее задачи было сообщить о том, что в Эль-Гаа им остановиться негде, и она решила не говорить ему ничего. В то же время, в каком направлении надо действовать, ей было ясно. То есть она знала, что будет делать.
И принялась за дело немедленно. Молодого араба сразу послала на базар. Бери любую машину – сгодится любой грузовик, любой автобус, сказала она ему, при этом цена не имеет значения. Впрочем, заключительную часть предписания он, конечно же, пропустил мимо ушей и провел там чуть ли не час, торгуясь по поводу цены, за которую в кузов грузовика, который под вечер отправится с продуктами в поселок под названием Сба, согласятся посадить троих. Но вернулся он, все устроив. По окончании погрузки водитель подъедет к Новым воротам – это ближайшие к фондуку – и пришлет своего приятеля-механика: во-первых, известить их о том, что их уже ждут, а во-вторых, нанять людей, которые помогут нести Порта по городу к машине.
– Это еще повезло, – сказал молодой араб. – Два раза уахад-дин месяц они ездить Сба.
Кит поблагодарила его. За все время его отсутствия Порт ни разу не шевельнулся, и она не решалась его будить. Но вот она встала на колени и, приблизив губы к его уху, стала раз за разом тихонько повторять его имя.
– Да, Кит, – наконец сказал он очень слабым голосом.
– Как ты? – прошептала она.
Он долго чего-то ждал, прежде чем ответить.
– Сплю вот, не могу, – сказал он.
Она потрепала его по голове.
– Спи, спи пока. Скоро люди придут, подожди немножко.
Но пришли за ними только на закате. Молодой араб тем временем ушел, чтобы принести Кит чего-нибудь поесть. Несмотря на волчий аппетит, в тарелке, которую он принес, она едва поковырялась: под видом мяса там были куски не поддающейся опознанию требухи, зажаренной в кипящем жиру, а на гарнир предлагалась порезанная на половинки айва, приготовленная на оливковом масле – такая жесткая, что не прокусишь. Хорошо хоть к этому был хлеб – его-то она в основном и ела. Когда дневной свет начал меркнуть и люди во дворе принялись готовить ужин, прибыл механик с тремя зверского вида неграми. По-французски никто из них не говорил. Молодой араб указал им на Порта, и они сразу же бесцеремонно подняли его с соломенного ложа и понесли на улицу; Кит старалась держаться к его голове как можно ближе, следя, чтобы она у него не свисала слишком низко. Они быстро шли по темнеющим проходам, потом через рынок, где продавали коз и верблюдов; на рынке в этот час стояла тишина, нарушаемая лишь тихим позвякиваньем колокольчиков, повешенных на шею некоторым из животных. Скоро они были уже за городской стеной, где выхваченный фарами грузовика крохотный клочок земли обступала огромная темная пустыня.
– Вызад. Его грузить вызад, – в порядке объяснения сказал ей молодой араб, и трое негров опустили свою вялую ношу на мешки с картофелем.
Она дала арабу денег, попросив распределить их между суданцами-носильщиками. Дала, как выяснилось, недостаточно; пришлось добавить. Потом они ушли. Шофер немного погонял мотор на холостых, механик запрыгнул на сиденье с ним рядом и захлопнул дверцу. Молодой араб помог Кит залезть в кузов, и она там втиснулась стоя, опершись на штабель ящиков с вином и глядя на него сверху. Он дернулся было запрыгнуть к ней, но в этот момент грузовик тронулся. Молодой араб побежал следом: он явно ждал, что Кит попросит водителя остановиться; очень уж ему хотелось сопровождать ее и дальше. Но она, едва успев восстановить равновесие, нарочно низко присела, а потом и легла среди мешков и свертков на пол рядом с Портом. И за борта не выглядывала, пока они не углубились в пустыню на несколько миль. Только тогда она со страхом оглянулась, приподняв голову и бросив быстрый взгляд на дорогу сзади; она словно ожидала увидеть, что араб все еще гонится за ней, так и бежит, бежит среди холодных пустошей по следам машины.
Грузовик ехал резвее, чем она ожидала, – возможно, потому, что дорога была хотя и грунтовой, но довольно гладкой и даже не очень петляла; их путь, похоже, лежал по дну прямой бесконечной долины, по обе стороны от которой вдалеке виднелись высокие песчаные барханы. Подняв глаза, она поискала месяц: все еще тонкий серпик, но уже – да, по сравнению с прошлой ночью прибавил довольно заметно. Поежившись, она положила сумочку себе на грудь. На мгновение ей стало будто даже теплее, когда она представила себе таящийся в ней темный, уютный мирок, в котором пахнет кожей и косметикой; ладно уж, пусть полежит, отделяя враждебный воздух от ее тела. Там хорошо, там ничего не изменилось: все те же мелкие штучки трутся друг о дружку, сохраняя все тот же вряд ли порядок, но и не хаос ведь, правда же? Да сами названия их уже греют сердце – хотя бы тем, что все те же, не поменялись, не подвели. «Марк Кросс», «Карон», «Элена Рубинштейн»…
– Элена Рубинштейн, – сказала она вслух и помимо воли усмехнулась.
«Так, стоп! – сказала она себе. – Еще минута, и со мной будет истерика». Схватила Порта за руку (боже, совсем вялая, холодная!) и стиснула его ладонь что было сил. Потом села прямо и все свое внимание посвятила руке: стала гладить ее, растирать и массировать, надеясь, что эти действия дадут ей возможность почувствовать, как эта рука оживает, делается теплее. Внезапно нахлынул ужас. Уже свою руку она приложила к его груди. Да, бьется, ну конечно же, сердце бьется! Но ему, наверное, холодно. Собрав все силы, она повернула его на бок и вытянулась у него за спиной, прижавшись как можно плотнее и тесней и надеясь таким образом не дать ему простыть. Расслабилась и тут сообразила, что и самой ей тоже ведь было холодновато, зато теперь стало комфортнее. И сразу мысль: а вдруг ее порыв лечь рядом с Портом был вызван подсознательным желанием согреться самой? «А ведь и впрямь, иначе бы мне это и в голову не пришло!» Потом она немного поспала.
Проснулась от испуга. Естественно: теперь, когда голова у нее прояснилась, ее и должен был обуять ужас. Какое-то время она пыталась не думать о его причине. Нет, Порт тут ни при чем. Порт – уже нечто давнее, а это новый ужас, совсем свеженький, связанный с солнцем, пылью… Противясь тому, чтобы новая мысль во всей красе разворачивалась в сознании, она изо всех сил старалась к ней не приглядываться, смотреть мимо. Но не потребовалось и доли секунды, чтобы уже нельзя было не понять… Надо же! Менингит!
Эль-Гаа охвачен эпидемией, а она целый день там ходила туда-сюда. В жарких тоннелях улиц вдыхала отравленный воздух, сидела на зараженной соломе в фондуке. Зараза наверняка в нее уже проникла, укоренилась и размножается. При мысли об этом она ощутила, как у нее цепенеет спина. Но у Порта не может быть менингита: он мерзнет еще с Айн-Крорфы, а первые признаки жара и лихорадки можно было заметить, когда только приехали в Бунуру, если бы хватило соображения присмотреться. Она попыталась вспомнить все, что знает о симптомах – и не только менингита, но и других заразных болезней. Дифтерия начинается с боли в горле, холера с поноса, а вот тиф, как сыпной, так и брюшной, а также чума, малярия, желтая лихорадка и лихорадка дум-дум – все эти болезни, насколько она помнила, проявляются первым делом в виде озноба и разного рода недомогания. Вот и гадай тут. «Возможно, это амебная дизентерия в сочетании с рецидивом малярии, – рассуждала она. – Но что бы это ни было, он уже болен и ничто из того, что я сделаю или не сделаю, не сможет повлиять на исход болезни». Ей не хотелось принимать на себя какую-либо ответственность: на данный момент такая ноша казалась ей неподъемной. Но в принципе она, как это ей представлялось, держится пока вполне на уровне. Вспоминались истории о всяких ужасах, происходивших на войне, и каждый раз мораль этих историй состояла в том, что никогда не знаешь, каков человек на самом деле, пока не увидишь его в критической ситуации; при этом бывает, что самые робкие оказываются наипервейшими храбрецами. Вот интересно, думала она, со мной-то как, это у меня храбрость или покорность судьбе? А может, и вовсе трусость? Такое тоже возможно, и ведь не поймешь! Порт тоже этого не скажет: он и сам понимает в этом еще меньше ее. Конечно, если она будет с ним нянчиться и проведет его через все, что ему уготовано, он несомненно скажет ей, что она была храброй, что она страдалица, и много еще всякого наговорит, но все это будет из одной только благодарности. Тут она вдруг подумала: а зачем? Зачем ей знать эти вещи – ведь это все чушь несусветная, да еще и в такой момент!
Грузовик, громыхая, катил все дальше. Слава богу, сзади кузов был полностью открыт, иначе было бы не продохнуть от выхлопных газов. Время от времени их острый запашок все же чувствовался, но в следующий миг исчезал, растворившись в холодном ночном воздухе. Месяц исчез, с пустого неба светили звезды, но поздно ли сейчас или рано, Кит не имела понятия. Если водитель с механиком и вели между собой какие-либо разговоры, то их заглушал рев мотора, из-за которого и она тоже совершенно не могла с ними общаться. Она обхватила руками талию Порта и потесней прижала его к себе для тепла. «Что бы у него там ни было, дышит он сейчас в другую сторону, не на меня», – подумала она. Проваливаясь в сон, в поисках тепла она зарывалась ногами под узлы и свертки; подчас их вес заставлял ее просыпаться, но тяжесть была предпочтительнее холода. Порту она тоже накрыла ноги какими-то пустыми мешками. Ночь была долгой-долгой.
XXII
От холода в какой-то мере защищенный благодаря усилиям Кит, он лежал в кузове грузовика и, время от времени приходя в чувство, снова и снова удивлялся тому, насколько путь прям. Извилистые дороги, по которым их носило последние недели, исчезли напрочь, стерлись даже из памяти; эта же вела прямым и неуклонным курсом вглубь пустыни, куда он проник уже чуть не до самого центра.
Друзья, завидуя его жизни, бывало, пожимали плечами: «Твоя жизнь так проста! А путь по ней всегда будто вычерчен по линейке». Каждый раз, слыша подобные слова, он в них улавливал скрытый упрек: дескать, конечно, тебе легко прокладывать прямую дорогу по голой равнине, где нет ни деревца. При этом чувствовалось, что в действительности они имеют в виду другое: «Тоже мне, дело себе нашел! Легчайшее из легких». Но если им так хочется собственноручно усеивать свой путь препятствиями (что они все время и делают, обременяя себя разного рода ненужными обязательствами и узами), это не значит, что они имеют право морщить нос, когда он свою жизнь упрощает. Так что отвечал он на это не без раздражения: «Каждый живет как хочет, правильно?» – тем самым давая понять, что развивать эту тему бессмысленно.
Когда они сошли с парохода, иммиграционным властям не понравилось, что в его документах после слова «профессия» было пустое место. (Надо же, этот паспорт, официальное свидетельство его существования, теперь и вовсе неизвестно где, отстал и гонится за ними по пустыне!) Ему сказали: «Мсье! Ну должен же у вас быть какой-то род занятий!» В ту же секунду Кит, опасаясь, что он, пожалуй, еще и спорить начнет, торопливо вставила: «А, ну конечно! Да, мсье писатель, просто он скромничает!» Все посмеялись, в пустую графу вставили слово «экриван»[94] и пожелали ему в Сахаре обрести вдохновение. Какое-то время он кипел, его возмутило это их тупое упрямство, стремление непременно снабдить его ярлыком, приписать к какой-нибудь tat-civil.[95] Потом, через пару часов, идея и впрямь написать книгу стала казаться ему занятной. А что, можно вести дневник, каждый вечер записывать туда мысли и впечатления, накопившиеся за день, для достоверности приправляя их местным колоритом, и как-нибудь этак спокойно и недвусмысленно доказать по ходу дела абсолютную справедливость теоремы, которая будет там заявлена в начале, – а именно, что разность между нечто и ничто есть ничто. Об этой своей идее он не обмолвился даже Кит: своим энтузиазмом она бы ее обязательно убила. С тех пор как умер его отец, он не работал больше нигде и ни над чем, поскольку в этом не было необходимости, но Кит не расставалась с надеждой, что он снова начнет писать – не важно что, лишь бы писал, работал. «Когда он работает, он все-таки не так невыносим», – объясняла она знакомым, и это ни в коей мере не было просто шуткой. Когда он виделся с матерью, что бывало редко, та тоже допытывалась: «Ну, ты, вообще-то, как? Работаешь?» – и при этом смотрела на него огромными грустными глазами. «Еще не хватало», – отвечал он, сопровождая слова надменным взглядом. Даже когда уже ехали в отель по нищим улицам на такси (Таннер по дороге все повторял: «Ну и дыра! Вот ведь чертова дыра-то!»), Порт думал о том, что Кит, узнай она о возникшей у него идее, слишком обрадуется; все надо будет держать в тайне, иначе просто ничего не выйдет. Однако потом, когда обустроились в отеле и потекла своим чередом их жизнь (по большей части в «Кафе д’Экмюль-Нуазу»), писать оказалось не о чем: он никак не мог установить в сознании связь между наполняющей их дни пустой тривиальностью и серьезным делом, каким представлялось ему выкладывание слов на бумагу. Все думал, уж не Таннер ли его так напрягает, не дает ему почувствовать себя в достаточной мере раскованно? Присутствие Таннера создавало ситуацию, которая при всей своей неуловимости все же мешала ему войти в состояние вдумчивой рефлексии, каковое он полагал необходимым. И то сказать: пока ты свою жизнь проживаешь, описывать ее невозможно. Что-то одно отходит, другое начинается, а ведь даже самого малого твоего соучастия в каждодневных жизненных событиях уже довольно для того, чтобы вытеснить писательство за грань возможного. Да и пускай. Все равно хорошо писать у него не выходило бы, и удовольствия он бы от этого не получал. А даже если бы в результате вышло что-то приличное, много ли народу об этом узнает? Так что все правильно: вперед, скорей в пустыню, не оставляя за собой следа.
Внезапно ему вспомнилось, что они вроде бы едут в Эль-Гаа, чтобы там поселиться в отеле. Едут уже вторую ночь, а все еще никуда не приехали; где-то тут есть противоречие, это он понимал, но энергии на то, чтобы доискиваться истины, не было совершенно. Временами он чувствовал, как ярится в нем болезнь, будто отдельная живая сущность; она представала ему в виде игрока в бейсбол, который взмахивает битой, вот-вот произведет удар по мячу. Который одновременно он сам. Сперва его крутят и так и сяк, а потом он взвивается в небо и несется, в полете исчезая.
Над ним кто-то стоит. А перед тем шла долгая борьба, и он очень устал. Кто стоит? Кит – это раз, а два – какой-то солдат, военый. Разговаривают, но говорят что-то непонятное, не имеющее смысла. И он вновь, оставив их над собой стоять, ныряет туда, откуда ненадолго появлялся.
– Здесь ему будет не хуже, чем где бы то ни было, раз уж вы все равно южнее Сиди-бель-Аббеса, – говорил военный. – При брюшном тифе все, что можно сделать, даже в больнице, это по возможности сбивать температуру и ждать. По части медицины у нас тут в Сба возможности не ахти какие, но есть лекарство, – тут он указал на узкий стеклянный цилиндрик с таблетками, лежащий на перевернутом ящике у кровати, – которое поможет сдерживать жар, а это уже немало.
Кит на него не смотрела.
– А если перитонит? – произнесла она тихим голосом.
Капитан Бруссар нахмурился.
– Слушайте, мадам, не надо каркать, – строго сказал он. – Все достаточно серьезно и без этого. В принципе – да, конечно, все может быть: перитонит, пневмония, остановка сердца, кто знает? Да и сами вы, быть может, уже носите в себе этот их знаменитый менингит, о котором вас в Эль-Гаа любезно предупредила мадам Люччиони. Bien sr![96] Да и здесь, в Сба, на данный момент тоже, может быть, имеется что-нибудь около пятидесяти случаев холеры. Но я не стал бы вас о них предупреждать, даже если бы знал точно.
– Почему? – спросила она, подняв на него взгляд.
– Потому что это было бы совершенно бесполезно; кроме того, это бы снизило ваш боевой дух. Нет-нет. Я изолирую больных, принимаю меры, чтобы препятствовать распространению болезни, и ничего больше. Того, что есть в наших руках, всегда достаточно. У нас есть пациент с брюшным тифом. Мы должны сбить температуру. Вот и все. А всякие страшилки про перитонит у него и менингит у вас интересуют меня куда меньше. Вы должны мыслить реалистично, мадам. Будете от этой линии уклоняться – всем сделаете только хуже. Вам всего-то и надо каждые два часа давать ему таблетки и прилагать усилия к тому, чтобы он съедал как можно больше бульона. Повариху зовут Зайна. Неплохо, если вы будете время от времени заходить к ней на кухню и следить, чтобы всегда горел огонь и наготове стояла большая кастрюля с горячим бульоном. Зайна у нас чудо: она готовит нам уже двенадцать лет. Но за туземцами всегда надо присматривать. Постоянно. А то забывают! А сейчас, мадам, если позволите, я все-таки вернусь к работе. К вечеру кто-нибудь из нижних чинов принесет вам тюфяк, как я и обещал. Вам будет не очень удобно, это несомненно, но чего же вы ожидали? Вы в Сба, а не в Париже. – Уже в дверях остановился, обернулся. – Enfin, madame, soyez courageuse![97] – снова нахмурившись, бросил он на прощанье и вышел.
Кит стояла неподвижно, медленно озираясь в пустой маленькой комнатке: на одну сторону дверь, на другую окно. Порт лежал на шаткой койке, отвернувшись к стене, и мерно дышал, натянув одеяло на голову. Эта комната в Сба служила больничной палатой; на всю заставу тут была единственная свободная койка с настоящими простынями и одеялом, и Порту дали занять ее только потому, что никого из служащих гарнизона не угораздило в это время заболеть. Снаружи до половины окна высилась глинобитная стена, но выше было только небо, с которого в комнату лился мучительно яркий свет. Кит взяла вторую простыню, которую капитан выделил для нее, сложила в небольшой прямоугольник по размеру окна, достала из чемодана Порта коробку с кнопками и завесила открытый проем. Уже когда стояла у окна, была поражена тишиной, глубокой и ничем не нарушаемой. Можно было подумать, будто на тысячу миль вокруг нет ни единой живой души. Вот оно, знаменитое молчание Сахары. Интересно, подумала она, неужто все дни, что они пробудут здесь, каждое ее дыхание будет звучать так же громко, как сейчас; привыкнет ли она к странноватому звуку, который при глотании производит во рту слюна; и всегда ли ей нужно будет глотать так часто, как теперь, когда ей это только что открылось?
– Порт, – позвала она очень тихо; он не шевельнулся.
Она вышла из комнаты на слепящий свет, ступила на песок, сплошь устилающий двор. В поле зрения – никого. И ничего, кроме ослепительно белых стен, неподвижного песка под ногами и голубых глубин неба вверху. Сделав несколько шагов, она повернула и возвратилась в комнату: появилось чувство, что она тоже не совсем здорова. Стула, чтобы присесть, в комнате не было – лишь койка и перед ней небольшой ящик. Она села на один из чемоданов. Рядом с ее рукой болталась прицепленная к его ручке магазинная бирка. С надписью: «Отправляясь в дальний путь, чемоданчик не забудь». Комната выглядела как непонятно что: просто какая-то кладовка. Из-за багажа, сваленного посреди пола, в ней не осталось места даже для тюфяка, который должны принести; сумки и чемоданы придется убрать – сложить, например, штабелем в углу. Она посмотрела на свои руки, посмотрела на ноги в лодочках из змеиной кожи. Зеркала в комнате не было; она потянулась к другому чемодану и, выхватив из него сумочку, извлекла из нее пудреницу и помаду. Открыв пудреницу, обнаружила, что в комнате стало темновато: света, чтобы разглядывать лицо в таком маленьком зеркальце, недостаточно. Встала в дверях и подкрасилась, медленно и аккуратно.
– Порт, – снова позвала она, все так же еле слышно.
Он продолжал дышать. Она убрала сумочку в чемодан, заперла его, бросила взгляд на наручные часы и снова вышла на залитый светом двор, на сей раз надев темные очки.
Господствующая над поселком крепость – скопище разрозненных зданий, защищенных извилистой внешней стеной, – сидела на высоком песчаном холме, будто оседлав его. Крепость представляла собой отдельный городок, чуждый окружающему ландшафту и откровенно воинственный по устройству. Охраняющие ворота часовые из местных смотрели на нее с интересом; она вышла. Поселок лежал перед ней внизу – все его одноэтажные домики под плоскими крышами песочного цвета. Она повернула в другую сторону, обогнула стену и немного еще поднялась по склону, пока не оказалась на вершине холма. От жары и яркого света у нее слегка кружилась голова, в туфли то и дело набивался песок. С этой точки ей слышны стали ясные, пронзительные звуки поселка, оставшегося ниже: вот детские голоса, лай собак… На дальнем плане – там, где смыкаются земля и небо, – все это окружала тусклая, быстро пульсирующая дымка.
– Сба, – сказала она вслух.
Это слово ничего ей не говорило, не связывалось даже с нагромождением бесформенных хибарок внизу.
Когда она вернулась в комнату, оказалось, что посреди палаты кто-то оставил гигантский белый фаянсовый ночной горшок. Порт лежал на спине, смотрел в потолок, а все одеяла он с себя сбросил.
Поспешив к его ложу, она его вновь укрыла. Вот только подоткнуть не получилось. Измерила температуру; она стала немного ниже.
– Что-то кровать какая-то… Спине больно, – одышливым голосом неожиданно сказал он.
Отступив назад, она осмотрела койку, тяжело провисшую между изголовьем и ногами.
– Потерпи, это нам скоро исправят, – сказала она. – А теперь будь умницей и не сбрасывай одеяло.
Он устремил на нее укоризненный взгляд.
– Не обязательно разговаривать со мной как с ребенком, – сказал он. – Я ведь по-прежнему… все тот же.
– Наверное, это я просто не подумав, – сказала она и смущенно улыбнулась. – Когда человек болен, это как-то само получается. Прости.
Он все смотрел на нее.
– Меня не обязательно ублажать или еще как-то… – После этого он закрыл глаза и глубоко вздохнул.
Когда доставили тюфяк, она попросила араба, который нес его, сходить за кем-нибудь еще из мужчин. Вместе они подняли Порта с койки и положили на тюфяк, расстеленный на полу. Потом под ее руководством сложили на кровати часть чемоданов. Арабы ушли.
– А где же ты собираешься спать? – спросил Порт.
– Здесь, на полу рядом с тобой, – ответила она.
Больше он ни о чем не спрашивал. Она дала ему выпить таблетки и сказала:
– Все. Спи.
Потом отправилась к воротам и попыталась там поговорить с часовыми, но по-французски они не понимали и только повторяли: «Non, m’si».[98] Пока она пыталась объясниться с ними при помощи жестов, в дверях ближнего дома появился капитан Бруссар и устремил на нее взгляд, в котором сквозило подозрение.
– Вы что-то хотели, мадам? – спросил он.
– Хотела, чтобы кто-нибудь сходил со мной на рынок, помог купить каких-нибудь одеял, – сказала Кит.
– Ah, je regrette, madame,[99] – сказал он. – Сейчас на заставе нет никого, кто мог бы оказать вам такую услугу, а одной туда ходить я не советую. Но если хотите, могу прислать вам одеяла из казармы.
Кит рассыпалась в благодарностях. Вернувшись во внутренний двор, она немного постояла, глядя на дверь отведенной им комнаты и преодолевая в себе нежелание входить. «Тюрьма какая-то, – подумала она. – А я как заключенная. Интересно, надолго ли? Бог знает». Она вошла, села возле двери на чемодан и уставилась в пол. Потом встала, открыла сумку, вытащила оттуда толстый французский роман, купленный еще до того, как они выехали в Бусиф, и попыталась читать. Дойдя до пятой страницы, услышала, что кто-то идет по двору. Это оказался молодой солдат-француз с тремя верблюжьими одеялами в руках. Она встала и, давая ему войти, отступила от двери со словами:
– Ah, merci. Comme vous tes aimable![100]
Но он остановился снаружи и, не заходя в комнату, протянул свою ношу ей. Кит приняла у него одеяла и положила на полу у ног. Когда подняла голову, он уже шел прочь. Слегка озадаченная, она проводила его взглядом, а потом занялась подыскиванием среди своих пожитков каких-нибудь не очень нужных в данный момент вещей, которые можно подложить под одеяла для мягкости. Устроив в конце концов себе постель, она легла на нее и была приятно удивлена ее удобством. И сразу ей непреодолимо захотелось спать. До того времени, когда она должна будет дать Порту лекарство, оставалось полтора часа. Она закрыла глаза и через мгновение оказалась в кузове грузовика, везущего их из Эль-Гаа в Сба. Чувство движения убаюкивало, и она тут же заснула.
Проснулась от ощущения, будто ей чем-то провели по лицу. Резко села и обнаружила, что кругом темно, а по комнате кто-то ходит.
– Порт! – вскрикнула она. Но отозвался женский голос:
– Voici mangi, madame.[101]
Женщина стояла прямо над ней. Еще кто-то тихо прошел с карбидным фонарем по двору. Оказалось – подросток, мальчик; он подошел к двери и, не заходя внутрь, поставил фонарь на пол. Подняв взгляд, Кит увидела женщину; это была коренастая, кряжистая старуха, но ее глаза были молоды и красивы. «Это Зайна», – подумала Кит и обратилась к ней по имени. Улыбнувшись, женщина наклонилась и поставила поднос у постели Кит. Затем вышла.
Кормить Порта было непросто: по большей части бульон проливался мимо рта, тек по шее.
– Может, завтра сможешь все-таки сесть и поесть как следует, – сказала она, вытирая ему рот платком.
– Может, – еле слышно проговорил он.
– О господи! – спохватилась она. Проспала! Время принять таблетки давно прошло.
Пусть с опозданием, она ему их все же скормила и дала запить глотком тепловатой воды. Он скорчил гримасу.
– Ну и вода, – сказал он.
Сунувшись носом в горлышко, она понюхала. Из графина воняло хлоркой. По ошибке она бросила туда таблетку галазона дважды.
– Ничего, – сказала она. – От этого хуже не будет.
Поела с удовольствием: готовила Зайна и впрямь отменно. Еще не закончив есть, бросила взгляд на Порта; тот уже спал. Подобным образом таблетки действовали на него каждый раз. Подумалось, не пойти ли после еды немного прогуляться, но было опасение, что капитан Бруссар мог отдать часовым приказ не пропускать ее. Она вышла во двор и несколько раз обошла его по кругу, глядя на звезды. Где-то в другом конце крепости играли на аккордеоне; музыка доносилась еле-еле. Она вошла в комнату, затворила дверь, заперлась, разделась и легла на свои одеяла рядом с матрасом Порта, придвинув поближе к изголовью лампу, чтобы читать. Но свет был слабоват и неровен, он колебался так, что начинали болеть глаза, да и запах от лампы шел прескверный. Скрепя сердце задула пламя, и комната вновь погрузилась в кромешную тьму. Едва успев лечь, она снова вскочила и принялась шарить рукой по полу в поисках спичек. Зажгла лампу, которая, с тех пор как она ее задула, стала вонять, похоже, еще сильнее, и проговорила как бы про себя, беззвучно шевеля губами:
– Каждые два часа. Каждые два часа.
Проснулась ночью от щекотки в носу. Сперва подумала, виноват запах лампы, но, проведя рукой по лицу, почувствовала на коже песок. Провела пальцами по подушке – та оказалась покрыта толстым слоем пыли. Тут до нее дошло: снаружи-то вон ветер как шумит! Шум был похож на гром морского прибоя. Опасаясь разбудить Порта, она пыталась подавить чихательный позыв, но тщетно. Встала. Ей показалось, что в комнате холодновато. Накрыла Порта его халатом. Потом вынула из чемодана два больших носовых платка и на бандитский манер обвязала себе одним из них нижнюю часть лица. Другой собиралась как-нибудь приспособить Порту, когда разбудит его, чтобы дать таблетки. Это будет всего через двадцать минут. Она легла и снова расчихалась от пыли, поднявшейся, когда она шевелила одеяло. Потом лежала неподвижно, слушая, как беснуется за дверью ветер.
«Ну вот, я в самом средоточии ужаса», – подумала она, нарочно преувеличивая серьезность ситуации в надежде убедить себя в том, что худшее уже случилось, все самое страшное произошло. Но нет, не сработало. Внезапно налетевший ветер был лишь неким новым предвестником, приметой, связанной с тем, что случится в будущем. Ветер принялся издавать странный звук в щели под дверью: он завывал, как какой-нибудь зверь. Если бы ей хоть отвлечься, расслабиться и жить дальше с полным осознанием того, что надежды нет! Но никакой уверенности, никакого осознания неизбежности не приходило: будущее всегда имеет больше одного направления своего развития. Расстаться с надеждой полностью и то нельзя. Ветер будет дуть, песок откладываться, и каким-нибудь совершенно непредсказуемым образом будущее принесет перемену, которая может быть только ужасающей, поскольку продолжением того, что есть сейчас, не будет.
Весь остаток ночи она провела без сна, регулярно давая Порту таблетки, а в промежутках пытаясь расслабиться. Каждый раз, когда она будила его, он послушно привставал, глотал воду и таблетку, ничего при этом не говоря и даже не открывая глаз. В бледном, болезненном полумраке рассвета она услышала, что он начал всхлипывать. Дернувшись, словно от удара электричеством, она села и уставилась в тот угол, куда он лежал головой. Сердце у нее билось часто-часто – под действием чувства, которое она затруднялась определить. Немного послушав, она решила, что это в ней разыгралось сострадание, и наклонилась, придвинувшись поближе. Всхлипы, которые он издавал, были какими-то механическими, вроде икоты или отрыжки. Мало-помалу ее возбуждение улеглось, но она продолжала сидеть, напряженно слушая оба звука вместе – всхлипы в комнате и вой ветра снаружи. Такие два природных, безличных звука. После внезапной краткой тишины она услышала, как он сказал, причем довольно отчетливо:
– Кит. Кит.
Широко открыв глаза, она отозвалась: «Да?», но больше он ничего не говорил. Просидев так довольно долго, она украдкой заползла опять под одеяло и на какое-то время уснула.
Когда проснулась, заметила, что утро уже входит в силу: с неба, просачиваясь сквозь висящий в воздухе мелкий песок, бьют воспаленные стрелы далекого, косого солнца, а неумолчный ветер, казалось, пытается сдуть и унести протянувшиеся там и сям пока еще слабые полосы света. Она встала и, коченея от холода, стала ходить по комнате, занимаясь приведением себя в порядок. Пылить при этом старалась как можно меньше. Но пыль лежала на всем, чего ни коснись, толстым слоем. А еще она вдруг осознала некий изъян в собственной дееспособности: возникло такое чувство, будто целая область сознания онемела и отнялась. Ощущалось отсутствие чего-то, огромное слепое пятно внутри, но где именно, непоятно. Она наблюдала за собой словно откуда-то издали – какие странные теребящие, шарящие жесты производят ее руки, прежде чем прийти в контакт с предметом туалета или одежды. «Это надо прекратить, – сказала она себе. – Это надо прекратить». Но что при этом имела в виду, сама толком не понимала. Ничего нельзя прекратить: все всегда продолжается.
Пришла Зайна, вся завернутая в огромное белое покрывало и, с трудом захлопнув за собой подхваченную порывом ветра дверь, извлекла из-под складок одеяния небольшой поднос с чайником и стаканом.
– Bonjour, madame. R’mleh bzef,[102] – ткнув рукой в небо, сказала она и поставила поднос на пол рядом с матрасом.
Горячий чай немного взбодрил Кит; она выпила его весь и продолжала сидеть, слушая ветер. Вдруг до нее дошло, что Порту ничего не принесли. Пустой чай – это ему маловато будет. Решила пойти поискать Зайну, чтобы узнать, нельзя ли раздобыть для него хотя бы молока. Она вышла и встала во дворе, взывая: «Зайна! Зайна!» – но ее голос за ревом ветра сделался слаб, а стоило набрать побольше воздуха, на зубах сразу начинали скрипеть песчинки.
Никто не появлялся. Несколько раз сунувшись в какие-то пустые и крошечные, похожие на ниши, комнатенки, Кит обнаружила проход, ведущий на кухню. Зайна была там, сидела скорчившись на полу, но заставить ее понять, чего от нее хочет Кит, так и не удалось. Жестами старуха показала, что сходит сейчас за капитаном Бруссаром и пришлет его прямо к ним. Вновь оказавшись в полутьме палаты, Кит легла на свою подстилку, кашляя и протирая глаза, в которые так и лез налипающий на лицо песок. Порт все еще спал.
Когда пришел капитан, она и сама уже почти спала. Откинув капюшон бурнуса из верблюжьей шерсти, он отряхнул его, смахнул с лица песок, потом закрыл за собой дверь и, сощурясь, вгляделся в темноту. Кит встала. Произвели положенный в подобных случаях обмен вопросами и ответами о состоянии больного. Но когда она спросила его про молоко, он лишь окинул ее печальным взглядом. Молоко сюда завозят консервированное и выдают по карточкам, да и то лишь женщинам с маленькими детьми.
– А так бывает разве что овечье, но оно вечно скисшее, да и в любом случае пить его невозможно, – добавил он.
При этом Кит казалось, что каждый раз, как он на нее ни посмотрит, все как-то испытующе, будто подозревает в неких тайных, предосудительных замыслах. Возмущение, охватившее ее под его недобрым взглядом, помогло ей вновь собрать в себе остатки утраченного чувства реальности. «Наверняка он не на всех так смотрит, – думала она. – Но я-то в чем виновата? Черт бы его побрал!» Однако, чувствуя себя слишком от него зависимой, позволить себе испытать удовлетворение, дав понять, что о нем думает, она не могла. Стояла с видом как можно более несчастным, вытянув правую руку над головой Порта жестом подчеркнутого сострадания, и ждала, надеясь, что сердце капитана растает; она ничуть не сомневалась, что уж сгущенного молока при желании он может достать ей сколько угодно.
– В любом случае, мадам, давать вашему мужу молоко нет никакой необходимости, – сухо сказал он. – Бульона, который по моему приказу вам готовят, вполне достаточно, да и усваивается он лучше. Сейчас я скажу, чтобы Зайна принесла его.






