Под покровом небес Боулз Пол
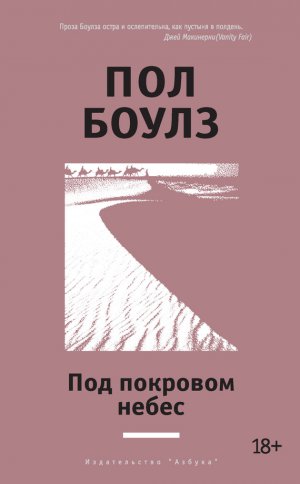
В тот час, когда солнце палило сильней всего, они увидели перед собой оазис. Барханы разгладились, дальше места пошли почти плоские. На дальнем плане, который в слишком ярком свете сделался серым, несколько сотен пальм были сперва всего лишь темной полоской на горизонте – просто линией, которая меняла толщину по мере того, как глаз в нее всматривался; она мерцала и текла, как медленная жидкость… вот расширилась, показался длинный серый утес, потом опять ничего, и снова тонкая карандашная граница между землей и небом. Кит бесстрастно наблюдала эти явления, вынимая кусочки хлеба из кармана пальто, брошенного поперек нескладных плеч хеджина. Хлеб уже совершенно высох.
– Stenna, stenna. Chouia, chouia,[126] – сказал ей всадник.
Вскоре из устилающего горизонт дрожащего марева выделилась какая-то одиночная штуковина и вдруг взлетела в воздух, словно джинн. Еще через мгновенье штуковина осела наземь, укоротилась и оказалась просто далекой пальмой, стоящей вполне себе неподвижно на краю оазиса. Еще час или около того караван продолжал неспешное движение и наконец вошел под деревья. Вот и колодец, огороженный невысокой стенкой. Людей не было; не было даже их следов. Кругом стояли редкие пальмы; их ветки, все еще более серые, чем зеленые, отсвечивали металлом и почти не давали тени. Тюки с верблюдов сняли, но животные и после этого, радуясь отдыху, остались лежать. Распотрошив узлы, погонщики достали оттуда широкие полосатые ковры, никелированные чайники и бумажные пакеты с хлебом, финиками и мясом. Откуда-то появился черный козий мех с деревянной затычкой; двое начальников и Кит пили оттуда, остальным погонщикам и верблюдам предлагалось довольствоваться водой из колодца. Кит села с краешку на ковер, прислонилась к стволу пальмы и от нечего делать стала наблюдать за приготовлениями к еде. Когда еду подали, с аппетитом поела; все нашла очень вкусным. Однако двоим ее хозяевам количество поглощенной ею еды показалось недостаточным, в нее давно уже ничего не лезло, а они все продолжали потчевать.
– Asmitsek? Kuli![127] – приговаривали они, поднося к ее носу кусочки пищи; тот, что помоложе, пытался даже сквозь зубы ей финики пропихивать, они не лезли, падали на ковер, и тогда второй быстро хватал их и съедал.
Из вьюков достали дрова и разложили костер, чтобы заварить чай. Когда со всем этим было покончено, то есть чай выпит, заварен снова и опять выпит, день был уже на исходе. Но солнце в небе еще вовсю пылало.
Расстелили еще один ковер, положив рядом с двумя лежащими верблюдами, и мужчины стали делать ей знаки, чтобы она легла с ними вместе в тени верблюдов. Она послушалась и растянулась там, куда ей указали, то есть между ними. Тот, что помоложе, сразу схватил ее и сжал в зверских объятиях. Она вскрикнула и попыталась сесть, но он не отпускал. Второй мужчина сделал ему какое-то резкое замечание и указал на погонщиков, которые сидели вокруг колодца, прислонившись спинами к его стенке, и наблюдали, не скрывая веселья.
– Luh, Belqassim! Essbar![128] – прошипел он, неодобрительно качая головой и любовно проводя ладонью по своей черной бороде.
Белькассиму это не очень понравилось, однако, собственной бороды не имея, он чувствовал себя не вправе пренебрегать мудрыми советами амрара.
Кит села, оправила платье и, бросив взгляд на старшего мужчину, сказала:
– Спасибо, – после чего попыталась перелезть через него, чтобы он оказался между нею и Белькассимом.
Но тот, грубо оттолкнув, заставил ее снова лечь на прежнее место и покачал головой.
– Tnassi,[129] – приказал он, пантомимой изобразив спящего.
Она закрыла глаза. После еды и горячего чая ее и впрямь одолевала дремота, поэтому, видя, что Белькассим приставать к ней вроде больше не собирается, она полностью расслабилась и забылась тяжелым сном.
Проснулась от холода. Было темно, мышцы спины и ног болели. Она села и огляделась. Оказалось, что на ковре она одна. Луны еще не было. Чуть поодаль бродили погонщики верблюдов, они развели костер и бросали в пламя целые пальмовые ветки. Она снова легла и, глядя в небо, наблюдала, как высокие кроны пальм время от времени озаряются красным – каждый раз, когда очередная ветка охватывается огнем.
Через некоторое время к ковру подошел старший мужчина и жестом велел ей встать. Послушавшись, она пошла за ним по песку прямиком к небольшой впадине позади рощицы молодых пальм. Там, темной тенью выделяясь на фоне белого ковра, сидел Белькассим лицом к той стороне неба, где вскоре должна была воссиять луна. Он вытянул руку и, ухватив за юбку, быстро заставил ее сесть рядом с собой. Предваряя любую попытку встать, он снова схватил ее в объятия.
– Нет, нет, нет! – закричала она, почувствовав, что ее голова запрокинута, а перед глазами черное пространство с несущимися по нему звездами.
Но он охватывал ее уже словно со всех сторон и был куда сильнее; ни единым движением она не могла противиться его воле. Сначала она напрягалась, сердито пыхтела, пыталась решительно с ним бороться, хотя вся борьба протекала исключительно в ней самой. Потом осознала свою беспомощность и смирилась. Вскоре она чувствовала уже только его губы и вырывающееся из них дыхание – свежее и сладостное, как вешнее утро в детстве. В его хватке было что-то животное, страстное, чувственное и совершенно безумное: она была крепка, но не до боли и при этом исполнена такой решимости, противостоять которой могла бы только смерть. В его объятиях Кит чувствовала себя так, будто попала в безбрежный непонятный мир, куда ее забросили одну, но в одиночестве она пребывала лишь мгновенье и очень скоро поняла, что здесь она с кем-то вместе и что плоть, которая с ней слилась, ей не враждебна. Мало-помалу ее мысли о мужчине, который рядом, окрасились нежностью, потому что она поняла: все, что он с ней делает, вся его зверская сила – ради нее. В его поведении она чувствовала восхитительный баланс между мягкостью и насилием, и это было ей особенно приятно. Взошла луна, но Кит на нее не смотрела.
– Yah, Belkassim![130] – раздался рядом повелительный окрик.
Она открыла глаза: это был тот, второй, более старший мужчина; он стоял рядом, смотрел на них сверху. Его орлиное лицо было ярко освещено луной. И тут же дурное предчувствие подсказало ей, что будет дальше. Она отчаянно вцепилась в Белькассима, покрывая его лицо поцелуями. Но через миг с нею был уже другой зверь, чужой и колючий, и на ее плач никто не обращал внимания. Она держала глаза открытыми, неотрывно глядя на Белькассима, который стоял, лениво прислонясь к ближайшему дереву, его острые скулы отчетливо вырисовывались в ярком свете луны. Вновь и вновь она пробегала глазами по его профилю от линии лба до стройной шеи, пытаясь проникнуть взглядом в глубокие тени – искала его глаза, укрывшиеся в темноте. Был момент, когда она вскрикнула, после чего стала тихо всхлипывать, потому что – как же так? – он стоит близко, а коснуться его нельзя.
Ласки второго мужчины были грубы, движения неуклюжи, нежеланны. Наконец он с нее слез.
– Yah latif! Yah latif![131] – бурчал старик, медленно удаляясь.
Белькассим фыркнул, подошел и снова растянулся с нею рядом. Она пыталась смотреть на него с укором, заранее зная, что это бесполезно, что даже если бы кто-то из них знал язык другого, ему все равно никогда ее не понять.
– Зачем ты ему это позволил? – держа его голову в ладонях, помимо собственной воли повторяла она.
– Habibti,[132] – пробормотал он, нежно гладя ее по щеке.
<>Снова она какое-то время была счастлива, плыла по поверхности времени и начинала сознавать движения любви лишь после того, как ловила себя на том, что вовсю уже их совершает. Те движения, которые, будто вызревая от начала мира, целую вечность ждали своего момента и теперь наконец рождались, обретали существование. Позже, когда круглая луна, оторвавшись от края неба, стала уменьшаться в размерах, со стороны костра донеслись звуки флейт. А потом опять появился старший торговец и брюзгливо что-то сказал Белькассиму, на что тот отозвался столь же раздраженно.– Baraka![133] – сказал тот, второй, и снова пошел прочь.
Спустя несколько секунд Белькассим с сожалением вздохнул и сел. Удерживать его она не пыталась. А потом и сама встала и пошла к костру, который уже прогорел, и над его углями жарили мясо на шампурах. Поели тихо и молча, и вскоре тюки были собраны, увязаны и навьючены на верблюдов. Когда караван снова вышел в путь, была почти полночь; той же тропой по собственным следам верблюды возвратились туда, где высились громадные барханы, и там продолжили двигаться в направлении, которого держались весь предыдущий день. На сей раз на ней был бурнус, который бросил ей Белькассим, когда они готовились отправляться. Ночь была холодной и фантастически ясной.
Шли до середины утра; остановились среди барханов, в месте, где не было даже намека на растительность. Снова до вечера спали, и снова, когда наступила темнота, поодаль от лагерной стоянки был исполнен тот же сдвоенный ритуал любви.
Так проходили дни, каждый из которых по мере продвижения через пустыню к югу делался чуть жарче предыдущего. Утром – мучительное движение под палящим невыносимым солнцем; вечером – тихая радость близости с Белькассимом (краткие перерывы в которой, когда приходилось отдаваться другому, перестали быть для нее мучительными, поскольку Белькассим всегда стоял рядом); ночью – сборы в дорогу и первые шаги под убывающей луной к другим барханам и другим хамадам, таким разным и таким неотличимым друг от друга.
Но если окружающий пейзаж казался все тем же, то в ситуации между ними тремя, похоже, наметились определенные изменения: их отношения, когда-то легкие и простые, начали портиться из-за явной враждебности со стороны старика. Жаркими вечерами, когда погонщики верблюдов уже спали, он вел с Белькассимом бесконечные споры. Она бы тоже воспользовалась передышкой – глядишь, лишний часок и поспала бы, но спать они ей мешали, и, хотя из того, что они говорили, она ни слова не понимала, было у нее подозрение, что старик отговаривает Белькассима от чего-то, на чем последний упрямо настаивал. Доводя себя до крайне нервного состояния, старик что-то ему внушал, по ходу дела изображая в лицах, как люди сперва чему-то удивляются, потом проявляют неодобрение и в конце концов ими овладевают негодование и ярость. Белькассим на это лишь снисходительно улыбался и качал головой, нисколько не желая соглашаться. Самоуверенная непреклонность младшего приводила старшего в бешенство; каждый раз, когда становилась очевидна бесполезность нажима, он вскакивал и отбегал на несколько шагов в сторону, однако лишь затем, чтобы через секунду вернуться и возобновить натиск. При этом было совершенно ясно, что Белькассим решение уже принял и никакие угрозы и предупреждения, сколько бы ни осыпал его ими старший соплеменник, изменить его не способны. В то же время по отношению к Кит Белькассим вел себя все более покровительственно, как истинный ее владелец. То, что каждую ночь он позволяет другому получать от нее краткое мужское удовольствие, теперь он обставлял так, чтобы было понятно: это объясняется только его чрезвычайной щедростью. Каждый вечер она ждала, что он наконец откажется делить ее с другим, не захочет встать и, отойдя в сторону, прислониться к дереву на все то время, пока ею не насытится другой. И действительно, с некоторых пор такие моменты не обходились у него без ропота и возражений, но в результате он каждый раз все же уступал и позволял своему другу обладать ею – как она это себе представляла, согласно джентльменскому соглашению, действующему до конца пути.
Зной стоял теперь такой, что всю середину дня вверху бесчинствовало уже не только солнце: все небо делалось похожим на раскаленный добела металлический купол. Безжалостными лучами шпарило отовсюду, как будто солнце заняло собой весь небосвод. Переходы они теперь совершали исключительно по ночам, пускаясь в путь сразу, как сгустятся сумерки, и останавливаясь с первыми лучами солнца. Пески остались далеко позади, так же как и величественные мертвые каменные равнины. Теперь под ногами всюду стлалась серая, какая-то насекомоподобная растительность – чахлый чешуйчатый кустарник, весь жесткий, волосатый и шипастый, покрывающий землю словно коркой ненависти. Расстилающаяся вокруг пепельная равнина была плоской, как стол. День ото дня шипы на ветках становились все мощнее и свирепее, а сами растения выше. Глядь, некоторые уже так высоки, что стали похожими на деревья, – с плоскими широкими кронами и неописуемо изломанными стволами, но от яростного солнца даже клуб дыма был бы лучшей защитой. Ночи пошли безлунные и стали гораздо теплее. Иногда, двигаясь по темной местности, они слышали крики и топот испуганных животных, разбегающихся при их приближении. Ей было любопытно, что бы она увидела, будь это белый день, но настоящей опасности не ощущала. Впрочем, на этом этапе, помимо постоянно преследующего ее желания быть все время рядом с Белькассимом, вряд ли она могла толком понять, что чувствует. Уже давно она не облекала мысли в слова и вполне привыкла к тому, чтобы, что-то делая, сознанием в этом никак не участвовать. Да и делала она только то, на чем ловила себя уже в процессе.
Однажды ночью, остановив караван, чтобы сходить по нужде в кустики, и увидев рядом с собой в темноте силуэт огромного зверя, она вскрикнула, и рядом мгновенно оказался Белькассим, который ее утешил, после чего варварски повалил на землю и неожиданно овладел ею. Пока он занимался с ней любовью, караван ждал. Несмотря на множество шипов и колючек, больно впившихся в разные части ее тела, она восприняла это как нечто вполне обыкновенное и весь остаток ночи страдала молча. На следующий день колючки из нее никто не вынул, и места вокруг них начали гноиться, так что, когда Белькассим в очередной раз стал раздевать ее и увидел красные вздутия, он рассердился, потому что они портили белизну ее тела, тем самым значительно уменьшая остроту его удовольствия. В итоге, прежде чем иметь с ней дело, он заставил ее пройти мучительную процедуру извлечения каждой колючки. После чего долго втирал масло в кожу ее спины и ног.
Теперь, когда их соития происходили в дневное время, каждое утро после окончательного завершения любовных утех он оставлял одеяло ей, а сам шел за водой и, принеся бидон (он называл его по-своему – gourda[134]), отходил куда-нибудь ярдов на десять и там, стоя в первых лучах зари, тщательно мылся. Потом эту гурду с оставшейся водой брала она и отходила с ней уже как можно дальше, но спохватывалась, что моется на виду у всего лагеря, потому как спрятаться бывало совершенно не за что. Однако погонщики в такие моменты докучали ей своим вниманием не больше, чем их верблюды. Несмотря на то что она все еще была для них предметом любопытства и постоянных пересудов, она как-никак все-таки собственность, принадлежащая их хозяевам, – столь же священная и неприкосновенная, как те набитые серебром мягкие кожаные сумки, которые эти последние постоянно носят на ремне через плечо.
И наконец однажды ночью караван свернул на хорошо проторенную дорогу. Впереди, в отдалении, горел огонь; когда подошли ближе, увидели спящих людей и верблюдов. Перед рассветом остановились рядом с какой-то деревней, поели. Когда развиднелось, Белькассим пешком пошел на базар и вернулся оттуда с узелком одежды. Кит в это время спала, но он разбудил ее и разложил принесенное на одеяле, расстеленном в тени колючего кустарника (довольно, впрочем, эфемерной), показав ей, чтобы она все с себя сняла и надела это. А она и рада избавиться от старой своей одежды, до неузнаваемости уже истрепанной, тем более что новая оказалась очень удобной: широкие мягкие штаны ширваль, затем продуваемая ветром свободная рубаха дишдашу, а на рубаху довершающая наряд столь же просторная безрукавка. Когда она закончила одеваться, Белькассим внимательно осмотрел ее и велел перед ним походить. Потом поманил к себе, взял висевшую у него на плече длинную полосу белой ткани и вывязал у нее на голове тюрбан, полностью убрав под него волосы. Потом сел на ковер и понаблюдал еще. Нахмурился, опять подозвал ее и, сняв с себя шерстяной кушак, плотно обернул им под рубахой ее торс, пропустив под мышками и крепко завязав сзади. Ей стало трудно дышать, она задергалась – вот еще, мол, сними! – но он лишь отрицательно качал головой. Вдруг до нее дошло, что это ведь мужская одежда, – значит, он хочет, чтобы она была похожа на мужчину! Ее разобрал смех; Белькассим присоединился к ее веселью и заставил ее несколько раз пройтись перед ним взад и вперед, при каждом таком проходе награждая одобрительным шлепком по заду. Ее старую одежду они так и бросили в кустах хлопкового дерева, но когда Белькассим что-нибудь через час или около того обнаружил, что один из погонщиков прибрал ее к рукам (видимо, с намерением продать: ведь они скоро будут проходить через деревню), он очень рассердился и отнял ее у бедняги, а потом заставил того выкопать в земле ямку и все тряпье прямо при нем там похоронить.
А Кит пошла к верблюдам, впервые за все это время открыла свой чемоданчик, погляделась в зеркало, изнутри пристегнутое к крышке, и обнаружила, что темный загар, приобретенный ею за последние несколько недель, делает ее удивительно похожей на мальчика-араба. Эта мысль показалась ей забавной. Пока она себя изучала, пытаясь в маленьком зеркальце разглядеть, как смотрится ее наряд в целом, подошел Белькассим, схватил ее и на руках отнес на одеяло, где долго осыпал поцелуями и ласками, называя ее «Али» и временами радостно прыская со смеху.
Деревня оказалась скопищем круглых глинобитных хижин с соломенными крышами, а вот народу в ней было на удивление немного. Верблюдов с погонщиками владельцы каравана оставили у околицы, а сами вместе с Кит пошли на крохотный рынок, где старший мужчина купил несколько пакетиков со специями. Жара стояла невероятная; из-за впивающейся в голую кожу грубой шерсти и того, как туго она стягивает грудь, Кит казалось, что она вот-вот свалится прямо в пыль. Торговцы на рынке, очень черные, сидели на корточках, а лица у большинства из них были старые и безжизненные. Когда какой-то мужчина обратился к Кит, протягивая ей пару поношенных сандалий (она шла босиком), Белькассим тут же выскочил вперед и, сопровождая слова жестами, ответил за нее в том смысле, что парень малость не в своем уме, поэтому не надо его трогать и лезть с разговорами. Пока они шли по деревне, такого рода объяснения ему пришлось давать несколько раз, и все принимали их без вопросов. На каком-то повороте к ним подскочила старуха с лицом и руками, изъеденными проказой, и стала хватать Кит за одежду, выпрашивая подаяние. Кит обернулась, вскрикнула и схватилась за Белькассима, ища защиты. Но тот грубо оттолкнул ее, да с такой силой, что она чуть не упала прямо на нищенку; при этом он обрушил на мнимого мальчишку поток презрительной брани, а в конце еще и плюнул наземь. Сторонним зрителям было, наверное, забавно, но старший из компаньонов покачал головой, а позже, когда они вернулись на околицу к верблюдам, принялся ругать Белькассима, после каждой фразы гневно указуя на очередной предмет маскировочного костюма Кит. И опять Белькассим только улыбался и отвечал односложно. Но на сей раз старший партнер был непримирим, и у нее даже возникло впечатление, что он высказывает Белькассиму последнее предостережение. Более того, зная, что тот все равно не послушается, предупреждает, что, коли так, отныне он и вовсе, что называется, умывает руки. И действительно, руки он умыл или что другое, но ни в тот день, ни на следующий он с нею ни в какие сношения вступать не лез.
В сумерках снова в путь. За ночь несколько раз им встречались стада коров с пастухами, а еще они прошли насквозь две небольшие деревни, где жители готовили пищу на кострах, горевших прямо на улице. На следующий день, пока отдыхали и спали, с дороги постоянно слышался шум тракторов и машин. В тот вечер они тронулись даже раньше, чем село солнце. К моменту, когда луна оторвалась от горизонта, они взошли на невысокую возвышенность, с которой сделались видны рассеянные далеко внизу костры и огни большого плоского города. Она вслушивалась в разговоры мужчин в надежде уловить его название, но безуспешно.
Что-нибудь через час караван вошел в ворота. Залитый лунным светом, город безмолвствовал, его широкие улицы были пустынны. Она поняла, что костры, которые виднелись издалека, на самом деле горели вне города, вдоль его стен, где было множество стоянок всяких кочевников. Тогда как здесь, внутри, все было тихо, и за высокими, похожими на крепостные, стенами больших домов все спали. Но когда они повернули в боковой проезд и под хоровое ворчливое блеянье верблюдов спешились, она опять услышала, что где-то неподалеку рокочут барабаны.
Дверь отворилась, Белькассим ступил в темноту и исчез, и вскоре в доме зашевелилась жизнь. Выбежали работники с карбидными фонарями, которые они расставили среди тюков, сгружаемых с верблюдов. Скоро весь проезд приобрел знакомый вид лагерной стоянки в пустыне. Кит стояла, прислонясь к стене дома около входной двери, и наблюдала за происходящим. Вдруг среди ковров и мешков мелькнул ее чемоданчик. Она подошла и взяла его. Один из мужчин бросил на нее подозрительный взгляд и что-то ей сказал. Ничего не ответив, она вернулась с чемоданом на свой наблюдательный пост. Белькассим долго не появлялся. Когда же он наконец вышел, то направился сразу к ней, взял за руку и повел в дом.
Позже, оказавшись в темноте и одиночестве, она могла вспомнить разве что хаос переходов с бесчисленными поворотами и лестницами, какие-то темные пространства, на миг вдруг освещаемые лампой, что была в руке у Белькассима, широкие плоские крыши, где при луне бродили козы, крохотные дворики, куда даже ей приходилось входить пригнувшись и все равно задевая тюрбаном бахрому волокон, свисающих с притолоки, сделанной из ноздреватого пальмового ствола. По пути они поворачивали то направо, то налево, то поднимались вверх, то спускались, так что у нее возникло впечатление, будто они прошли сквозь множество домов. В одном из помещений, через которые они проходили, она увидела двух женщин в белом, они сидели на корточках в углу у небольшого очага, огонь в котором стоя раздувал мехами совершенно голый ребенок. Всю дорогу Белькассим крепко держал ее за локоть, вводя (как ей показалось, с торопливостью и опаской) все глубже и глубже в это похожее на лабиринт огромное людское обиталище. Чемодан она тащила сама, он колотил ее по ногам и бился о стены. В конце они короткий отрезок пути прошли по какой-то открытой крыше, потом поднялись на несколько покатых и стоптанных земляных ступенек вверх и оказались у запертой двери; он вставил ключ в замок и отворил ее, после чего, вдвое согнувшись, они вошли в небольшую комнату. Здесь он поставил лампу на пол, развернулся и, не сказав ни слова, опять ушел, не забыв запереть за собой дверь. До нее донеслись лишь удаляющиеся шаги в количестве шести штук, да один раз чиркнули спичкой, и все. Долгое время она стояла ссутулившись (потолок был так низок, что не давал возможности полностью распрямиться) и слушая обступившую ее тишину, всерьез встревоженная непонятно чем и слегка испуганная, хотя спроси ее, что вызывает ее страх, она не смогла бы ответить. Она словно прислушивалась к самой себе, ждала, когда что-то случится, – а здесь непременно что-то должно было с ней случиться. Место было ей смутно знакомо; она, конечно, его забыла, но не настолько, чтобы не чувствовать с ним какой-то неясной связи. Но ничего не случалось; она не слышала даже стука собственного сердца. И лишь в ушах стоял знакомый, еле слышный шум. Когда от неудобной позы у нее устала шея, Кит села на матрас, лежавший у ног, и стала выдергивать из одеяла комочки шерсти. Глиняные стены, выглаженные ладонью строителя, в углах так плавно сопрягались – глаз не оторвать. Она сидела и смотрела на эти сопряжения, пока не начала гаснуть лампа, огонь в которой затрепетал и стал мерцающим. Когда же крошечное пламя наконец испустило дух окончательно, Кит легла и накрылась одеялом, чувствуя, что что-то пошло не так. Скоро в темноте – и где-то далеко, и близко – запели петухи, и каждый новый петушиный крик заставлял ее вздрогнуть.
XXVII
Прозрачное ясное небо, всегда одинаковое, возникало в окне утро за утром, пылало и палило день за днем; сколько она ни выглядывала, привстав с лежанки, снаружи ничто не менялось, небо было словно частью механизма, который крутится без всякой связи с ней, катит вперед с неослабевающей силой, оставив ее где-то позади. Хоть бы один облачный день! Ей казалось, что всего один такой из ряда вон выходящий день дал бы ей возможность все наверстать и оказаться со временем вровень. Но каждый раз, как ни посмотришь, над городом опять все то же безупречное, бездонно-ясное, неизменное и безжалостное небо.
Рядом с ее матрасом было маленькое квадратное окошко, забранное железной решеткой; за ним довольно близко высилась стена из сухой бурой глины, а между стеной и небом узкий промежуток, в котором виден крохотный кусок далекого городского пейзажа – хаотическое нагромождение домиков-кубиков с плоскими крышами, простирающееся чуть не до бесконечности: где домики кончаются и начинается небо, из-за пыли и знойного марева понять было не так-то просто. Несмотря на яркость, пейзаж был серым – ослепительным по блеску, но серого цвета. Ранним утром на том участке неба, что можно было видеть из окошка, некоторое (весьма недолгое, впрочем) время сияло далекое солнце, как раскаленный до желтизны стальной кругляк; оно ввергало ее в транс, как взгляд удава, так что она сидела, приподнявшись на подушках, и все смотрела и смотрела на прямоугольник, источающий немыслимый свет. Когда после этого переводила взгляд на руки, тяжелые от множества массивных колец и браслетов, подаренных Белькассимом, она едва различала их в темноте: глаза долго не могли приспособиться к сумраку, царящему во внутренних покоях. Иногда на какой-нибудь дальней крыше видела фигурки людей – как они двигаются в виде силуэтов на фоне неба – и терялась в догадках, пытаясь представить себе, что увидят эти люди, когда посмотрят с той стороны поверх всех бесконечных ярусов города сюда, на ее оконце. Потом какой-нибудь раздавшийся поблизости звук пробуждал ее; она быстро-быстро сбрасывала серебряные браслеты в чемодан и ждала, не раздадутся ли шаги на ступеньках и не провернется ли ключ в замке. Четыре раза в день старая-старая рабыня-негритянка с кожей, похожей на шкуру слона, приносила ей еду. Каждый раз перед тем, как она явится с огромным медным подносом, Кит слышала шлепанье ее широких ступней по земляной крыше и звяканье серебряных браслетов на щиколотках. Войдя, служанка всегда вежливо здоровалась: «Sbalkheir»[135] или «Msalkheir»,[136] после чего затворяла дверь, вручала поднос Кит, а потом ждала, пока та поест, сидя в углу на корточках и глядя в пол. В разговоры с ней Кит не вступала, потому что старуха, как и все остальные в доме, за исключением одного Белькассима, пребывала в убеждении, что их гость – юноша, в связи с чем Белькассим очень живенькой пантомимой изобразил своей наложнице, какова будет реакция женской части обитающего в доме сообщества, если кто-то догадается, что это не так.
Язык она еще не выучила; да, собственно, не собиралась даже и пытаться. Однако к интонациям и флексиям речи своего господина привыкла и некоторые слова различала, так что, набравшись терпения, он уже мог растолковать ей любую не слишком сложную мысль. Она уже знала, например, что дом принадлежит отцу Белькассима; что всей семьей они перебрались сюда с севера, из Мешерьи, где у них есть еще один дом; что Белькассим и его братья по очереди водят караваны туда и обратно между разными пунктами в Алжире и Судане. Также она уже знала, что у Белькассима, несмотря на его юность, есть жена в Мешерье и еще три здесь, в этом доме, так что вместе с женами отца и братьев в здешней усадьбе проживают двадцать две женщины, не считая служанок. Никто из них не должен ничего заподозрить: для них Кит юноша, неудавшийся путешественник, умиравший от жажды и спасенный Белькассимом, но все еще не совсем оправившийся от последствий перенесенных лишений.
Белькассим приходил навестить ее каждый день под вечер и оставался до сумерек; вечером, лежа в одиночестве после его ухода и вспоминая пылкость и упорство его страсти, она частенько думала о том, что три жены наверняка заброшены и страдают от недостатка его внимания, вследствие чего они уже, должно быть, полны подозрений и ревности к этому странному молодому человеку, который так долго пользуется гостеприимством всей семьи и дружбой их мужа. Но поскольку она жила теперь единственно ради тех нескольких часов, на которые каждый день удавалось заполучить к себе Белькассима, она и думать не могла о том, чтобы просить его не тратить на нее все силы без остатка, а сохранить хотя бы часть на то, чтобы оправдаться перед женами. О чем она при этом не догадывалась, так это о том, что три жены вовсе не были обделены его вниманием, а даже если бы и были, им бы и в голову не пришло его ревновать. Так что Отмана, негритенка, который часто бегал по дому в чем мать родила, послали пошпионить за молодым незнакомцем просто из любопытства – чтобы рассказал, на что он похож.
Отман, маленький проныра, лицом похожий на лягушонка, засел с этой целью в нише под лестницей, ведущей с крыши в комнату наверху. И в первый же день узнал о том, что туда ходит старуха-рабыня с подносом, да и Белькассима видел, – как тот пришел к иностранцу под вечер, довольно долго у него пробыл, а выходя, поправлял на себе одежду, – так что Отман оказался в состоянии вполне внятно рассказать женам и о длительности этих визитов, и об их предположительной цели. Но они-то хотели узнать не это, им интересен был сам иностранец: высок ли ростом и правда ли у него белая кожа? Присутствие в доме неизвестного молодого человека, особенно если их муж с ним спит, волновало их невероятно. В том, что он красив и соблазнителен, они не сомневались ни минуты: чего ради иначе Белькассим стал бы его там держать!
Следующим утром, едва успела старуха-рабыня унести вниз поднос с остатками завтрака, Отман вылез из ниши и тихонько постучал в дверь. Повернул в замке ключ, и в дверях показалась его черная мордочка, на которую он специально напустил жалобное и вместе с тем плутоватое выражение. Кит рассмеялась. Это маленькое черное существо с торчащим животом и словно от другого тела приставленной головой показалось ей забавным. Тембр ее голоса не прошел мимо ушей крохи Отмана, который сперва как ни в чем не бывало осклабился и тут же сделал вид, будто его внезапно обуяла застенчивость. Ей подумалось, может, Белькассим не будет возражать, если такое вот дитя нет-нет да и зайдет к ней в комнату, и, не успев на этот счет ничего решить, она вдруг обнаружила, что уже делает ему знаки приблизиться. Он шел к ней медленно, угнув голову, держа во рту палец и не сводя с нее взгляда огромных, выпученных и закаченных под лоб глазищ. Она встала, обошла его и затворила за ним дверь. И вот он уже хихикает, прыгает, ходит колесом, поет какие-то дурацкие песенки, изображая пантомимой их содержание, – в общем, всячески валяет дурака, чтобы сбить ее с толку. Она была настороже, от слов воздерживалась, но время от времени у нее помимо воли вырывался смех, и это ее тревожило, потому что интуиция уже шептала ей, что в его веселости есть что-то деланое, да и нарастающая бесцеремонность тоже выдает некую нарочитость и целенаправленность его поведения; его ужимки забавляли ее, а глаза пугали. Вот он уже ходит на руках. И вновь встал на ноги, делает теперь движения руками, будто гимнаст на разминке. И вдруг без всякого предупреждения мальчишка прыгнул к ней на матрас и, пощупав под одеждой ее бицепс, невинным тоном проговорил:
– Deba enta,[137] – показывая, что гостю тоже неплохо бы показать, на что он способен в этом плане.
Заподозрив неладное, она оттолкнула шаловливую ручонку, принявшуюся шарить по ее груди. Охваченная яростью и испугом, что она могла? Всего лишь попытаться осадить его взглядом да, может быть, попробовать понять, что в действительности у него на уме. Он в это время вызывающе смеялся, продолжая требовать, чтобы она встала и продемонстрировала силу и ловкость. Но в ней уже проснулся страх; включился и пошел вразнос, будто запустили какой-то безумный двигатель. Она смотрела, как на физиономии змееныша гримасы сменяют одна другую, и в ней нарастал ужас. Для определенной части ее существа это чувство было почти привычным, но столь внезапно нахлынувшая память о нем ошеломила ее, отбив всякое ощущение реальности. Она сидела, будто вымерзнув изнутри, с внезапной ясностью ощущая, что ничего больше не понимает – ни где она, ни кто она такая; нужно сделать какой-то шажочек – невозможный и непредставимый, но как-то надо сместиться в ту или другую сторону, чтобы снова оказаться у собственного сознания в фокусе.
Возможно, она просидела так, глядя в стену, чересчур долго, и Отману это наскучило, а может быть, сделав великое открытие, он больше не видел необходимости в том, чтобы развлекать ее, ибо, совершив еще несколько бессвязных танцевальных па, он начал пятиться к двери, по-прежнему неотрывно глядя ей в глаза – так, словно его недоверие к ней столь велико, что он считает ее способной на любое коварство. Достигнув двери, рукой нащупал за спиной засов, быстренько выскочил, захлопнул дверь и запер ее.
Когда старуха-рабыня явилась с полдником, Кит все еще сидела неподвижно, глядя перед собой невидящим взором. Старуха подносила вкусные кусочки к ее лицу, пыталась пропихивать их ей в рот. Потом вышла, отправившись на поиски Белькассима, чтобы доложить ему о том, что юный господин то ли заболел, то ли околдован, – в общем, не ест. Но Белькассим в тот день обедал в доме у торговца кожами на другом конце города, и найти его не удалось. Решив взять это дело в собственные руки, она пошла в свою каморку, располагавшуюся по другую сторону двора рядом с верблюжьими стойлами, и приготовила там чашечку козьего масла, которое смешала с молотым верблюжьим навозом, для чего долго толкла его в ступе деревянным пестиком. Закончив, сделала из половины этой субстанции шар и проглотила его, не жуя. Оставшейся массой намазала два хвоста длинной ременной плетки, которую держала у себя под постелью. С плеткой в руках она вернулась в комнату Кит, где та по-прежнему неподвижно сидела на матрасе. Закрыв за собой дверь, старуха немного постояла, собираясь с силами, а потом завела монотонную плаксивую песнь, медленно помахивая при этом в воздухе извивающейся плетью и следя за Кит: не появятся ли на ее расслабленном лице признаки пробуждения. Через несколько минут, видя, что ничего не выходит, она переместилась ближе к матрасу, воздела плеть над головой и одновременно начала шаркать по полу ступнями в подобии танца, так что тяжелые серебряные обручи на ее лодыжках зазвенели этаким ритмическим аккомпанементом песне. Вскоре по всем морщинам ее черного лица уже бежал пот, капая ей на одежду и на пол, сухая глина которого быстро вбирала влагу, так что каждая капля сразу превращалась в растущее круглое пятно. Кит сидела неподвижно, сознавая и близкое ее присутствие, и ее затхлый запах, сознавая и жару, и пение в комнате, но ничто из этого не имело к ней ни малейшего касательства – все воспринималось лишь как далекое мимолетное воспоминание, как нечто происходящее за пределами ее бытия. Внезапно старуха быстрым и легким взмахом хлестнула ее плетью по лицу. Смазанный маслом гибкий ремешок на долю секунды обмотался вокруг головы; кожу щеки ожгло. Она не шелохнулась. Лишь через несколько секунд медленно подняла руку к лицу, и одновременно раздался ее взвизг – негромкий, но совершенно точно женский. Наблюдавшую это старуху охватил страх и недоумение: молодой человек явно заколдован, причем весьма злокачественным образом. Она стояла и, разинув рот, смотрела, а Кит тем временем упала на матрас и разразилась безутешными рыданиями.
В этот момент старуха услышала на ступеньках шаги. Испугавшись, что возвратившийся Белькассим сейчас накажет ее за то, что она лезет не в свое дело, она бросила плеть и обернулась к двери. Которая открылась, и в комнату одна за другой, пригибаясь, чтобы не задеть головой о притолоку, вбежали все три жены Белькассима. Не обращая внимания на старуху, все как одна они кинулись к матрасу и набросились на лежащую на нем Кит, сдергивая с нее тюрбан и раздевая ее, да с такой страстью, что рубаха на ней вмиг была порвана и верхняя часть тела полностью обнажилась. Их натиск был столь неожидан и неистов, что своей цели они достигли в три секунды, тогда как Кит вообще не понимала, что происходит. И тут почувствовала плеть на своих грудях. Взвизгнув, протянула руку и схватила голову, которая маячила ближе всех. Нащупала волосы, дернула, потом ее скрюченные пальцы вцепились в мягкие ткани лица. Со всей силы она рванула его вниз, пытаясь разодрать в клочья, но оно не порвалось, а только сделалось влажным. Плеть в это время сполохами пламени обдавала ей плечи и спину. Кроме нее, теперь визжал кто-то еще, да и другие голоса вокруг пронзительно кричали. На своем лице она почувствовала вес чьего-то тела, перекрывшего рот. Она его укусила. «Слава богу, зубы у меня крепкие», – подумала она и, увидев эти слова (они как бы вспыхнули прямо перед ее глазами), сжала челюсти крепче; зубы погрузились в мягкую плоть. Как это восхитительно – ощущать на языке кровь! Кровь показалась ей так вкусна, что боль от ударов плетью словно отступила. Комната была полна народу; воздух сделался кашей из криков и визга. Вдруг все перекрыл голос Белькассима, его яростный окрик. Почувствовав облегчение оттого, что он наконец явился, она расслабила челюсти и тут же получила жестокий удар в лицо. Звуки скрутились в узел и куда-то унеслись, она осталась одна в темноте и какое-то время там пребывала, думая, что мурлычет песенку, которую так часто пел ей Белькассим.
Или это его голос и есть, а она лежит головой у него на коленях, протягивая руки вверх, чтобы приблизить его лицо к своему? А не было ли в этом промежутке, что канул куда-то, тихой ночи, а то и нескольких ночей, перед тем как она оказалась здесь, в огромной комнате, где повсюду горят бесчисленные свечи, – сидит, скрестив ноги по-турецки, одетая в золотое платье и окруженная женщинами, лица которых угрюмы и сердиты. Долго ли они терпели бы ее, стали бы вот так же подливать ей в чашку еще чая, если бы она была с ними одна? Но с нею Белькассим, и его взор серьезен. Она обратила взгляд на него: вот он движениями замедленными, словно она видит это во сне, снимает украшения с шеи у каждой из трех жен поочередно и всякий раз поворачивается, чтобы аккуратно опустить драгоценности ей в подол. Золотая парча наливается весом тяжелого металла. Она смотрела то на яркие украшения, то на жен, но те, потупясь, глядели в пол и поднимать глаза отказывались напрочь. Во дворе, который простирался внизу, под балконом, слышался нарастающий гомон мужских голосов, потом зазвучала музыка, и все окружающие ее женщины хором что-то закричали в ее честь. Она понимала, что даже сейчас, когда Белькассим рядом – сидит перед ней, цепляя ей на шею и грудь драгоценности, – все эти женщины ненавидят ее и ему не удастся защитить ее от их ненависти. Сегодня он наказал своих жен, предпочтя им чужестранку и унизив их перед нею, но дело не только в женах, есть тут и другие женщины, и у всех хмурые лица; даже рабыни, что бросают взгляды издали, с галереи, отныне тоже будут дожидаться момента, когда придет возможность насладиться зрелищем ее падения.
Когда Белькассим кормил ее пирогом, она всхлипывала и давилась, отчего крошки веером летели ему в лицо. «G igherdh ish’ed our illi»,[138] – пели внизу берберы-музыканты, вновь и вновь повторяя эту фразу без изменения, в то время как ритм бендира менялся, плыл и обволакивал, а потом возвращался к первоначальному, чтобы медленно замкнуть кольцо, из которого ей будет не вырваться. Белькассим смотрел на нее со смесью жалости и отвращения. Посреди плача она закашлялась и долго не могла угомониться. Сурьма с ее век потекла на лицо, слезы капали на свадебное платье. Нет, те мужчины, чей смех доносится со двора, не спасут ее, и Белькассим не спасет. Да он и сейчас уже на нее сердится. Закрыв лицо руками, она почувствовала, что он схватил ее за запястья, что-то шепчет, но непонятные слова только свистят и шипят в ушах. Она с силой вырвала у него свои руки и сгорбилась, пряча лицо. Оставь он ее одну хотя бы на час, эти три фурии не промедлят. Они уже и теперь друг с дружкой в унисон думу думают, а ей-то все насквозь видно, видна каждая каверза их мстительного замысла: ишь ведь, сидят там, опустив глазки долу! Тут она с недовольным вскриком попыталась подняться на ноги, но Белькассим помешал ей, безжалостным толчком посадив на место. По комнате проковыляла огромных размеров чернокожая женщина, дошла до Кит и села к ней вплотную, да еще и обхватила ее толстенной ручищей, прижав к горке подушек. Увидев, что Белькассим из комнаты выходит, Кит сразу принялась расстегивать и снимать ожерелья и броши; черная женщина не видела, что делают ее руки. Когда украшения оказались у нее в подоле, она взяла всю кучу и бросила трем женам, которые сидели напротив. Все женщины в комнате ахнули, какая-то служанка бросилась бегом искать Белькассима. Не успели глазом моргнуть, как он вернулся, весь красный от гнева. К брошенным на пол драгоценностям никто не притрагивался, они лежали на ковре перед тремя женами. («G igherdh ish’ed our illi», – продолжала печально настаивать песня.) Кит видела, как он нагнулся, стал собирать украшения, а потом почувствовала, как они, ударив ее в лицо, скатились по платью снова ей в подол.
Что это? Ах, рассечена губа; вид крови на пальце так зачаровал ее, что она долго сидела тихо, воспринимая только музыку. Сидеть тихо казалось ей лучшим способом избегнуть еще большей боли. С болью это всегда так: когда не получилось уклониться, надо спрятать ее подальше и как можно дольше там держать. И верно: никто не причинял ей боли, пока она сидела тихо и неподвижно. Жирные руки черной женщины опять украсили ее ожерельями и амулетами. Кто-то передал ей стакан обжигающего чая, кто-то еще протягивал тарелочку с лепешками. Музыка не смолкала, но ее переливы то и дело заглушались выкриками женщин – гортанными и похожими на тирольский йодль. Свечи догорали, многие из них погасли, в комнате постепенно становилось все темнее. Кит задремала, привалившись к черной женщине.
Много позже в полной темноте она взошла на четыре ступеньки вверх и оказалась на огромной огороженной кровати, пахнущей гвоздичным маслом, которым был надушен ее полог. Сзади слышалось тяжелое дыхание Белькассима – он привел ее сюда за руку. Теперь, когда она стала полной его собственностью, в его манере обращения с нею появились нотки новой свирепости, какая-то злая безудержность и развязность. Постель была теперь бурным морем, где ее носило по воле прихотливых и неистовых волн, которые то вздымали ее, то беспорядочно рушились сверху. Но зачем в разгар кипения этой бури две руки, вынырнув из глубин, все сильнее сжимают ей горло? Так сильно, что даже могучая серая музыка моря перекрывается другой, более темной и мощной – ревом небытия, слышимым всякой душе, когда, оказавшись на краю бездны, она заглядывает вниз.
Потом он заснул, а она, лежа без сна в ласковом ночном безмолвии, тихо дышала. Следующий день она провела, не вылезая из постели, под балдахином. Такое было ощущение, будто сидишь в большом-большом коробе. Утром Белькассим оделся и ушел; жирная женщина, материализовавшаяся предыдущим вечером, заперла за ним дверь и села на пол, привалившись к двери спиной. Каждый раз, когда служанки приносили еду, питье или воду для умывания, женщина невероятно медленно, пыхтя и кряхтя, вставала и отворяла перед входящими тяжелую створку.
Пища вызывала у Кит отвращение: какое-то сальное, расползающееся не поймешь что – совсем не то, чем ее кормили, когда она жила в комнатке над крышей. Некоторые блюда, похоже, состояли в основном из кусков полупроваренного бараньего жира. Она ела очень мало и видела, что приходящие за посудой служанки смотрят на нее с неодобрением. Зная, что на какое-то время она вне опасности, Кит почти успокоилась. Ее чемоданчик ей принесли и сюда, и, укрывшись от посторонних глаз на кровати, она поставила его себе на колени и открыла, чтобы проинспектировать содержимое. Пудру, помаду и духи она машинально употребила по назначению; сложенные тысячефранковые купюры при этом выпали на постель. Другие предметы подолгу рассматривала: маленький белый платочек, блестящие маникюрные ножнички, телесного цвета шелковые трусики, баночки с кремом для лица. Потом равнодушно откладывала: этакие милые, загадочные артефакты, оставшиеся от исчезнувшей цивилизации. Чувствовала, что каждый предмет символизирует что-то забытое. При этом то, что она не может вспомнить, что эти вещи значат, и даже понимает это, ее нисколько не печалило. Тысячефранковые купюры она сложила в пачку и убрала на дно чемоданчика, вещи сложила сверху и застегнула замок.
Тем вечером Белькассим обедал с нею. Заставляя ее глотать куски жира, он красноречивыми жестами показывал, что она ему будет куда желаннее, если потолстеет. Она противилась; от такой еды ей делалось нехорошо. Но, как всегда, не выполнить его приказ было невозможно. Она все съела и в тот день, и на следующий, и делала так все дни после этого. Привыкла и больше не противилась. Дни и ночи смешались в ее сознании, потому что иногда Белькассим приходил к ней в постель среди дня и уходил вечером, а среди ночи возвращался в сопровождении служанки с подносом еды. Она же постоянно пребывала в этой комнате без окон и почти все время в кровати, лежа среди раскиданных белых подушек в полном неведении ни о чем, кроме послевкусия или предвкушения прихода Белькассима. С того момента, когда, поднявшись по ступенькам на ложе, он раздвигал занавески, влезал и ложился рядом с нею, чтобы начать ритуал медленного освобождения ее от одежд, часы, перед этим проведенные ею в тягостной праздности, наполнялись значением и смыслом. А когда уходил, с нею оставалось восхитительное изнеможение и удовлетворение, которое не рассеивалось долго-долго; она лежала в полусне, купаясь в ауре животного довольства, причем это состояние она вскоре стала воспринимать как естественное, а потом сделалась от него зависимой, как от наркотика.
Однажды выдалась ночь, когда он не пришел совсем. Она металась на простынях и вздыхала так громко и горестно, что негритянка куда-то сходила и принесла ей стакан чего-то горячего и кислого. Кит уснула, но проснулась утром с тяжелой головой, полной гудения и боли. Днем почти не ела. В этот раз служанки смотрели на нее с сочувствием.
Вечером он пришел. Как только он появился в дверях и сделал черной женщине знак выйти, Кит вскочила и, пробежав по комнате, истерически бросилась ему на грудь. Улыбаясь, он отнес ее обратно в кровать, по пути методично снимая с нее одежду и украшения. Когда она лежала перед ним обнаженная, белая-белая и с глазами, будто подернутыми пленкой, он склонился над ней и начал кормить сластями изо рта в рот. Схватив конфетку, она то и дело пыталась поймать губами его губы, но он всякий раз опережал ее, успевая отстраниться. Так он дразнил бы ее очень долго, но в конце концов она с протяжным криком откинулась на подушки и замерла в неподвижности. Весь сияя, он отбросил конфеты в сторону и покрыл ее простертое тело поцелуями. Когда она пришла в себя, в комнате было темно, а он лежал рядом и крепко спал. После этого он стал иногда оставлять ее одну на два дня кряду. А потом принимался дразнить и дразнил так долго, что она, крича, бросалась на него с кулаками. Но все равно с нетерпением ждала следующей такой же невыносимой интерлюдии, каждая из которых приводила ее в возбуждение, изгоняющее из сознания все другие чувства.
Наконец настал вечер, когда черная женщина принесла ей кислое питье без всякого повода или просьбы с ее стороны и встала над душой, строго следя за тем, как она пьет. Пустой стакан Кит отдала с упавшим сердцем. Значит, Белькассим не придет. Не пришел он и на следующий день. Пять ночей подряд ей давали это снадобье, и каждый раз его кислый вкус ей казался крепче. Дни она теперь проводила в лихорадочном ступоре, вставая, только чтобы съесть ту еду, что ей принесли.
Иногда ей казалось, что из-за двери доносятся визгливые женские голоса; эти звуки напоминали ей о существовании страха, и следующие несколько минут она терзалась и мучилась, но когда все стихало, она долго не думала о том, что только что слышала, и тут же обо всем забывала. На шестую ночь вдруг решила, что Белькассим не вернется к ней никогда. Лежала с сухими глазами, уставясь в балдахин над головой, складки на ткани которого терялись во мраке: единственная в комнате ацетиленовая лампа стояла у двери под рукой у сидящей чернокожей стражницы. Однажды она с головой ушла в фантазии, в которых заставила его войти в дверь, приблизиться к кровати, раздернуть занавески… и предстать, к вящему ее изумлению, вовсе не Белькассимом, что так уверенно взошел на четыре ступеньки, чтобы лечь с ней рядом, а молодым мужчиной с каким-то составным, чужим и усредненным лицом. И только тут она осознала, что будет совершенно так же рада контакту с любым существом мужского пола, лишь бы этот человек хотя бы отдаленно напоминал Белькассима. Впервые ей пришло в голову, что за стенами этой комнаты – может быть, где-нибудь неподалеку, на улице, а то даже и прямо в доме – такие существа бродят во множестве. И среди этих мужчин многие наверняка окажутся столь же прекрасными и замечательными, как Белькассим, так же способными и жаждущими доставить ей наслаждение. Мысль о том, что один из его братьев лежит, быть может, за стеной всего в нескольких футах от изголовья ее кровати, исполнила ее трепетной муки. Но интуиция шептала: лежи тихо, – и Кит лишь повернулась на другой бок и притворилась спящей.
Вскоре в дверь постучала служанка, и Кит поняла, что принесли ее ежевечерний стакан снотворного; через мгновенье негритянка распахнула занавеси полога, но, увидев, что ее хозяйка и так спит, поставила стакан на верхнюю ступеньку и вновь уселась на своей циновке у двери. Кит не двигалась, но ее сердце стучало с необыкновенной силой. «Это яд», – сказала она себе. Ее хотят медленно отравить: потому-то они и не приходят, чтобы с ней разделаться. Она долго выжидала, а потом тихо приподнялась на локте, выглянула из-за полога и, увидев стакан, даже вздрогнула от такой его близости. Черная женщина у двери храпела.
«Надо как-то выбираться», – подумала Кит. Чувствовала она себя при этом неожиданно бодро. Но едва начала спускаться с кровати на пол, поняла, что ослабела. И в первый раз заметила мертвенный, землистый запах в комнате. С кожаного сундука, что стоял рядом, она взяла драгоценности, которые Белькассим подарил ей, вместе с теми, которые он отобрал у других трех жен, и разложила на кровати. Потом вынула из этого же сундука свой чемоданчик и бесшумно подступила к двери. Негритянка все так же спала. «У, отравители!» – яростно прошептала Кит, проворачивая ключ в замке. С величайшей осторожностью она беззвучно затворила за собой дверь. Но теперь она была в кромешной тьме и, дрожа от слабости, в одной руке несла чемодан, а пальцами другой ощупывала стену рядом.
«Я должна послать телеграмму, – мелькнула неожиданная мысль. – Это самый быстрый способ с ними связаться. Где-нибудь неподалеку непременно должен быть телеграф». Но сначала надо выбраться на улицу, а до нее тут еще плутать и плутать. В ходе этих плутаний во тьме, которая отделяет ее от улицы, она может встретить Белькассима; как странно: ей уже совсем не хочется его видеть! «Он твой муж», – прошептала она и в ужасе на секунду замерла. Потом чуть не прыснула со смеху: ведь это всего лишь роль в той странной и смешной игре, в которую она тут заигралась. Но пока телеграмма не отправлена, она будет играть в эту игру и дальше. Тут у нее начали стучать зубы. «Э-э! Неужто нельзя держать себя в руках, хотя бы пока на улицу не выйдем?»
Стена слева внезапно кончилась. Кит сделала еще два осторожных шажка и носком туфли нащупала скругленный край пола. «Черт бы побрал, опять у них тут лестница без перил!» – себе под нос проговорила она. Осторожно поставив чемоданчик, она покрутилась на месте, отступила к стене и пошла вдоль нее обратно, пока не уткнулась в дверь. Беззвучно отворила ее и взяла с пола маленькую жестяную лампу. Черная женщина не шевельнулась. Закрыть дверь Кит удалось также без происшествий. Имея свет, она даже удивилась, увидев, как близко оказался ее чемодан. Стоит себе на краю обрыва, но невысокого: упасть с него она могла бы разве что на верхнюю площадку лестницы. Она стала медленно спускаться, стараясь не подвернуть ногу на истоптанных, скругленных временем ступеньках. Сойдя вниз, попала в узкий коридор с закрытыми дверьми по обеим сторонам. В конце он повернул направо и вывел в открытый двор, усыпанный соломой. Узкий серпик луны все заливал белым; впереди она увидела огромную дверь, а около нее у стены спящих людей. Она задула лампу, поставила наземь. Стоя уже у двери, обнаружила, что не может оттащить в сторону массивный засов, которым дверь заперта.
«Ты должна его сдвинуть», – подумала она, но чувствовала себя при этом слабой и больной, а ее пальцы срывались, скользя по холодному металлу. Она подняла чемодан и долбанула его углом по рукояти засова, отчего он вроде бы чуточку даже сдвинулся. В тот же миг одна из спящих фигур неподалеку зашевелилась.
– Echkoun?[139] – произнес мужской голос.
Она сразу присела и спряталась за штабелем мешков с чем-то сыпучим.
– Echkoun? – досадливо повторил тот же голос.
Немного подождав ответа, мужчина решил снова отойти ко сну. Она хотела попытать счастья еще раз, но слишком сильно дрожали руки, да и сердце билось так, что того и гляди выскочит из груди. Она откинулась на мешки и прикрыла глаза. И в тот же миг в доме кто-то забил в барабан.
Она аж подпрыгнула. «Это же знак! – догадалась она. – Ну конечно: точно так же бил барабан, когда меня сюда привезли». Теперь у нее не было сомнений, что она выберется. Немного отдохнув, она встала и пошла по двору в ту сторону, откуда доносились звуки. Теперь там били сразу в два барабана. Она вошла в дверь и очутилась в темноте. В конце длинного коридора виднелся выход в другой залитый лунным светом двор, она поспешила туда и увидела желтую полоску света, пробивающегося из-под двери. Немного постояла посреди двора, слушая нервную дробь, источник которой явно был за этой дверью. Барабаны перебудили всех петухов в округе, петухи принялись кукарекать. Она еле слышно постучала в дверь; барабаны не унимались, к ним присоединилась какая-то женщина, которая слабым высоким голосом завела песню с жалобным повторяющимся припевом. Прежде чем постучать снова, Кит долго набиралась храбрости, но на сей раз постучала громко и решительно. Барабаны смолкли, дверь распахнулась, и она, сощурившись, ступила внутрь комнаты. На полу среди подушек сидели три жены Белькассима, в изумлении глядя на нее широко открытыми глазами. Она стояла прямо и напряженно, словно столкнулась лицом к лицу со смертельно опасной змеей. Девушка-служанка затворила дверь и осталась стоять, привалившись к двери спиной. И тут три фурии, отбросив барабаны, заговорили разом, замахали руками, указывая вверх. Одна из них вскочила, подбежала к Кит и стала ее ощупывать, путаясь в складках ее струящегося белого одеяния, – надо думать, в поисках драгоценностей. Длинные рукава она задирала вверх, ища браслеты. Две другие возбужденно тыкали пальцами, показывая на чемодан. Кит стояла, по-прежнему не двигаясь, ждала, когда кончится этот кошмар. Дергая ее и пихая, они заставили Кит, склонившись над чемоданчиком, отпереть кодовый замок, который в других обстоятельствах сам по себе привел бы их в изумление и восторг. Сейчас, однако, они были целиком во власти подозрительности и нетерпения. На открытый чемодан набросились, стали копаться, выбрасывая содержимое на пол. Кит на все это смотрела. Она не верила своим глазам: какая удача! – ее чемодан интересует их больше, чем она сама. Пока они внимательно обследовали ее вещи, она частично восстановила самообладание и даже настолько осмелела, что позволила себе тронуть одну из них за плечо и показать ей, что драгоценности наверху. Женщины загомонили, с недоверием поглядывая наверх, и в конце концов отрядили служанку сходить проверить. Но в тот момент, когда девушка уже собралась было выйти из комнаты, Кит в страхе стала ее удерживать. Ведь она разбудит черную женщину! Женщины сердито подскочили, произошла краткая mle.[140] Когда потасовка утихла и все пять женщин стояли, тяжело пыхтя и отдуваясь, Кит с отчаянной гримасой на лице приложила палец к губам и сделала несколько преувеличенно осторожных шагов на цыпочках, одновременно со значением показывая на служанку. Потом, надув щеки, попыталась изобразить толстуху. Все поняли ее мгновенно и серьезно закивали; чувствовалось, что они согласны включиться в заговор. Когда служанка вышла, Кит попытались выспросить: «Wen timshi?»[141] Этот вопрос наперебой задавали все три женщины, и любопытства в их голосах было больше, чем злости. Ответить она не могла, а потому безнадежно пожимала плечами и трясла головой. Вскоре вернулась девушка и, видимо, сообщила, что все ценности действительно лежат на кровати, причем не только те, что отобраны у них, но и множество других. Узнав об этом, жены сделались несколько озадачены, но заметно повеселели. Когда Кит, встав на колени, стала запихивать пожитки в чемоданчик, одна из них присела рядом с нею и заговорила тоном, который определенно не был неприязненным. Кит, разумеется, понятия не имела, что женщина ей говорит; все ее помыслы вращались вокруг запертой на засов двери. «Я должна выбраться, я должна выбраться», – внушала она себе снова и снова. Пачка банкнот лежала в чемодане, завернутая в пижаму. Никто не обратил на нее внимания.
Когда чемодан был вновь уложен, она вынула губную помаду и маленькое ручное зеркальце, повернулась к свету и стала демонстративно краситься. Послышались восхищенные восклицания и вздохи. Тогда Кит передала предметы зависти одной из жен и предложила ей заняться тем же. Когда все три женщины, уже с ярко-красными губами, принялись собою и друг дружкой любоваться, она знаками показала им, что оставляет помаду им в подарок, но взамен они должны выпустить ее на улицу. По их лицам было видно, что желание пойти ей навстречу борется в них со страхом: с одной стороны, им хочется спровадить ее из дома куда подальше, но мешает страх перед Белькассимом. Все время, пока они этот вопрос обсуждали, Кит сидела на полу рядом с чемоданчиком. Смотрела на спорящих, нисколько не ощущая того, что эта дискуссия имеет к ней какое-то отношение. Да ведь и то сказать: все равно решение будет принято не здесь, а гораздо, гораздо выше этой неказистой комнатенки, где они стоят, чирикают. Вообще перестав следить за ними, она бесстрастно уставилась в пол перед собою, абсолютно убежденная в том, что выберется. Выберется, потому что… барабаны! Надо только выждать момент. После долгих обсуждений девушку-служанку опять куда-то послали, а вернулась она в сопровождении маленького черного старикашки, такого старого, что спина у него была согнута дугой, а шел он, шаркая и еле переставляя ноги. В дрожащей старческой руке он сжимал огромных размеров ключ. Он бормотал какие-то возражения, но было ясно, что его уже уговорили. Кит вскочила на ноги и взялась за чемодан. Каждая из трех жен подошла к ней и запечатлела у нее на середине лба торжественный поцелуй. Кит подошла к двери, где ждал ее старикашка, и вместе они пошли через двор. По пути он говорил ей какие-то слова, но что она могла ему ответить? Он привел ее в другое крыло дома и открыл перед нею маленькую дверцу. И вот она уже стоит одна на улице, застывшей в молчании.
XXVIII
Внизу расстилается ослепительное море, блистает и искрится в серебряном свете утра. Она лежит на узком, длинном выступе скалы лицом вниз, свесив голову и глядя, как медленные волны набегают откуда-то издалека – оттуда, где горизонт, выгибаясь вверх, обнимает собою небо. Ее ногти скребут по камню; она уверена, что упадет, если не будет цепляться, напрягая каждый мускул. Но долго ли она сможет так продержаться, вися между небом и морем? Выступ скалы становится все уже и уже; вот он врезается ей в грудь, мешает дышать. Или это она сама мало-помалу продвигается вперед – раз за разом смещает, чуть приподнявшись на локтях, свое тело на крохотную долю дюйма ближе к краю? Она уже свесилась настолько, что видит внизу с обеих сторон отвесные утесы, расколотые трещинами на отдельные высокие призмы, между которыми выросли толстые серые кактусы. А прямо под ней о стену из сплошного камня беззвучно разбиваются волны. Сырость воздуха еще несет в себе остаток ночи, но скоро она развеется, сохранившись разве что где-нибудь под поверхностью воды. На данный момент ее равновесие совершенно: вся жесткая, как доска, она лежит, балансируя на краю. А взглядом держится за дальнюю волну. Когда эта волна ударится о скалы, ее голова перевесит и баланс будет нарушен. Но волна почему-то не движется.
«Проснись! Проснись!» – пытается выкрикнуть Кит.
И разжимает руки.
Ее глаза, оказывается, открыты. Занимается рассвет. От скалы, прислонившись к которой она сидела, стало больно спине. Она вздохнула и немного изменила позу. Здесь, среди скал, вдали от города, да еще и в столь несусветное время суток, очень тихо. Она посмотрела в небо и увидела пространство, обретающее свет и ясность. Первые робкие звуки, донесшиеся из этого пространства, были, казалось, не более чем вариациями на тему изначально присущей ему тишины. Ближние валуны и отроги скал, как и дальние городские стены, медленно проявляясь, выходили из царства невидимого, но все, что ниже, еще пребывало в виде эманации глубин и теней. И чистейшее небо, и кусты, вдруг возникшие рядом, и россыпи гальки у ног – все это будто вытащили из колодца абсолютной ночи. И словно оттуда же в центр ее сознания плеснуло странной апатией, смутными мыслями, что бродят где-то в глубине и совсем не подчиняются ее воле, поскольку сами есть не что иное, как ускользающие обрывки ее же внутренней сути, маячащие на фоне еще не остывшего сонного небытия – того сна, что готов вернуться и вновь заключить ее в свои объятия. Ан нет: она продолжает бодрствовать, нарождающийся новый свет вливается в ее глаза, хотя соответствующей ему живости в ней нет: нет ощущения связи с местом и временем, не возникает чувства личной сопричастности, присутствия в себе личности как таковой.
Проголодавшись, она встала, подняла чемодан и двинулась вдоль скал по едва намеченной тропке, протоптанной, может быть, козами и шедшей параллельно городской стене. Взошло солнце; она почувствовала его тепло на затылке и шее. Накинула на голову платок. Вдалеке слышались шумы города: лязги, выкрики, лай собак… Через какое-то время она прошла под плоской аркой ворот и снова оказалась в городе. Никто ее не замечал. Рынок был полон черных женщин в белых одеждах. Она подошла к одной из женщин, взяла у нее из руки банку пахты и выпила. Женщина стояла, ждала, когда покупательница расплатится. Нахмурившись, Кит нагнулась к чемоданчику, открыла. Вокруг столпились еще несколько женщин, некоторые с детьми, угнездившимися на спинах; все стоят, смотрят. Она вытянула из пачки тысячефранковую банкноту, протянула. Но женщина лишь уставилась на незнакомую бумажку и развела руками, отказываясь взять. Кит продолжала совать ей деньги. Когда владелица товара поняла, что других денег ей не предложат, она подняла крик, призывая полицию. Смеющиеся женщины с готовностью подступили, кто-то из них схватил предложенную купюру, стали рассматривать, но в конце концов отдали обратно Кит. Их язык звучал певуче и незнакомо. Гарцуя, мимо процокал копытами белый конь, верхом на котором сидел высокий негр в форме цвета хаки, его лицо было испещрено шрамами, как покрытая резьбй деревянная маска. Кит вырвалась от женщин и простерла к нему руки, ожидая, что он поднимет ее к себе в седло, но он лишь искоса на нее посмотрел и проехал мимо. К группе зевак присоединились несколько мужчин, они стояли от женщин обособленно, ухмылялись. Один из них, увидев в ее руке деньги, подошел ближе и принялся рассматривать ее и ее чемодан с нарастающим интересом. Подобно всем другим, он был высок, строен и очень черен; через плечо у него был перекинут потрепанный бурнус, но, помимо этого, его костюм включал в себя пару грязных белых брюк европейского покроя, что отличало его от других, одетых в туземное исподнее. Подойдя к ней, он тронул ее за локоть и что-то сказал по-арабски; что именно, она не поняла. Потом говорит:
– Toi parles franais?[142]
Она не шевельнулась: просто не знала, что делать.
– Oui,[143] – в конце концов все же вымолвила она.
– Toi pas Arabe,[144] – определил он, осмотрев ее.
Повернувшись к толпе, он объявил, что дама француженка. Все на несколько шагов отступили, оставив его и Кит в центре круга. После этого женщина снова стала требовать денег. Кит, с зажатой в руке тысячефранковой купюрой, по-прежнему стояла неподвижно.
Мужчина вынул из кармана несколько монет и бросил их рассерженной владелице товара, та пересчитала их и медленно отошла. Другие расходиться не спешили: вид француженки, одетой как арабка, их заинтриговал. Мужчине это не понравилось, он стал их с негодованием расталкивать – дескать, у вас что, своих дел нет? Он взял Кит за руку и мягко потянул.
– Здесь нехорошо, – сказал он. – Пойдем-ка.
Взяв у нее чемодан, повел через рынок – мимо куч овощей и соли, мимо шумливых покупателей и торговцев.
Когда они миновали колодец, где женщины набирали воду в кувшины, она попыталась от него сбежать. Через минуту жизнь станет полной боли. Слова уже возвращаются, а из-под словесной обертки того и гляди полезут мысли. Жаркое солнце высушит их; их надо бы держать внутри, в темноте.
– Non![145] – вскричала она, вырывая у него свою руку.
– Мадам, – проговорил мужчина укоризненно. – Пойдемте, сядем.
Опять она позволила ему куда-то тащить себя сквозь толпу. Пройдя весь рынок, они вошли под аркаду, в тени которой скрывалась дверь. В коридоре было прохладно. В конце его, подбоченясь, стояла толстая женщина в клетчатом платье. Не успели они толком войти, как она визгливо закричала:
– Амар! Ты кого сюда тащишь? Это что еще за saloperie?[146] Сколько раз тебе говорить: я запрещаю водить в мою гостиницу местных женщин! Ты что, пьян? Allez! Fous-moi le camp![147] – И она с грозным видом двинулась к ним.
На мгновение растерявшись, мужчина потерял контроль над подопечной. Кит машинально развернулась и пошла к двери, но он кинулся за ней и снова схватил ее за локоть. Она попыталась вырваться.
– Она понимает по-французски? – удивилась женщина. – Ну что ж, тем лучше. – Тут она увидела чемодан. – А это что? – спросила она.
– Да вещи же! Ее. Она француженка, – объяснил Амар с обидой в голосе.
– Pas possible,[148] – усомнилась женщина. Подошла ближе и окинула Кит внимательным взглядом. В конце концов снизошла: – Ah, pardon, madame.[149] Но в этой одежде вы… – Окончание фразы повисло в воздухе, но потом в голосе хозяйки снова зазвучало подозрение: – У меня, знаете ли, приличная гостиница! – Какое-то время она колебалась, затем, пожав плечами, неохотно разрешила: – Enfin, entrez si vous voulez.[150] – И отступила в сторону, давая дорогу Кит.
Кит, однако, все это время яростно пыталась высвободиться. Мужчина не отпускал.
– Non, non, non! Je ne veux pas![151] – истерически кричала она, царапая его руку. А потом обвила свободной рукой его шею и, всхлипывая, положила голову ему на плечо.
Хозяйка в изумлении на нее уставилась, потом перевела взгляд на Амара. Ее лицо потемнело.
– О нет, забери-ка ты ее отсюда! – снова нахмурившись, сказала она. – И отведи в тот бордель, откуда взял. Et ne viens plus m’emmerder avec tes sales putains! Va! Salaud![152]
Снаружи солнце, казалось, стало еще свирепее. Мимо потянулись глинобитные стены и лоснящиеся черные лица. Воистину, нет предела скучному однообразию этого мира.
– Я устала, – сказала она Амару.
И вот они уже сидят рядом на длинном диване в унылой комнатенке. Подходит негр в феске, вручает каждому по стакану кофе.
– Я хочу, чтобы все это кончилось, – очень серьезно сказала она им обоим.
– Oui, madame,[153] – сказал Амар и похлопал ее по плечу.
Она допила свой кофе и легла у стенки, глядя на мужчин из-под полуприкрытых век. Они о чем-то говорили, говорили – бесконечно. О чем, ей было не интересно. Когда Амар встал и вместе с другим негром куда-то вышел, она подождала, пока их голоса стихнут, и тогда тоже вскочила и выбежала через другую дверь. За дверью оказалась лесенка наверх. На крыше стояла такая жара, что у нее перехватило дух. И мухи, мухи вокруг нее повсюду, их жужжание почти заглушало неясный гомон, доносившийся с рынка. Она села. Еще минута, и она начнет плавиться. Она закрыла глаза, и мухи быстро-быстро заползали по ее лицу, садясь, взлетая и опять садясь с неистовой настырностью. Она открыла глаза и увидела большой город, окружающий ее со всех сторон. И каскады слепящего, искрящегося, чуть ли не скворчащего света, падающего на крыши, крыши, крыши… бесконечные террасы крыш.
Мало-помалу ее глаза привыкли к этой ужасной яркости. Она стала различать предметы, лежащие на глиняном полу поблизости: какие-то тряпки; высохший трупик странной серой ящерицы; выцветшие, раздавленные спичечные коробки и комочки белых куриных перьев, склеенных вместе запекшейся темной кровью. Она куда-то должна была идти; вроде бы кто-то ждет ее. Как сообщить этим людям, что она опаздывает? Потому что насчет этого сомнений быть не может: она, конечно же, явится гораздо позже оговоренного срока. Тут она вспомнила, что не отправила телеграмму. Но в этот момент из маленькой дверцы вышел Амар и направился к ней. Она с усилием встала на ноги.
– Подождите здесь, – сказала она, протиснулась мимо него и юркнула в помещение, потому что на солнцепеке чувствовала себя совершенно больной.
Мужчина посмотрел на бланк, потом опять на нее.
– Куда вы хотите это послать? – повторил он.
Она недоуменно затрясла головой. Он подал ей бланк, на котором она увидела слова, написанные ее рукой: «НЕ ЗНАЮ КАК ВЕРНУТЬСЯ». Мужчина на нее смотрел во все глаза.
– Это неправильно! – вскричала она по-французски. – Мне надо кое-что добавить.
Но мужчина по-прежнему не сводит с нее глаз – нет, он не сердится, но словно чего-то ждет. У него маленькие усики и голубые глаза.
– Le destinataire, s’il vous plait,[154] – снова сказал он.
Она опять пихнула лист бумаги ему, потому что слова, которые следовало добавить, никак не шли ей в голову, а телеграмму хотелось послать немедленно. Но она ясно видела, что отправлять ее он не собирается. Вытянув руку, она дотронулась до его лица, коротко потрепала по щечке.
– Je vous en prie, monsieur,[155] – умоляюще проговорила она.
Их разделял прилавок; мужчина отступил, теперь ей стало до него не дотянуться. Тогда она выбежала на улицу, где стоял чернокожий Амар.
– Быстрее! – крикнула она, не останавливаясь.
Он побежал следом, во весь голос к ней взывая. уда бы она ни бежала, он был рядом, пытался остановить.
– Мадам, мадам! – повторял он.
Он не понимал, в чем она видит опасность, а она не могла заставить себя остановиться и что-либо объяснить. Какое там! На это нет времени! Теперь, когда она себя обнаружила, войдя в контакт с противной стороной, на счету каждая минута. Они не пожалеют усилий, чтобы выследить и разыскать ее, они взломают стену, которую она выстроила, заставят ее обратить взгляд на то, что у нее там схоронено. По выражению лица голубоглазого мужчины она поняла, что запустила механизм, который ее уничтожит. И останавливать его уже поздно.
– Vite! Vite![156] – задыхаясь, призывала она Амара, который, весь в поту, бежал рядом, тщетно пытаясь протестовать.
Теперь они были на открытом месте у дороги, которая вела к реке. Вдоль дороги там и сям сидели на корточках почти голые нищие, каждый из которых при их приближении принимался бормотать свою собственную священную формулу просьбы. Больше никого в обозримой близости не было.
Негр в конце концов с ней поравнялся, взял ее за плечо, но она удвоила прыть. Вскоре, однако, ее бег замедлился, и тогда он крепко схватил ее и заставил остановиться. Опустившись на колени, она вытерла тыльной стороной ладони мокрое лицо. В ее глазах все еще стыл ужас. Он присел с нею рядом прямо в пыль и неловкими похлопываниями по руке попытался утешить.
– Вы куда так мчитесь? – отдышавшись, спросил он. – Что случилось?
Она молчала. Дул жаркий ветер. Вдали у реки по дороге шел человек с упряжкой из двух волов. Амар тем временем говорил ей:
– Послушайте, это был мсье Жофруа. Он хороший человек. Вам ни к чему его бояться. Он уже пять лет работает у нас на телеграфе.
Звучание последнего слова произвело на нее такое действие, будто в нее ткнули иголкой. Она даже дернулась.
– Нет, не буду! Нет, нет, нет! – зарыдала она.
– Да, кроме того. Вы знаете, – продолжал Амар, – те деньги, которыми вы хотели с ним расплатиться, здесь не годятся. Это алжирские деньги. Даже в Тессалите уже нужны АОФ-франки. А алжирские деньги – это контрабанда.
– Контрабанда? – повторила она слово, которое для нее не значило ровно ничего.
– Они тут dfendu,[157] – пояснил он с усмешкой и попытался помочь ей встать на ноги.
Когда это не удалось, он немного подождал, заставил ее накрыть голову платком и сам прилег, завернувшись в бурнус. Солнце жгло, с чернокожего мужчины пот тоже лил градом. Ветер усилился. По плоской черной земле несло песок, как по морским волнам, бывает, ветер гоняет пену.
Вдруг она сказала:
– А давайте пойдем к вам домой. Там меня не найдут.
Но в этом он ей отказал, пояснив, что там нет места, у него большая семья. Лучше он отведет ее в тот дом, где они уже пили кофе чуть раньше.
– Но это же кафе! – возразила она.
– У Аталлы много комнат. Вы можете ему заплатить. Даже этими вашими алжирскими деньгами. Он их поменяет. А еще у вас деньги есть?
– Да, есть. В чемодане. – Она огляделась. И безучастно спросила: – А где он?
– Вы оставили его у Аталлы. Он его вам отдаст. – Негр осклабился и сплюнул. – Ну что? Немножко пройдемся?
Аталла был у себя в кафе. В углу, занятые беседой, сидели несколько торговцев с севера, все в тюрбанах. Амар и Аталла постояли немного в дверях, поговорили. Потом провели ее в жилую часть дома позади кафе. В комнатах было темно и очень прохладно, особенно в последней; там Аталла поставил на пол ее чемоданчик и указал в угол, где прямо на полу было расстелено одеяло – мол, можете ложиться. Как только он вышел (в дверном проеме еще колыхался полог), она повернулась к Амару и притянула его лицо к своему.
– Ты должен спасти меня, – проговорила она между поцелуями.
– Да, – торжественно пообещал он.
Своим присутствием он ее успокаивал примерно так же, как Белькассим волновал.
Аталла не поднимал полог до вечера, а когда поднял, при свете лампы оказалось, что оба лежат на одеяле и спят. Он поставил лампу у дверного косяка и вышел.
Через какое-то время она проснулась. В комнате было тихо и жарко. Она села и окинула взглядом лежащее рядом долговязое черное тело, недвижимое и блестящее, как изваяние. Она положила ладони ему на грудь; сердце билось медленно и мощно. Тело шевельнулось, задвигало руками и ногами. Открыло глаза, губы тронула улыбка.
– У меня большое сердце, – сказал он, накрыл ее ладони своими и задержал их на своей груди.
– Да, – рассеянно сказала она.
– Когда я в порядке, мне кажется, что я лучший мужчина на свете. Когда болею, я ненавижу себя. Я говорю: не-ет, Амар, никуда ты, брат, не годишься. Не мужик ты, а дерьма кусок. – Он усмехнулся.
За стенкой что-то с грохотом упало. Он почувствовал, как она вся съежилась.
– Почему ты так всего боишься? – сказал он. – А я знаю почему. Потому что ты богатая. Потому что у тебя денег полный баул. Богатые всегда боятся.
– Я не богатая, – сказала она. Помолчала. – Это из-за головы. Голова болит. – Высвободив руку, она перенесла ее с его груди себе на лоб.
Взглянув на нее, он снова усмехнулся.
– А думаешь, потому что много. a c’est mauvais.[158] Голова – она вроде неба. Внутри себя вращает там чего-то, крутит, крутит… Только очень медленно. А когда думаешь, заставляешь ее крутить быстрее. Вот она и болит.
– Я люблю тебя, – сказала она и провела кончиком пальца по его губам. Но уже понимала, что на самом деле ей до него не достучаться.
– Moi aussi,[159] – ответил он, легонько куснув ее за палец.
Она всплакнула, несколько слезинок капнуло на него; он наблюдал за ней с любопытством, время от времени качая головой.
– Нет-нет, – сказал он. – Поплачь немножко, но не слишком долго. Когда немножко, это хорошо. Когда слишком долго – плохо. Никогда нельзя думать о том, что кончилось. – (Эти слова ее успокоили, хотя она не могла вспомнить, что же именно кончилось.) – Женщины всегда думают о том, что кончилось, вместо того чтобы думать о том, что начинается. У нас здесь говорят, что жизнь – это высокая скала и, когда на нее лезешь, нельзя оглядываться. Иначе может закружиться голова.
Его мягкий голос что-то говорил, говорил, и в конце концов она снова легла. Она по-прежнему была убеждена, что это конец, что скоро ее найдут. Ее поставят перед высоким зеркалом и скажут: «Смотри!» Ей придется смотреть, и это будет конец. Тьма сновидений развеется, свет ужаса сделается постоянным; на нее направят безжалостный луч; боль станет непереносимой и нескончаемой. Дрожа, она прижалась к нему. Придвинувшись всем телом ей навстречу, он ее крепко обнял.
Когда она снова открыла глаза, в комнате стояла непроглядная тьма.
– Никто не должен отказывать человеку в деньгах на оплату света! – сказал Амар. Зажег спичку и поднял ее высоко верх.
– Что ж, ты теперь богат, – сказал Аталла, одну за другой пересчитывая тысячефранковые купюры.
XXIX
– Votre nom, Madame.[160] Вы ведь, конечно, помните, как вас зовут?
Она оставила вопрос без внимания; другого способа от них избавиться у нее не было.
– C’est inutile.[161] Ничего вы от нее не добьетесь.
– А среди одежды у нее точно нет никакого удостоверения?
– Non, mon capitaine.[162]
– Идите опять к Аталле и поищите еще. Мы знаем, что у нее были деньги и чемодан.
Время от времени раздавался надтреснутый звон малого церковного колокола. По комнате ходила монахиня, ее сестринские одеяния при этом громко шуршали.
– Кетрайн Морсби, – сказала сестра, произнося это имя медленно и совершенно неправильно. – C’est bien vous, n’est-ce pas?[163] У вас забрали все, кроме паспорта; повезло еще, что хоть его-то нашли.
– Откройте глаза, мадам.
– Вот, выпейте. Вам понравится. Это лимонад. От него вам хуже не будет. – Чья-то рука коснулась ее лба.
– Нет! – вскрикнула она. – Нет!
– Пожалуйста, лежите тихо.
– Консул в Дакаре советует отослать ее обратно в Оран. Вот, ждем ответа из Алжира.
– Просыпайтесь, с добрым утром.
– Нет, нет, нет! – застонала она, кусая подушку. Ах, зачем, зачем она это допустила!
– Так долго кормить ее приходится только потому, что она отказывается открыть глаза.
Она-то понимала, что постоянными упоминаниями ее закрытых глаз они всего лишь пытаются заставить ее возразить: «Да нет, они у меня открыты!» На что ей скажут: «Что-что? Они у вас открыты, правда? Тогда – смотрите же!» И все: она окажется беззащитной перед жутким образом себя и навалится боль. А так перед ней на краткие моменты появляется отсвечивающее черным тело Амара – вот прямо здесь, рядом, освещенное лампой, по-прежнему горящей у двери, – а иногда она видит лишь бархатную тьму в комнате, но Амар при этом недвижим, а комната статична; время не проникает сюда извне, поэтому он и не меняет позы и всеобъемлющее молчание стоит целиком, не распадается на фрагменты.
– Все уладили. Консул согласился оплатить ей перелет «Трансафриканской». Завтра у нас кто? А, Демовю утром летит с Этьеном и Фуше.
– Но надо ведь, чтобы кто-то ее сопровождал.
Повисло многозначительное молчание.
– Да вы не думайте, она будет сидеть тихо.
– Heureusement je comprends franais,[164] – вдруг услышала она свой собственный голос. И продолжила, все так же по-французски: – Спасибо, что так подробно все мне объяснили.
Услышать эту длинную речь в собственном исполнении было так дико и странно, что она даже рассмеялась. И подавлять этот свой смех не видела причин: ведь хорошо же! Что-то непреодолимо дергалось и щекоталось у нее внутри; от этого из нее рвался хохот, тело сгибалось пополам. Довольно долго ее не могли успокоить: сама мысль о том, зачем ей вдруг пытаются мешать, когда это так приятно и вдобавок само получается, казалась ей еще смешней дурацкой и потешной длинной речи.
Когда приступ смеха кончился и на нее напала расслабленность и сонливость, монахиня-медсестра сказала:
– Завтра вы отправитесь в путешествие. Надеюсь, вы не станете осложнять мне жизнь необходимостью одевать вас. Я знаю, вы вполне способны делать это самостоятельно.
Она не ответила, потому что не верила ни в какие путешествия. Она собиралась и дальше лежать в той комнате рядом с Амаром.
Сестра заставила ее сесть и через голову надела на нее какое-то колом стоящее платье, от которого пахло хозяйственным мылом. И то и дело пыталась с ней заговаривать:
– Взгляните на эти туфли. Как вы думаете, они вам впору?
Или:
– Как вам ваше новое платье? Расцветка нравится?
Кит не отвечала. Тут какой-то мужчина схватил ее за плечо и принялся трясти.
– Ну я прошу вас, мадам, сделайте одолжение, откройте глаза! – требовал он.
– Vous lui faites mal,[165] – сказала сестра.
Потом она в сопровождении каких-то людей медленно шла по гулкому коридору. Брякнул слабенький церковный колокол, и сразу где-то неподалеку пропел петух. Ей в щеку дул прохладный ветерок. Потом ударил в нос запах бензина. Мужские голоса; в безбрежности утреннего простора они даже как-то терялись. Когда ее усадили в машину, сердце быстро забилось. Кто-то крепко держал ее под локоть, ни на секунду не отпуская. В открытые окна задувал ветер, отчего в машину набился горьковатый душок древесного дыма. Машину трясло, мужчины разговаривали без умолку, но она их не слушала. Когда машина остановилась, в короткий промежуток тишины проник собачий лай. Потом ее из машины вывели, хлопнула дверца – одна, вторая, – и ее повели по хрусткой кремнистой дорожке. Ногам было больно: туфли оказались все-таки малы. Иногда она тихонько бормотала себе под нос: «Нет, нет, нет…» Зачем эта рука так крепко держит ее за локоть? А бензином-то здесь как воняет!
– Asseyez-vous.[166]
Она села; чья-то рука продолжала ее держать.






