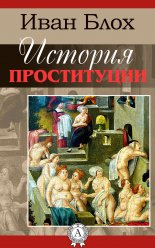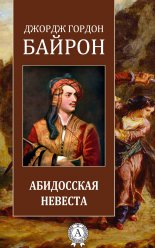Страсть гордой княжны Шахразада
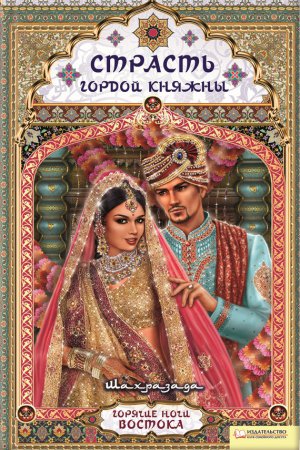
– Но, добрая моя кормилица, ночью же так страшно… Черно…
– Глупенький мой сыночек. Ночью спокойно, ночью все живое собирает силы для нового дня, купаясь в прохладных лунных лучах. Ночная прохлада освежает, очищает разум от гнева и боли, внушает высокие мысли. Нет для человеческого разума лучше времени, чем ночь.
Масуд в ответ на это только пожимал плечами, а нянька не просто чувствовала страх своего малыша – этот страх заставлял и ее зябко втягивать голову в плечи. Вот поэтому и решила мудрая Зухра этой душной ночью выйти в ночной сад вместе с Масудом.
О нет, она не стыдила его, говоря, что мужчине невместно бояться темноты, не смеялась над его страхами – ведь каждый чего-то боится, все равно, молод он или стар. Так уж устроил Аллах всесильный, и не стоит глупому правоверному бороться со столь мудрым устройством мира.
– Дай руку, Масуд. Не бойся, опусти глаза – у нас под ногами каменная тропинка… Вот мы сделали один шаг в глубину сада, вот второй… А теперь слушай. В давние-давние времена стоял в одной деревне старый храм. И все было бы ничего, если бы не поселился в том храме оборотень. Стали люди бояться к храму подходить: то покажется им, что ступени скрипят, а то вроде смеется кто-то. Жуть, да и только.
Масуд молчал, лишь крепче сжимал руку Зухры. Та ненадолго остановилась и погладила мальчика по плечу.
– Вот видишь. Даже в далекой стране, что лежит на самом восходе солнышка, живут люди, которые чего-то боятся… Так вот. Как-то раз собрались жители деревни в доме у старейшины, думать стали, как оборотня усмирить. И так прикидывали, и эдак, а ничего решить не могли. Кто же по собственной воле ночью в храм пойдет?
Масуд вцепился в руку Зухры еще сильнее: ему почудилось, что там, по правую руку, темнота стала еще темнее и от нее во все стороны с тихим-претихим шорохом расползаются черные-пречерные щупальца…
Зухра вновь погладила малыша по головке и положила руку на шею, чтобы мог Масуд чувствовать тепло ее ладони.
– А в это самое время, – голос кормилицы звучал не таинственно, а совсем буднично, словно не среди страшного черного ночного сада рассказывает она сказку об оборотне, а в теплой и уютной комнате, освещенной дюжиной свечей, – пришел в деревню торговец снадобьями. Звали его Тасукэ, был он молод, а потому ничего не боялся. Рассказали ему старейшины о своем жутком соседе, а Тасукэ им ответил:
– Да неужели никто с оборотнем справиться не может? Ладно, помогу вам – сам в храм пойду.
– Какой смелый… – пробормотал Масуд. – А что, он и в самом деле ничего не боялся?
– Должно быть, нет, раз уж решился в одиночку в старый храм войти.
– Бывают же на свете смелые люди… – как-то совсем по-взрослому вздохнул мальчик.
– Да, малыш. Каждый из нас, живущих под рукой Аллаха всесильного и всевидящего, по-своему смел. Надо лишь дождаться того мига, когда твоя смелость и решительность кому-то понадобятся.
– А что было дальше? Что сделал оборотень со смелым торговцем?
– Дождался Тасукэ ночи и в храм отправился. А осенью ночи тихие: ни звука кругом. Сидел Тасукэ в храме, сидел, скучно ему стало, он и зевнул. Да так громко! Запело эхо на всю округу, все вторит, вторит, остановиться не может. Наконец стихло все. Видит Тасукэ – стоит перед ним оборотень, улыбается.
– Ой… – Как захотелось Масуду сейчас оказаться как можно дальше от этого черного сада! Но Зухра была рядом. «А она все-таки девчонка… – вдруг совсем по-взрослому подумал Масуд. – Девчонка, а ночи не боится».
Зухра, должно быть, услышала эти мысли Масуда, улыбнулась, пусть даже в ночном саду не было видно ее ясной улыбки, и продолжила:
– Ты кто такой? – спрашивает оборотень. – Смельчак, что ли? Один ко мне пришел?
– Конечно один. А то с кем же? – не понял Тасукэ и снова зевнул.
Оторопел оборотень:
– Так ты что же, меня не боишься?
– Что значит «боишься»? – не понял Тасукэ.
– Чудак ты, да и только! – захихикал оборотень. – Все люди на свете чего-нибудь боятся. Вот ты чего боишься?
– Отстань от меня, – рассердился Тасукэ. – Не возьму в толк, о чем ты речь ведешь.
Примостился оборотень рядом с Тасукэ и объяснять принялся:
– Понимаешь, – говорит, – ты обязательно чего-нибудь бояться должен. Вот я, к примеру, оборотень. Меня все боятся, потому и в храм не ходят.
– Ты? Оборотень? – переспросил Тасукэ. – Никогда бы не подумал!
– Да, я – оборотень, – гордо ответил тот. – Ты тоже меня должен бояться.
«А почему надо бояться оборотня?» – Сначала эта мысль промелькнула в голове Масуда. И лишь мгновение спустя он решился переспросить вслух.
– А почему, мудрая Зухра, надо оборотня бояться?
«Так думал сам оборотень, малыш… Он знал, что все его боятся, вот и принимал это как должное. А тут появился человек, который даже не знает этого слова… Вот оборотень и растерялся».
Такой ответ Зухры вполне удовлетворил Масуда, и лишь много дней спустя, вспоминая этот душный темный вечер, понял мальчик, что ответила-то нянька мысленно! А вслух она продолжала сказку:
– Ну вот еще! – ответил Тасукэ. – Дурак я, что ли, тебя бояться. Уж если я чего и боюсь, то это золотых монет. Как увижу – мурашки по коже.
– Какой странный торговец, – в голосе Масуда зазвучали нотки купеческого сына. – Должно быть, дела Тасукэ шли совсем скверно, если он боялся золотых монет. Должно быть, только медяки и водились в его кошеле.
– Не думаю я, малыш мой. Вот послушай, что будет дальше.
– Ну, я же говорил, говорил! – обрадовался оборотень. – Все на свете чего-нибудь да боятся.
– Все? Все-все? – не поверил Тасукэ. – И ты тоже?
– Я? – задумался оборотень. – По правде говоря, боюсь я вареных баклажанов. Прямо до дрожи боюсь. Запах у них противный, с ума меня сводит.
«Вот дурачок! – подумал Масуд. – Какому-то неизвестному прохожему взять и выболтать свою тайну… Должно быть, это был ненастоящий оборотень. Глупый, какой-то недооборотень…»
Зухра беззвучно рассмеялась:
«Недооборотень? Смешное слово. Нет, оборотень как раз был самый обыкновенный. Он же все время был один, вот и забыл, что при разговоре с незнакомцами мудрее всего держать язык за зубами. И уж не откровенничать с кем попало».
– Слушай же, что было дальше. Посмотрел оборотень в окошко. «Светает уже, пора мне уходить, – говорит. – Приходи завтра, я тебя пугать буду!»
На следующую ночь Тасукэ снова отправился в храм. Захватил он с собой большой чан с крышкой и много-много баклажанов принес. Сварил их, крышкой закрыл и ждать стал, когда оборотень пожалует. В полночь тот явился. Идет, потом обливается. Присмотрелся Тасукэ получше, видит – несет оборотень большой мешок. Отдышался и говорит:
– Ну, готовься, сейчас я тебя пугать буду.
Вынул он из мешка горсть золотых монет и в Тасукэ швырнул.
– Ну что, страшно тебе? – спрашивает. – Сейчас еще страшнее будет.
Бросился Тасукэ от оборотня, бегает по храму и кричит:
– Ой, боюсь! Ах, боюсь!
Масуд громко рассмеялся. И с удивлением заметил, что вокруг не чернющая-пречернющая ночь, а всего лишь темно-фиолетовые сумерки. Высоко в небесах мерцают яркие звезды, а луна льет прозрачный голубой свет на деревья и траву, на Зухру и на него, глупого трусливого мальчишку. Даже сказка про оборотня перестала быть страшной, да и сам оборотень перед мысленным взором Масуда вдруг превратился в никчемного суетного старикашку, который не может испугать никого.
– Обрадовался оборотень, – продолжала Зухра. – Кричит: «Все чего-нибудь боятся! Я был прав!» Бегал Тасукэ по храму до тех пор, пока оборотень весь пол золотом не усыпал. А потом подбежал к чану да крышку-то и открыл. Вырвался оттуда пар, и наполнился храм запахом вареных баклажанов. Поморщился оборотень, задергался весь, а потом опрометью из храма бросился. Выбежал в сад, за дерево схватился и превратился в гриб, большой-пребольшой.
Обрадовались жители деревни, что от оборотня избавились. Накупили у Тасукэ в благодарность много-много трав и снадобий. А потом пошли в храм золотые монеты собирать. Смотрят – а это и не монеты вовсе, а грибочки. Так ни с чем и ушли.
– Выходит, глупые жители деревни простого гриба боялись? Они хоть поняли потом, что страхи их совсем пустыми были?
«Говорят, сынок, что гриб тот до сих пор у храма стоит. Сначала жители его съесть хотели, да раздумали: может, он ядовитый, раз оборотнем раньше был…»
Масуд хмыкнул. «Совсем как взрослый… Да, быстро растет мой сыночек, – подумала Зухра. – Настоящий мужчина растет, во славу Аллаха всесильного и всевидящего!»
«Странные какие-то все-таки эти деревенские жители… Простого гриба боятся. Оборотней, которых и вовсе нет на белом свете, боятся. Жизни свои кому попало доверяют…»
Масуд сделал несколько шагов по тропинке. Он и не заметил, что произнес эти слова не вслух, а воспользовался внутренней, безмолвной речью. Мальчик уже не боялся ночи, потому что она была вовсе не черна, не боялся отпустить руку кормилицы, потому что она была всего лишь слабой женщиной и ее следовало защищать. Не боялся он и оборотней, потому что вовсе в них не верил.
И совсем не боялся этой безмолвной беседы, не боялся речей, которые не слышны, ибо посвященным тайна их открыта, а разум непосвященных к этому чуду не готов.
Вот так и смогла мудрая Зухра сделать следующий шаг в овладении удивительным, давним и временами столь непонятным умением. Нет, она не знала, когда ее малышу пригодится такое умение, как не знала, пригодится ли оно ему вообще. Но все то, что дано Аллахом всесильным, – человеку во благо. Надо лишь вовремя поблагодарить творца всего сущего и это умение из непонятного дара превратить в полезный.
Свиток пятый
Нечасто удавалось юному Масуду вернуться вспять по реке времени мысленно. Нечасто мог он улучить несколько минут, чтобы просто побыть наедине с самим собой, взвесить события прошедшего, быть может, посмотреть на день сегодняшний через призму дня вчерашнего. Ведь иногда там, в дали прожитых лет, и кроется ответ на сегодняшние трудные вопросы, которые не дают человеку спокойно смотреть в глаза собственному отражению в зеркале.
Отец Масуда, достойный Рахим, как мы помним, очень обрадовался рождению первенца. Ведь он верил, что тот, когда вырастет, продолжит его непростое торговое дело. Эта мечта любящего родителя вполне понятная, и трудно с этим спорить. Малышом Масуд оправдывал все надежды своего любящего отца. Однако, когда Масуду исполнилось семнадцать, юноша отчетливо понял, что отец осторожничает, опасается доверить ему торговлю, не решается поручить что-либо более серьезное, чем проверку дневной выручки или учетных книг, исписанных рукой хитрого управляющего.
Масуд пытался понять, отчего отец, безусловно, радующийся усердию сына, не торопится довериться ему в делах. Пытался вспомнить, когда подвел Рахима или хотя бы солгал. Но, увы, ничего не приходило в голову. И поручения отца он выполнял всегда усердно, и не лгал ему (ну, или старался этого не делать без крайней нужды)…
«Так в чем же дело, Зухра? – как-то раз решился он задать вопрос своей кормилице. – Отчего отец так осторожен со мной?»
Самые нужные, самые важные беседы, особенно те, которые вовсе нельзя никому доверить, Масуд и Зухра вели мысленно. Так было куда легче сохранить тайну. Да и упражнение в безмолвных разговорах никогда не оказывалось лишним.
Зухра, конечно, не могла знать всего, что происходило между отцом и сыном, однако подсказала совсем простой выход.
«Малыш, попробуй вспомнить что-то из своего, возможно, совсем далекого прошлого, что вызвало у твоего отца покровительственную улыбку. Быть может, после какого-то разговора он сказал, что все это лишь твои выдумки…»
– Выдумки? – От удивления Масуд заговорил вслух.
– Конечно. Обычно мы начинаем сомневаться в своих близких очень и очень не сразу, ибо изначально верим им и верим в них. Но бывает, что какая-то давняя детская выдумка, невинная шалость, вроде лягушки на ковре в курительной комнате или под одеялом у старшей сестры, навсегда превращает мальчишку, да и девчонку тоже, в изгоя в собственном доме.
Масуд с некоторым удивлением слушал свою обычно немногословную и спокойную няньку. Должно быть, в ее судьбе было что-то, что вложило нешуточное волнение в эти – такие простые! – слова.
Юноша покорно склонил голову и позволил Зухре потрепать себя по волосам – так она делала в те счастливые дни, когда мальчишка был ниже ее ростом. Сейчас же, когда Масуду исполнилось семнадцать, невысокой Зухре приходилось поднимать голову, чтобы посмотреть в глаза своему «малышу».
Следуя ее мудрому совету, Масуд устроился в тени старого орехового дерева на заднем дворе и попытался вспомнить день за днем, сколь вообще такое возможно, все свои беседы и просто встречи с отцом. Попытался припомнить и те дни, когда вместе с Рахимом отправлялся к родне погостить и когда просто гулял, радуясь тому, какая крепкая и уверенная рука у отца и как уютно в ней его, старшего сына, ручонке.
Светлые картины детства на удивление легко увлекли его вспять по реке времени, позволив вновь почувствовать себя мальчишкой сначала в тринадцать, потом в десять, потом в семь лет… И тут, о счастье, что есть на свете мудрые советчики, вспомнился Масуду вечер накануне Рамадана, когда он решился открыть отцу свой секрет. Пусть Зухра не раз предупреждала его, что об умении безмолвно беседовать никто посторонний знать не должен, но отец же вроде вовсе не посторонний. И, быть может, он тоже, тайком, упражняется в подслушивании чужих мыслей. Так разве не обрадуется он, узнав, что можно найти в любимом старшем сыне не только наследника, но и тайного собеседника?
Должно быть, именно так рассуждал шестилетний Масуд, когда однажды вечером вошел в кабинет отца. Рахим с головой ушел в работу и даже не сразу заметил, что открылась и потом закрылась дверь.
– Батюшка… – вполголоса позвал Масуд.
Но отец головы не поднял. Похоже, он даже не услышал.
– Отец! – чуть громче повторил Масуд.
Но и это не помогло – Рахим скрипел пером с таким усердием, словно старался оставить надпись видной и на каменной столешнице.
Тогда Масуд решил, что следует позвать отца мысленно, как уже много раз он звал добрую свою нянюшку.
«Отец! Ответь мне!»
И в этот миг Рахим вздрогнул. То ли напомнил о себе старый шрам, что беспокоил его после давнего сражения с неверными, посмевшими бросить алчущий взор на стены Великого города, то ли сквозняк был совсем уж ледяным. Однако Рахим вздрогнул и этим укрепил надежду в душе сына.
– Отец мой, позволишь ли прервать твои занятия?
– Сынок, ты меня напугал. – Рахим оторвался от бумаг с видимым удовольствием. И этим еще больше укрепил Масуда в его надежде.
– Батюшка, мне нужно задать тебе очень важный вопрос. Ты позволишь?
– Малыш, ну зачем такие церемонии? Что случилось? Ты захворал?
«Аллах великий, ну почему я должен сразу захворать? Неужели только это тебя волнует, добрый мой усталый отец?» Увы, вот этого не услышал Рахим, а жаль. Однако арба судьбы, как и время, катится только вперед…
– Нет, добрый мой батюшка. Однако я должен открыть тебе одну важную тайну.
– Ну что ж, мой любимый сын, – быть может, и против желания, однако в голосе Рахима зазвучала ирония. – Я весь обратился в слух…
Однако эта ирония не насторожила мальчика, который решительно продолжил:
– Отец мой, я слышу мысли других людей.
Масуд проговорил это на одном дыхании и лишь потом поднял глаза на отца. Он, в тайне от самого себя, надеялся, что отец сейчас встанет, обнимет его за плечи и скажет что-то вроде: «И я, малыш, тоже…»
Однако надежде этой, увы, сбыться не суждено было. Отец широко распахнул глаза и даже слегка привстал.
– Что ты слышишь? Какие мысли?
Масуд пожал плечами – совсем как делал это его отец, когда объяснял что-то важное нерадивым слугам.
– Я слышу мысли других людей!
– Да? – Рахим улыбнулся. Он-то уже понял, что сын просто неумно шутит. Да и к тому же отрывает его, озабоченного отца, от расчетов.
– Да, мой добрый отец. Слышу, хотя иногда люди мыслят так же невнятно, как и говорят.
Рахим не мог не улыбнуться серьезности этих слов в устах семилетнего мальчишки. О, конечно, он готов был поддержать любую игру сына, однако сейчас было видно, что Масуд вовсе не шутит и что никакой игры тут нет: мальчик искренне верит в то, что говорит.
– И что же за мысли ты слышишь, мой любимый колдун?
– Ты не веришь мне?
– Верю, сынок. Конечно верю…
– Ты не веришь… – Глаза мальчика потухли, плечи опустились.
О, если бы у Масуда хватило смелости в этот миг повернуться и уйти! Или у Рахима хватило мудрости сказать, что верит, и попытаться подыграть сыну. Однако ни смелости у одного, ни мудрости у другого недостало, чтобы прервать эту игру, и потому далее случилось то, что случилось.
– Да будет так, отец. Раз ты мне не веришь… Тогда проверь меня!
– Да будет так, сын! – Еще миг – и Рахим бы рассмеялся. Или разозлился всерьез. И даже сейчас можно было бы превратить все в шутку. Увы. Настроение отца, словно огромное зеркало, отразило серьезность сына. – Я проверю тебя.
Он опустил обе ладони на стол и пристально взглянул прямо в лицо сына.
– Итак, мой юный маг, о чем я сейчас думаю?
И стал думать о Коране, что раскрытым лежал на отдельном столике черного дерева. Конечно, мысли уважаемого Рахима тут же пошли дальше: он уже не думал о книге, пусть даже и самой главной в жизни каждого правоверного. Мысли его улетели к жизнеописанию пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, потом вернулись к наставлениям, оставленным им… Потом взгляд Рахима перескочил на свежеочиненное перо, ведь наставления пророка были записаны… Потом вновь переметнулся к окну – окно выходило на полуночь, а не указывало направление на Мекку, город, священный для каждого приверженца Аллаха всесильного и всемилостивого. Одним словом, то были самые обыкновенные мысли самого обыкновенного человека.
Масуд честно пытался уследить за ними, так же честно потерпел поражение, ибо он успел лишь понять, что речь идет о книге. Какой-то из книг, что в изобилии украшали кабинет.
Мальчик ответил на пристальный взгляд отца не менее пристальным взглядом и твердо сказал:
– Ты думаешь о книге, отец.
Рахим рассмеялся.
– Малыш мой, давай закончим эту глупую игру. Я тебе верю, конечно. И знаю теперь, что ты умеешь читать мысли. А сейчас беги, меня ждут важные бумаги.
Рахим, конечно, рассмеялся от облегчения, ведь он-то думал не о книге, а о священных для любого правоверного вещах: о Коране, о мудрости пророка, об истории великого учения…
Масуд расстроился. О нет, не просто расстроился – тяжкое, безысходное отчаяние охватило его. Он помнил, как светло улыбнулась Зухра подобному признанию, какую огромную тайну она ему открыла. А отец… Нет, отец оказался самым обыкновенным – таким же недоверчивым, как любой другой взрослый.
Спина мальчика согнулась, на глаза набежали слезы, и он вышел, шаркая ногами, как столетний дед. Увы, отец ему не поверил.
Рахим же вернулся к своим занятиям. Но где-то в глубине души сохранилось это воспоминание: и об игре сына, и о том, что Масуд прервал очень важную работу, а значит, игру ставит выше дела.
Увы, Рахим одной частью разума сознавал, что сыну всего семь лет. Но другая часть, та, что была занята важными расчетами, втайне досадовала, что пришлось прерваться ради глупой игры.
А мальчишка запомнил, что отец ему не верит. И чем больше старался он завоевать доверие отца, тем чаще тот вспоминал, как глупая откровенность сына оторвала его от важного и нужного дела.
О Аллах всесильный и всевидящий, из каких крохотных зерен порой вырастают высокие леса, закрывающие прекрасное солнце истины!
Нечто подобное пришло и в голову Масуда, когда он вспомнил эту давнюю и такую, на первый взгляд, невинную историю. «Аллах великий, – пронеслось в голове юноши, – я потратил более десятка лет, мечтая об отцовском доверии. И не понимая, что никому и ничего доказывать не надо. Словами не надо, надо доказывать делами. Ибо лишь дело поможет убедить моего отца, упрямого подобно тысяче ослов, что нет у него помощника надежнее сына, как нет и опоры надежней».
О, как был бы счастлив Рахим, если бы смог услышать эту мысль сына! Но, увы, дар великий в нем не просто спал, а спал мертвецким сном. И сон этот опровергал давнюю истину, что неведение – благо.
Свиток шестой
В тот раз отец впервые взял Масуда с собой в долгое путешествие. Быть может, он хотел испытать юношу, быть может, испугать… Или просто ему нужен был надежный помощник, а кто лучше старшего сына поможет отцу? Во всяком случае, именно на это надеялся Масуд, когда унылые «корабли пустыни» миновали первую, самую легкую часть пути – исхоженную караванную тропу, и ступили на камни солончака, отклонившись от проторенного маршрута.
Впереди, как уверял проводник, лежало семь дней пути по жаркому и открытому пространству. Но можно было втрое быстрее дойти до обитаемых мест: всего день отделял их от знаменитого Лазуритового пути – заповедной караванной тропы, что вела от месторождений на полудень и восход – от столицы Афрасиаба до далекой страны Сер, жадной до украшений из магических голубых с белыми прожилками камешков и камней. По правде говоря, начинался Лазуритовый путь не столько от места, где находили прекрасный минерал, сколько от торжища, где камни, утаенные от казны и надсмотрщиков, продавали за половину цены или даже за четверть. Купеческие караваны считались неприкосновенными, а потому никто не отваживался рыться в переметных сумах или сундуках, уже навьюченных на невозмутимых верблюдов.
Масуд поначалу недоумевал: зачем пытаться укоротить путь? Почему неразумно будет проследовать до торжища вместе с караваном? Отец на эти вопросы отвечать не хотел, он лишь поджимал тонкие губы и отрицательно качал головой в некогда темно-зеленой, а теперь изрядно выгоревшей на солнце чалме.
Только когда миновало два дня пути по солончаку из обещанных проводником семи, Рахим вполголоса проговорил:
– Мальчик, мы торопимся, дабы успеть к самому началу торжища. Известно, что камней много, их хватит всем, однако самые лучшие из них, достойные того, чтобы украсить собой одеяние императора или руку богача, бывают лишь в первый день торгов. Ибо лишь в первый день на знаменитом Каменном Базаре продают купцам не ворованные камни, а те, с какими готова расстаться казна владыки.
– Понятно, добрый мой отец. Но почему ты раньше не мог объяснить мне это?
– Не хотел гневить судьбу, мальчик. Лишь сейчас стало ясно, что мы обогнали караваны и будем первыми. Теперь можно говорить об этом, не боясь предательства.
«О да, не бояться хитрости лазутчиков Мехмета или банды ибн Фираса…» – услышал Масуд продолжение слов отца.
Мудрости юноши уже хватало на то, чтобы не переспрашивать, пытаясь уточнить те слова, которые мелькали в разуме собеседника, но не произносились вслух. А потому Масуд просто склонил голову в поклоне – ведь он и в самом деле был согласен с тем, что с судьбой шутить нельзя.
Отец был неразговорчив, и это удивляло юношу, ибо дома Рахим разливался цветистыми речами. «Должно быть, наговорившись дома всласть, мой мудрый отец предпочитает молчать в долгой дороге… Или, Аллах великий, ведь так тоже может быть, не желая гневить судьбу и выбалтывать лазутчикам тайные планы, отец столь усердно молчит в путешествии, что с удовольствием потом дома дарит себе возможность выбалтывать все. Даже сердечные тайны своих приятелей-купцов. Счастье, что Бесиме обычно в беседах этих участия не принимает».
Да, даже беседуя сам с собой, Масуд не называл свою мать матушкой, вспоминая ее лишь по имени, как соседку-приживалку, что вынуждена жить одним домом с людьми совершенно посторонними. Раньше частенько случалось, что Рахим в пылу ссоры кричал, чтобы отправлялась Бесиме в свою провинцию, подальше на восход, и не портила причитаниями и скандалами жизнь ему, уважаемому купцу, и его прекрасному сыну, веселому и послушному Масуду. Однако в последние годы ссоры поутихли, а отец все чаще говорил, что на самом берегу прекрасного теплого моря, в трех днях пути от столицы далекой страны Ал-Лат, стоит заброшенное поместье, управляет им старик Джифа… И если ему, Масуду, когда-нибудь доведется оказаться там, в прекрасной, как сон, и далекой, как мечта, стране, то найдется, где преклонить усталую голову.
Масуд лишь кивал и пожимал плечами – трудно восемнадцатилетнему юноше думать о том, что может произойти, а может и не произойти когда-нибудь в будущем. Юность любит день сегодняшний, иногда вспоминает день вчерашний, но почти никогда не думает о дне завтрашнем.
Отрадными для Масуда в этом первом странствии стали долгие беседы с предводителем каравана, почтенным Максудом – почти тезкой юного странника. Именно он, а не отец, научил его премудростям странствий и поделился сотней маленьких хитростей, которые должен знать всякий купец, решившийся идти с караваном или примкнуть к нему для того, чтобы сделать свой путь хоть самую малость безопаснее.
Удовольствие от общения с почтенным Максудом было для юноши еще бльшим оттого, что слышал он и мысли уважаемого предводителя каравана, столь похожие на его речи, что они иногда казались эхом друг друга. «Должно быть, – думал Масуд, – почтенный предводитель научился от всех скрывать свои мысли, подозревая, что когда-нибудь в его караване появится такой человек, как я. Но весьма вероятно, что человек этот, имеющий особое умение, будет обременен и иными задачами, мало походящими на те, что решает в дороге обычный купец».
Продолжительные и неторопливые беседы с Максудом были наградой за долгий и трудный день. Ибо на закате, когда караван становился лагерем и веселое пламя костра начинало лизать закопченные бока котлов, вспоминал Максуд какую-нибудь историю из своей более чем богатой на события жизни. Причем частенько рассказывал о себе так, будто повествует о незнакомце, о тех делах, которые видит со стороны, как чужак. Эта удивительная манера беседы, пляшущие языки огня, высокие черные небеса, украшенные огромными яркими звездами, – все вместе дарило юноше изумительное ощущение причастности к настоящему чуду, которое вершится прямо сейчас, перед его взором.
Но более всего запомнилась Масуду история о том, как почтенный предводитель каравана впервые шел по нынешней тропе, обгоняя других караванщиков, чтобы первым попасть на торжище. О Аллах всемилостивый, к каким, оказывается, хитростям приходится иногда прибегать тому, кто хочет обмануть саму судьбу и всех тех, кто желает быть равным самой судьбе!
Костер уже почти прогорел, на углях стоял чайник; почти все спутники Рахима уснули. Лишь он, юный Масуд, и почтенный караванщик остались сидеть перед гаснущим огнем. Вот тогда и поведал Максуд свою удивительную и забавную историю.
– О Аллах всесильный и всемилостивый, как же Максуд-странник любит ночь! – зазвучал во тьме хрипловатый голос караванщика. – И более всего он любит ночь в дороге. Тишина и прохлада обнимают его своими нежными руками, яркие звезды горят в вышине, призывая его взгляд своими певучими голосами; спит все живое вокруг.
Он любил ночь с той давней поры, когда был совсем крохой – самым младшим ребенком в огромной семье. Старший из братьев давно уже женился и навещал семейство не очень часто, старшая из сестер готовилась выйти замуж. Он же, трехлетний карапуз, вероятно, был несносен. Хотя, быть может, все, кто окружал его, просто хотели передать ему знания и умения, свой вкус к жизни и собственный жизненный опыт, пусть и небогатый, но все же куда больший, чем у него, малыша Максуда. И это, столь похвальное желание многочисленных сестер и братьев, бабушек и тетушек, дядей и дедов столь утомляло мальчика, что он забирался под самую крышу, в каморку, в которой, кроме него, мог поместиться разве что призрак, и там пережидал порывы родственной любви.
«Забавно… Почтенный Максуд страдал от избытка родственной любви, мне же ее иногда так не хватает. И оба мы сбегаем в одиночество, ибо лишь оно становится нашим лекарством».
– Увы, – со смешком продолжал Максуд, не подозревая о мыслях в голове юного «почти тезки» Масуда. – Проходили годы, но желание старших учить его уму-разуму не проходило. Лишь в тот день, когда старший брат отца, достойный путешественник Файзулла ибн Фатих, взял его с собой, впервые вкусил Максуд радость настоящего уединения. Мальчик превратился в юношу. Его собеседниками стали книги и свитки, да так, что вскоре и самые почтенные книжники считали честью для себя побеседовать с юным знатоком. Но и тогда более всего наслаждался Максуд тишиной и покоем, даруемым чтением. Братья и сестры так и не поняли, сколь сильно утомляют они мальчика своими настойчивыми поучениями, а потому продолжали втолковывать юноше то, что он знал, должно быть, куда лучше их всех, вместе взятых.
«Аллах всесильный… Вот и поди пойми, что теперь делать: жалеть юного Максуда или завидовать ему?» – Масуд попытался представить, каково это – целыми днями слушать поучения, зная наперед каждое слово. И понял, что он более чем легко может вообразить себе это, ибо тоже сначала слышал мысли своих наставников и учителей, а затем уже их слова, зачастую менее выразительные и более лживые, чем подлинные мысли говорившего. И лишь одна Зухра, «матушка Зухра», старалась мальчику не лгать ни мысленно, ни вслух, а потому лишь ее, доброй кормилицы, замечания и поучения выслушивал малыш Масуд спокойно, без восстающего, подобно гигантской кобре, духа противоречия.
– Шли годы. Максуд из самого младшего превратился сначала в юношу, а потом и в зрелого мужа. Он не женился, ибо не мог представить, что рядом с ним появится женщина, которая тоже, подобно многочисленной родне, будет поучать и требовать, смеяться и плакать, чего-то все время желать и на чем-то все время настаивать. В своей нелюбви к людям Максуд зашел так далеко, что готов был удалиться в пустыню и жить там отшельником. И лишь мудрость его дяди, того самого уважаемого путешественника, теперь уже седого старца, помогла Максуду. По его велению он стал караванщиком. И теперь, спустя не одно десятилетие, превратился в предводителя каравана, несравненного знатока известных и тайных троп, мудрого и молчаливого защитника чужого имущества от посягательств воров и разбойников.
«О да, почтеннейший, слава о тебе гремит далеко. Слово твое купцы уважают как свое собственное, тебе одному готовы доверить не только грузы, но и свои жизни. Должно быть, такое людское доверие удручает. Но и заставляет изо всех сил это доверие оправдывать».
Максуд продолжил рассказ, утверждая юношу в его мнении и одновременно развенчивая это самое мнение.
– Иногда для того, чтобы довести караван без приключений, Максуд нанимал чужеземных бойцов, иногда вел караван совсем уж глухими тропами. Бывало, прибегал к услугам проводников, но лишь в самом крайнем случае, так как куда более полагался на собственное, обострившееся за годы чутье, чем на людей.
Он давно уже понял, что превратился в законченного человеконенавистника. И оправдывался лишь тем, что люди много чаще подают повод подозревать их, чем восхищаться или уважать.
«Воистину, уважаемый, так оно и есть! Представляю, что бы ты думал о людях, если бы слышал, сколь разнятся их слова с помыслами. Тогда ты стал бы не просто человеконенавистником. Быть может, даже подался бы в палачи…»
Масуд усмехнулся этим своим мыслям, найдя много общего в собственной судьбе и в судьбе почтенного предводителя каравана.
– Вот поэтому и любил ночь Максуд, предводитель караванов. Ибо ночь заранее предупреждала о своем появлении, она никогда не манила миражами, была безжалостна, но и честна.
Свиток седьмой
И вновь Масуд не мог не согласиться со словами уважаемого Максуда:
– А теперь, мои почтенные спутники, пора вспомнить о том, что я обещал рассказать. О том, как впервые прошел тропой, по которой мы следуем сегодня.
Рахим кивнул, то ли соглашаясь выслушать историю достойного Максуда, то ли просто показывая, что еще не спит. Предводитель каравана уселся поудобнее, пригубил чая и, подняв глаза вверх, дабы там, среди звезд, прочесть начало истории, продолжил:
– Нынешний поход был для Максуда весьма важен. Уважаемые купцы поручили ему довести караван до далекой чинийской столицы, прекрасного города Лояна. Ибо там мечтали они пасть в ноги наместнику, дабы передать драгоценные камни и пряности. Камни пошли бы на строительство Храма Белой Лошади и были бы даром чинийцам, что населяли всю империю под рукой самог Великого халифа. Пряности же предназначались императору и стоили ничуть не меньше, чем все камни и драгоценности, когда-либо перевозимые караванами Максуда. И если пряности уже были уложены в мешки и сундуки, то камни, прекрасные камни, достойные украшения прекрасного храма, еще следовало купить. На том самом торжище, великом Каменном Базаре, куда мы держим путь сейчас.
Сам Максуд гтов был отказаться от такого почетного, но опасного поручения. Но лесть, о, этот воистину сладкий яд для ушей и разума, сделала свое дело. Лесть и немалые деньги, которые обещаны были ему после успешного возвращения домой. О да, почетно быть единственным, кто может выполнить воистину невыполнимое. Но в то же время это и весьма глупо. Ибо любой его, Максуда, шаг мгновенно становился известен недругам.
– Уважаемые мои собеседники, – тут Максуд поклонился Рахиму, – могут спросить, какие же недруги могут быть у предводителя каравана, человека небогатого и незаметного. И удивятся эти собеседники весьма и весьма, когда узнают, что недругов у него куда больше, чем у самого богатого купца. Ибо зависть ленива, а соперничество деятельно. Тот, кто лишь просто завидует богатству, сидит неподвижно. Тот, кто желает богатство украсть, суетится и временами побеждает. А что же тот, кто этому вору препятствует, кто умеет его перехитрить и вернуть украденное истинному хозяину? Да-да, тот становится его, вора, самым страшным врагом.
Вот потому у Максуда и было множество врагов. И сейчас, на первом привале у подножья гор, через которые завтра ляжет караванная тропа, Максуд-предводитель прикидывал, кто из врагов бросился за ним в погоню.
«Воистину, отец был более чем мудр, найдя почтенного Максуда и пригласив его провести наш караван. Весьма разумно было бы сказать, что Аллах всесильный посылает нам встречу с людьми именно тогда, когда она более всего нужна…» Благовоспитанность мешала Масуду высказать свои мысли вслух, перебив неспешное повествование предводителя. «Завтра, – решил юноша. – Я спрошу у него завтра».
Рассказ же продолжался.
– Максуд вспоминал своих врагов, пытаясь прикинуть, кто же из них… Искендер из рода Расулов, уроженец Черной земли Кемет? К счастью, он уже безопасен. Некогда рекомый Искендер, тогда еще зрелый муж, попытался отобрать богатый караван, который впервые повел Максуд. Но горы на пути сыграли с людьми Искендера скверную шутку: их покусали змеи, которым вроде бы и неоткуда было взяться на иссушенных каменистых склонах. Тогда Искендер решил, что Максуд призвал на помощь волшебство, дабы уберечь караван, и ославил караванщика колдуном. Но купцы, все чаще прибегавшие к услугам молодого предводителя, в один голос решили, что он может быть хоть сыном самого Иблиса Проклятого, но если доводит караваны до цели без потерь, то иного не следует и искать. Кто еще? Франк Жуан, решивший, что знает путь до Восходных скал, места, где солнце поднимается из океана? У него достанет здравого смысла или, быть может, трусости удержаться от похода в неизвестность. Слуга конунга, Ялгмар Беспощадный, уже несколько десятков лет живущий в прекрасном Багдаде? О, этот мог бы рискнуть своей шкурой. Но он стар, и стары спутники его юности. Они просто не решатся на столь далекий и трудный поход.
«Кто же еще?» – спрашивал Максуд у холодной Луны. Но лишь тишина была ему ответом. В этой тишине он и уснул, дабы завтра из-под поседевших бровей вновь настороженно осматривать каждый камень под ногами…
– Прости, что прерываю, уважаемый, – трудновато кланяться, сидя на кошме, однако Масуду это удалось, должно быть, благодаря юношеской гибкости. – Но почему он об этом думал, раз уж все равно вывел караван?
– Потому, уважаемый, что это был последний лагерь у перекрестья невидимых обывателю троп. Одна из них, та, какой думал воспользоваться Максуд, вела по труднодоступным местам, однако вывела бы к цели много быстрее другой. Ему, предводителю, преграды и враги были не страшны, однако они могли навредить каравану, а этого, понятно, Максуд хотел менее всего.
– Я понял тебя, уважаемый. Но, прости еще раз мне сей вопрос, должно быть, Максуд так и не пришел к какому-то выводу?
– Ты прав, юноша. Он не утвердился во мнении, кого следует опасаться. И потому решил, что на помощь ему может прийти давняя охотничья хитрость, о которой некогда рассказала ему мудрая матушка. Слушай же, юноша, что было дальше.
Масуд почтительно склонил голову, подумав, что достойному предводителю каравана воистину не помешал бы дар, подобный его дару, – умение читать мысли собеседника. «Должно быть, – решил Масуд, – дар сей не помешает никому, так как приносит много благ и полезен в любом деле и в любую пору». Увы, вывод этот был столь же правилен, сколь и ошибочен, ибо «во многом знании много печали…»[1]. Конечно, эту фразу Масуд слышал неоднократно, думал, что знает ее смысл. Однако знать и понимать – вещи порой более чем различные. Иногда для понимания уже известного приходится пережить множество пренеприятнейших минут.
Эти мудрые мысли юноши остались Максуду неизвестны, и он продолжил свою неторопливую сагу.
– Его, предводителя, собственный храп оказался предателем… Звуки богатырского сна главы каравана заглушили осторожные шаги того, кто ждал этого мига. Ящерицей скользнула черная верткая тень, растворившись в черноте у скал. Блеснула едва видимая искра из-под кресала – и вот уже факел осветил камни вокруг входа в узкую пещеру.
– Да пребудет Аллах с каждым из нас! – прошептал неизвестный в темноту.
И с удовольствием услышал в ответ:
– И да охранит он нас своею великой милостью!
Второй факел осветил стены крошечной пещеры, способной укрыть путника, но всего лишь одного.
– Максуд уснул…
– О да, я слышу это! – Изуродованное длинным шрамом лицо говорившего скривилось в усмешке. Лицо же пришельца по-прежнему оставалось в тени. – Ты узнал, что везет караван?
«Воистину, наш предводитель рожден поэтом, сказителем… – с улыбкой, к счастью, не различимой в темноте, подумал Рахим. – Самый занимательный плутовской роман не идет ни в какое сравнение с его историей. Мне уже вовсе не хочется спать. Однако очень хочется узнать, что же было дальше».
– О да, – мальчишка (а лазутчиком был совсем юный отрок) рассмеялся. – Добрая половина мешков нагружена пряностями. Запах их так силен, что за ним теряется и запах пота, верблюжьего и человеческого.
– Но ты уверен, что это не уловка старого хитреца, дабы скрыть истинный характер груза?
– Нет, уважаемый. Я наудачу запустил руку в один из мешков… Вот, понюхай сам.
Мальчишка раскрыл ладонь, и в ноздри человека с изуродованным лицом ударил запах аниса, терпкий и кисловатый.
(Признаюсь, почтенные, что запах этот вел и того, кто следил за юным лазутчиком. Ибо малыш, а чего еще ждать от юности, переусердствовал. А у тайного его соглядатая чувства были обострены долгими годами непростой жизни. Прислушаемся же к разговору мальчишки, уважаемые…)
– Но зачем же везти обычный анис через горы в… Куда, ты сказал, отправляется караван?
– Я ничего такого не сказал, уважаемый, – покачал головой мальчишка. – Никто из нас не знает конечной цели странствия, не знаем мы и того, сколь долго это странствие продлится. Известно лишь, что все мы, погонщики, – круглые сироты, что на родине ни у кого из нас не осталось родственников, которые считали бы дни до нашего возвращения…
Незнакомец усмехнулся, и шрам превратил его лицо в чудовищную маску смерти.
– Это мудрый поступок. Мудро не говорить погонщикам ничего, мудро найти тех, кого никто не ждет. Но и глупо одновременно, ибо вызывает подозрения. А все то, что подозрительно, – небезопасно.
– Да, уважаемый, – согласно кивнул мальчишка.
– Итак, зачем же вести через горы в неведомые страны обычный вонючий анис?
– Не только анис… Я слышал еще ароматы асафетиды и бадьяна, куркумы и зиры…
– Это неважно, глупец. Зачем везти все это на восход, если обычно караваны, нагруженные специями, держат свой путь на закат? Разве мало на восходе мест, где растут все эти вонючие травки и кустики?
– Прости, уважаемый, ответов на твои вопросы я не знаю.
– Да я и не жду их от тебя, дурачок, – пробормотал незнакомец.
– …Я знаю лишь то, что караван, груженный пряностями и предводительствуемый оглушительно храпящим Максудом, завтра взойдет на горную тропу, ведущую через хребет и ущелья куда-то на восход.
– Этот хитрец решил идти по древней, столетиями нехоженой тропе, – проворчал человек с изуродованным лицом. – Что ж, не будем соревноваться в мудрости, Максуд-странник. Я просто последую за тобой и все узнаю сам.
Затем он обернулся к мальчишке.
– Возвращайся к каравану, глупец. Да смотри, зорко следи за каждым шагом своего предводителя! А завтра ночью вновь ищи мой знак. Если привал будет в горах, ты увидишь его на окрестных скалах. Если ж появится жилье человеческое – на двери или стене, рядом с тем местом, где я найду приют. Вот тебе монетка за труды.
Блеснуло благородное золото, и мальчишка, раскрывший было рот, низко поклонился и убежал.