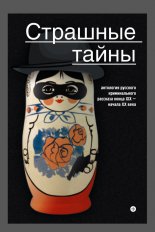Мы над собой не властны Томас Мэтью

Коннелл уже давно понял, что напрочь лишен актерских способностей. На сцене он не знал, куда смотреть, а в эту постановку пришел только ради того, чтобы было о чем разговаривать с Дженной — той самой Дженной, что смотрела сейчас ему прямо в душу. А он не знал, куда девать руки, — они нелепо болтались по бокам.
— Проделаем небольшое упражнение. Обе шеренги — шаг назад! Заметили разницу? Посмотрите в глаза партнера! Смотрит ли он вам в глаза?
Смотрит, а то как же. Дженна смеялась. Кажется, ее непритворно смешило, что они случайно оказались в паре.
— Так, а сейчас я вас попрошу сделать кое-что не совсем обычное. Признайтесь своему партнеру в любви! Не надо смущаться. Скажите, что любите.
— Я люблю тебя, — сказал Коннелл.
Их разделяла всего пара шагов. Дженна произнесла то же самое, улыбаясь и выгнув брови, словно приглашая Коннелла рассмеяться вместе с ней. А ведь она ни разу не говорила ему этих слов...
— Теперь еще шаг назад. Хороший такой, широкий шаг! Теперь вам хуже видно друг друга, правда? Может, ненамного, а все-таки. Чем же компенсировать увеличившееся расстояние? На спектакле зрители будут сидеть очень далеко от вас. Итак, еще раз признайтесь друг другу в любви!
Коннелл повторил громче. У Дженны слова шли, казалось, из самого сердца. Что тут скажешь: таланта у нее не отнять.
— И еще шаг назад! Не думайте о расстоянии. Говорите, словно по-прежнему глаза в глаза, только громче.
— Я люблю тебя, — беспомощно повторил Коннелл через раскрывшуюся между ними пропасть.
Голос у него был не поставлен — он не знал, что делать с диафрагмой, и быстро выдыхался.
— Теперь два шага! Кричите во все горло! Это любовь, черт возьми!
Коннелл крикнул, как велено, и закашлялся. Дженна стала всего лишь одной из фигурок в длинном ряду.
— И снова два шага! Еще разок!
На этот раз Коннелл не кричал, только слушал. Отдельных голосов было не разобрать. Все слились в единый пылкий призыв.
— И напоследок еще один шаг! Ну постарайтесь от души!
Горло саднило. Дженна превратилась в размытое пятно где-то вдали. Коннелл раскинул руки и заорал что было силы.
Когда мама по телефону попросила его приехать домой, он сказал, что не может подвести режиссера и всю труппу — это было бы безответственно. В ее молчании ясно читалось, насколько она потрясена такой наглостью: ссылаться на ответственность, отказываясь помочь родителям. По правде говоря, он и сам был потрясен.
Только в эту минуту он понял, до какой степени боится встречи с отцом. Конечно, он планировал когда-нибудь вернуться домой — просто не в ближайшее время. Дженна обеспечивала замечательный предлог, но теперь ею уже не оправдаешься. Наверное, можно было бы сказать, что он хочет остаться в Чикаго, чтобы сгладить размолвку с Дженной. «С моей будущей женой, — скажет он когда-нибудь потом. — По крайней мере, в то время я так думал». Но Коннелл уже слишком ясно увидел их отношения в истинном свете, и притвориться, будто он ничего не понимал, не получится.
Неужели он старался поскорее вырасти, чтобы скрыть собственную инфантильность? А Дженну позвал замуж ради веской причины не приезжать домой? Если честно, он и сам боялся женитьбы. Не хотел он этого брака, так же как и Дженна. После ее отказа он почувствовал скорее облегчение. Но вот беда: теперь придется подумать о том, от чего он всеми способами уклонялся. У него не осталось больше предлогов держаться вдали от дома.
Он отказался от участия в спектакле, набил обе сумки грязным бельем и сел в самолет. Мама сказала, что не сможет его встретить, так что Коннелл поехал из аэропорта на автобусе, дальше поездом и от станции пошел пешком.
Пропихнулся со всеми сумками в дверь черного хода, и тут же на него обрушился рев телевизора из маленькой комнаты. А, точно, мама же говорила, что у отца выявили нарушения слуха. Коннелл двинулся на звук, но отец обнаружился в прихожей: стоя на шаткой стремянке, он выглядывал в крошечное окошко над парадной дверью. Коннелл убавил звук телевизора, потом вернулся и окликнул отца. Тот, не оборачиваясь, что-то невнятно пробормотал. Коннелл тронул его за плечо и сказал погромче:
— Пап! Я приехал!
Новость не произвела на отца ровно никакого впечатления, хотя Коннелл отсутствовал почти целый год.
— Он там, — серьезно произнес отец, заговорщически глядя на Коннелла.
— Кто?
— Тот тип. Каждый раз приходит.
— Да где?
Коннелл, привстав на цыпочки, тоже выглянул в окно и никого не увидел, кроме садовника, — тот как раз закончил подстригать живую изгородь и перешел к соседнему дому.
Коннелл показал пальцем:
— Ты про него? Про Сэла?
— Нет, нет, нет!
Глаза отца сверкнули. Рука задергалась. Он понизил голос и смотрел испуганно, словно говоря, что тут всего можно ожидать.
Коннеллу хотелось верить, что отец пока еще в состоянии адекватно оценивать опасность. Неужели Коннелл пришел как раз вовремя?
Он вновь повернулся было к окну и сразу отступил назад, чувствуя себя идиотом.
— Спускайся! — Он потянул отца за рукав, но тот словно закоченел на верхней ступеньке.
— Да ладно тебе, всего один шаг! Давай, ногу вперед...
Отец осторожно попробовал ногой ступеньку, быстро отдернул и попробовал с другой ноги.
— Обопрись на меня, — сказал Коннелл.
Отец навалился на его плечо и кое-как спустился со стремянки. Почувствовав под ногами ровный пол, он захлопал в ладоши и вдруг смутился, словно только сейчас заметил сына. Потом стал взволнованно тыкать пальцем в окно:
— Он там! Там!
Коннелл подошел посмотреть. В самом деле, за окном был человек — тот самый, кого не остановят непогода и стихийные бедствия. Быть может, он принес с собою смерть и разрушение, а может, рекламные брошюрки местного супермаркета.
— Пап! Это же просто почтальон!
Почтальон скрылся за живой изгородью.
— Я ему не доверяю, — сказал отец и неожиданно быстро зашагал в кухню.
Там он поднял жалюзи над раковиной, так что его лицо в окне наверняка было хорошо видно снаружи.
Когда отец наконец отошел в сторону, стало видно, что планки жалюзи в нескольких местах погнуты. Наверное, мама устала их без конца заменять и оставила так. Для нее это целый переворот в сознании.
Отец открыл дверь, потом внешнюю, сетчатую, — да с такой силой, что она ударилась о стену, отскочила и стукнула его, выходящего из дому. Вернулся он с охапкой писем и прочей корреспонденции, прижимая ее к груди и уронив часть по дороге. Все, что сумел удержать, он вывалил на стол в кухне, словно груду яблок из корзины.
— Что ты делаешь? — ошарашенно спросил Коннелл.
— Получаю почту.
— Вот так?
— Я ее каждый день забираю.
— Ты же только что боялся! Говорил, что не доверяешь ему.
— Каждый день приходит... Я его не знаю.
— Он почтальон! — заорал в отчаянии Коннелл.
— Я не доверяю ему.
— Папа, это почтальон!
— Я ему не доверяю.
— Ты хоть понимаешь, что он приносит почту?
— Ну да, — рассудительно ответил отец. — Он каждый день приходит.
— Тогда в чем ты его подозреваешь?
— Я его не знаю, — повторил отец. — А почту я забираю каждый день. Это моя обязанность. У меня и другие обязанности есть.
Шаркая, он побрел в маленькую комнату и там сел на диван. Коннелл снова включил звук. Телевизор взревел. Коннелл ушел в кухню. Подобрал упавшие письма. Когда отец в последний раз вскрывал конверт? И будет ли он это делать еще когда-нибудь?
Коннелл соорудил себе бутерброд с арахисовым маслом и вареньем. Из комнаты доносился треск помех. Коннелл заглянул: отец смотрел, как «снег» идет на экране, словно это была нормальная передача. Он и не шелохнулся под этот адский шум, стискивая в руке пульт управления, словно магический талисман. Коннелл попробовал забрать пульт, но отец вцепился мертвой хваткой. Коннелл подошел к телевизору, убавил звук и стал вручную переключать каналы, пока не появилось изображение.
— Эта штука не работает, — недовольно сообщил отец.
Рот у него приоткрылся, и оттуда потекла тоненькая струйка слюны. Коннелл утер отцу подбородок его же рукавом. Отец вдруг понимающе посмотрел на него. Коннелл растерялся: значит, кое-что он все-таки еще соображает? Отец чуть слышно что-то промычал.
— Так хорошо с тобой увидеться, — сказал Коннелл и обнял его одной рукой.
Отец, не отрывая взгляда от экрана, погладил себя по коленке.
— Хорошо, — сказал он. — Хорошо.
Они смотрели «Коломбо». Персонаж Питера Фалька, пессимистичный сыщик в своем неизменном плаще, кривил лицо в усталой и чуть-чуть растерянной гримасе — в ней смешались опыт и невинность. «Господи, спасибо тебе за „Коломбо“, — думал Коннелл. — Спасибо за повтор „Закона и порядка“. Чем заполнить целый день с отцом, если бы не телевизор?»
Когда включили рекламу, Коннелл не знал, о чем говорить. Мама наверняка пустилась бы в долгий рассказ о каких-нибудь знакомых или просто о том, как у нее прошел день. А Коннеллу казалось неуважительным говорить с отцом о новостях жизни, которая проходит мимо него. Чуточку легче обсуждать то, что отец давно знает или что они пережили вместе, — но как перевести разговор на эти темы? И все же он испытывал потребность перейти на более надежную почву.
— Надо сказать, мне нравится Пол О’Нил, — изрек Коннелл преподавательским тоном.
Отец неотрывно смотрел в телевизор.
— Я, знаешь ли, не из тех оголтелых фанатов «Метс», которые считают, что его обязательно надо ненавидеть. Такой игрок, он же сердце своей команды, настоящий трудяга!
Отец по-прежнему молчал. Это становилось почти безнадежным.
— «Янкиз» там или не «Янкиз», а все-таки приятно, что в плей-офф опять прошла нью-йоркская команда!
Тут отец встрепенулся, и его лицо озарила улыбка, словно он услышал радостную новость. Вдруг до Коннелла дошло: отцу это и правда внове, хоть он и смотрел в октябре все игры плей-офф. Коннелл после каждой непременно ему звонил.
— Да! — сказал отец. — Хорошо!
Коннелл в очередной раз почувствовал себя идиотом. Какой смысл ходить вокруг отца на цыпочках? Пора посмотреть правде в глаза: кратковременная память у старика вообще не работает. Он, наверное, ничего не в состоянии запомнить дольше чем на пару минут. Стоит только выйти из комнаты, отец забудет, что Коннелл вообще приехал домой. Вряд ли он хотел бы, чтобы сын торчал при нем весь вечер пятницы; наверняка это показалось бы ему стыдным. Поэтому Коннелл ушел к себе переодеваться, а то он давным-давно не виделся с приятелями.
Коннелл до сих пор хранил свой первый флакон одеколона. Хватило на годы, потому что использовал экономно: по капельке за ушами и по обеим сторонам шеи. Аромат этого одеколона он источал, потея на танцульках и жарко тискаясь на диванах. А когда уехал в колледж, оставил флакон на полочке над умывальником при своей комнате — скромное подношение на алтарь переходного возраста.
Сейчас он нашел флакончик в родительской спальне. Одеколона осталось на донышке. Сначала Коннелл ужаснулся, а потом рассвирепел. Отец, должно быть, наткнулся на флакон, бродя по дому. Коннелл буквально видел, как отец с трудом отвинчивает крышечку, плещет одеколоном во все стороны, льет его в раковину... Беспорядочно втирает в шею и грудь, набрав полные горсти, в жалкой попытке урвать у сына кусочек будущего. Да он небось уже и запахов-то не различает! И зачем ему вообще одеколон? Эта сторона жизни для него больше не существует.
Коннелл быстрыми шагами спустился по лестнице и сунул флакон под нос отцу:
— Это ты сделал? Ты брал мой одеколон? Больше полфлакона было!
— Не знаю, — испуганно ответил отец. — Я не знаю.
На этот раз Коннелл не смягчился:
— Понятно! Ты не знаешь. Так я тебе скажу: ты его брал! Я понимаю, это всего лишь одеколон, но для меня он много значит.
Отец широко раскрыл глаза и наморщил лоб. Уголки рта у него опустились книзу.
— Прости, — сказал он, не вставая с дивана. — Прости, я не знал.
Коннеллу и хотелось сказать «Да ладно, не важно», но что-то удержало.
— Слушай, не трогай мои вещи, ладно? Ничего в моей комнате не трогай.
— Прости, — сказал отец.
Решимость Коннелла дрогнула. Он чуть не принялся утешать отца. Ага, отец все вокруг себя разрушает, и все обязаны подбирать осколки. Рассердиться на него и думать не смей, надо его постоянно жалеть. Нет уж! Коннелл — не отец, а сын. Собирать осколки — пока что не его задача.
Он поехал в Нью-Йорк, к приятелю. Они прошлись по барам и в последнем засиделись до закрытия. Коннелл вернулся домой первым утренним поездом, пять тридцать.
Его разбудила мама.
— У папы сейчас есть свой заведенный порядок, его нельзя нарушать. Диван ему нужен, чтобы смотреть телевизор. Иди к себе и ложись в постель.
В комнате было темно, только между створками раздвижной двери виднелась узкая полоска света. Пахло кофе и жарящимися оладьями.
— Иди к себе. — Мама нахмурилась. — Тебя никто домой на веревке не тянул.
— Ты о чем? Я уже встаю.
— Мне необходимо знать, на что я могу рассчитывать, пока ты здесь.
— Вот, я здесь. Что надо-то?
— Ты сможешь посидеть с отцом? Не хочется, чтобы он сегодня оставался один.
— Угу.
Мама постояла немного, разглядывая его.
— Я могу на тебя положиться?
— Конечно!
— Не уходи никуда из дому. Проследи, чтобы он поел, и присмотри, чтобы не поранился. Посиди с ним немного. Не спи слишком долго.
— Ладно.
— Он так радуется, что ты приехал. — Она старалась произнести это с надеждой, но печальная нотка все-таки прокралась. — Только о тебе и говорит. «Где Коннелл? Где Коннелл?»
Мама одела отца в брюки и рубашку с длинным рукавом, как будто собирала его на работу. Вот только хвост рубашки вылез из брюк. Мама расстегнула отцу ремень, поддернула брюки повыше и снова застегнула молнию на брюках.
Коннелл заглянул в кухню: миска с тестом для оладьев стояла пустая. На его долю мама не испекла.
Он ткнул большим пальцем через плечо:
— Ешьте-ешьте, обо мне не беспокойтесь!
Вообще-то, можно было сказать и помягче.
Мама остановила его на лестнице:
— Ты будешь здесь, не уйдешь? Скажи сразу, я постараюсь что-нибудь придумать. Но безответственности я допустить не могу.
— Успокойся, мам! Присмотрю я за ним. Иди на работу.
Поднявшись наверх, он услышал, как мама сообщает отцу, что сейчас включит телевизор. Отец что-то пробубнил в ответ. Потом в телевизоре прибавили звук, еще и еще.
Мама крикнула, перебивая телевизионный рев:
— Если что-нибудь понадобится, Коннелл у себя!
Может, отец и ответил, Коннелл не услышал.
— Я люблю тебя, — сказала мама.
Пауза.
— Милый, а ты? Пожалуйста, скажи!
Коннелл не знал, промолчал отец или телевизор его ответ заглушил. Несколько минут спустя стало слышно, как открылась дверь гаража.
Коннелл считал очень важным позволить отцу самому выпить содовую. Отец дернул стакан к себе за край. Стакан упал на кирпичный пол и разлетелся вдребезги. Коннелл подобрал крупные осколки, а мелкие веником смел в совок и вытряхнул в мусорное ведро. Вытер лужу на полу. Вот, значит, как: отец уже не может пить самостоятельно. Ему нужно, чтобы стакан поднесли ко рту. По сути, ему бы слюнявчик надевать. И питье наливать в пластиковый стаканчик, а то и вообще в поильник с носиком. Сидит, такой беззащитный, пока у него с колен собирают губкой воду. Не пытается отмахнуться, не уверяет, что сделает все сам. Только вздыхает и покорно подставляется. Не пробует оправдываться — всякий, мол, ошибиться может. И лицо такое беспомощное, жалкое. Глаза как у побитой собаки, и постоянное желание угодить.
— Сиди не двигайся!
Коннелл сам не знал, зачем это говорит, — осколки-то он уже убрал.
Отец как-то странно дергал ремень брюк — вверх-вниз, будто пожар тушил. Тут Коннелл почувствовал запах. Он подошел расстегнуть отцу брюки, но отец закричал:
— Нет! Нет!
— Пап! Спокойно! Надо тебя помыть.
Отец заскулил, прижимая к заду ладонь, словно старался удержать все внутри. Во время этой возни содержимое штанов понемногу просачивалось наружу. Коннелл кое-как довел отца на второй этаж и затащил в душ, но когда попробовал расстегнуть ремень, отец снова стал вопить и причитать. Коннелл все-таки расстегнул верхнюю пуговицу брюк и тут остановился. Так, надо подумать мозгами. Сначала тапочки, потом уже все остальное.
— Сядь, пожалуйста, а? Гораздо проще будет.
— Уйди! — заорал отец. — Уйди!
Коннелл зашел сзади и потянул отца на себя, падая вместе с ним, чтобы смягчить удар. Отец заехал ему локтем в грудь, размахивая руками, словно погорелец. Он бы ударил Коннелла в лицо, если бы мог повернуться.
Коннелл держал крепко и повторял:
— Спокойно, спокойно.
Потом выбрался из-под отца, поддерживая ему голову. Стащил с него тапочки, расстегнул брюки и начал стягивать их с ног. Отец вцепился в брюки и попробовал брыкаться, но Коннелл все-таки стащил их, сначала с задницы, потом и дальше. Дерьмо облепило ноги отца, кусками шлепаясь в ванну. Услышав это «шмяк-шмяк», Коннелл понял, что не смог бы работать в больнице, как мама. Отец тяжело дышал, напряженно глядя ему в глаза, как будто хотел удержать его взгляд, не дать ему увидеть свою наготу.
Коннелл бросил брюки на пол. Браться за отцовские трусы духу пока не хватило, и он принялся расстегивать рубашку. Держать отца, скользкого от какашек, было трудно, однако рубашку с него Коннелл кое-как снял. Остались только носки и запачканные трусы.
— Пап, ну не дергайся ты! Посиди минутку тихо.
— Уйди, перестань! — кричал отец.
— Слушай, что тебе говорят! — рявкнул Коннелл.
— Оставь меня в покое! Оставь!
Стаскивая с отца трусы, Коннелл отвернулся — отчасти чтобы не унижать отца, а отчасти потому, что не видел отцовский член с самого далекого детства, когда они вместе мылись в душе.
В тепле от горячей воды вонь стала совсем невыносимой. Коннелл чуть не задохнулся. Трусы с вываливающимися из них какашками он свернул в кулечек, словно подгузник, и сунул в мусорное ведерко, в которое был заправлен пластиковый пакет из супермаркета.
Отец так и лежал в ванне голый. Придется его поднять и вымыть, и пол в ванной тоже отмыть, иначе они разнесут это дело по всему дому. Коннелл быстро разделся — все равно одежда сейчас промокнет насквозь. Трусы снимать не стал. Отца он еле поднял. Тот больше не сопротивлялся, просто обвис мертвым грузом. Поставив его наконец на ноги, Коннелл задернул занавеску и пустил воду. Наляпанное в ванне дерьмо поплыло к отверстию слива. Коннелл сдернул с вешалки полотенце и стал вытирать отцу ноги и зад. Казалось, отчистить его невозможно никакими силами. Отец повесил голову, плечи его поникли, грудь тяжело вздымалась. Когда полотенце стало совсем грязным, Коннелл скатал его поплотнее и швырнул на пол. Намылил другое полотенце, словно громадную губку, и тщательно вымыл отцовские гениталии, задницу и ноги. За всю свою жизнь он столько не прикасался к отцу. Намыленными руками вымыл ноги отцу и себе. Отмыл себе руки до плеч и ноги выше колен, потом выключил воду.
— Ну вот, почти всё уже.
Коннелл отдернул занавеску и, взяв отца за руку, помог ему перебраться через бортик. Комната была полна пара. Коннелл сбегал, принес еще полотенец. Сперва он хотел повязать полотенце себе на талию и вытащить из-под него трусы, но что-то ему подсказало, что для отца оскорбительно быть голым рядом с одетым сыном. Он снял трусы прямо так, не прикрываясь. Потом вытер отца полотенцем. Они стояли рядом, оба обнаженные. Коннелл обмотал отцу и себе полотенца вокруг бедер. Нашел в аптечке отцовский одеколон, налил немного в ладонь и пришлепнул отцу на шею. Запах одеколона вдруг напомнил ему, как отец учил его бриться. «Веди бритвой по направлению волосков, чтобы ровней шло, — говорил отец, глядя в зеркало. — Не спеши. Старайся не проходить дважды по одному и тому же месту». Потом он наклонялся и позволял Коннеллу потрогать его щеки, чтобы ощутить прохладную гладкость кожи.
Коннелл надел на отца чистые трусы и футболку и уложил его в постель.
Когда отец заснул, Коннелл сходил в аптеку и купил упаковку памперсов для взрослых. Он не мог понять, почему мама раньше до этого не додумалась. Так просто, а сколько хлопот бы всем сэкономило. Нет, правда, что мешает их использовать?
— Он хочет оставить тебе письменный стол, — сказала мама наутро за завтраком, перед уходом на работу.
Они сидели в кухне одни. Папа был наверху.
— Остальное получишь после моей смерти.
— Мам, ну ты что?
— Хочешь вечно оставаться ребенком? Рано или поздно приходится думать о таких вещах.
Письменный стол — одно из немногих счастливых воспоминаний папы, связанных с его собственным отцом. Теперь-то папе этот стол ни к чему. Мама за ним разбирает счета и квитанции — для этого ей вполне хватит маленького столика из комнаты Коннелла. Значит, спокойно можно поменять их местами.
Отцовский двухтумбовый стол из натурального дерева был пяти футов в ширину и трех — в глубину[29]. Прямо скажем, не великая ценность — весь поцарапанный и в щербинах.
Столешница по краю была сплошь обклеена карточками. На одной — даты рождения всех троих: день, месяц и год. На другой — миниатюрное генеалогическое древо, начиная от бабушек и дедушек отца, включающее также всех его теток, дядьев, кузин и кузенов. От черточки между «ЭЙЛИН ТУМУЛТИ ЛИРИ (ЖЕНА)» и «ЭД ЛИРИ (Я)» шла стрелка к «КОННЕЛЛ ЛИРИ (СЫНН)». Еще на одной карточке было написано: «ОТДЕЛ СОЦОСПЕБЕЧЕНЕНИЯ» — как будто отец подбирал слоги наугад. В ящике стола лежала карточка с прикрепленной к ней иглой для накачивания мяча и надписью: «ИГЛА ДЛЯ НАКЧАНЯ БАКЕТБОЬНОГО МЯЧА».
Пока отец смотрел телевизор на первом этаже, Коннелл по частям перетащил тяжеленный стол наверх, в свою комнату. Там заново собрал, вдохновляясь ощущением новых безграничных возможностей. Он разложит свои вещи по ящикам и займется серьезной работой — стоит только сесть за этот стол и подумать немного, к нему обязательно придут потрясающе ценные мысли.
Свой письменный столик он снес вниз, даже не вынимая ящиков. На фоне отцовских дипломов столик казался совсем крошечным. Коннелл скотчем прилепил на него карточки с надписями.
Оставалось только забрать наверх рабочее кресло отца и принести взамен свой стул. У отца кресло было не просто крутящееся и на колесиках — еще и спинка откидывалась назад, ведь мыслителю необходимо иногда предаться безделью, пока зреют новые идеи.
Кресло на металлической крестовине оказалось весьма увесистым, зато комната благодаря ему сразу приобрела восхитительно солидный вид. Коннелл уселся, поковырял прилипшие к столешнице остатки скотча, потом откинулся назад, позволив мыслям свободно блуждать где вздумается.
Наверное, он заснул, а проснулся от воплей отца. Сбежав по лестнице, Коннелл застал отца в кабинете.
— Мой стол! — жалобно кричал отец.
Коннелл принялся теребить полу рубашки.
— Мама сказала, ты решил оставить его мне.
— Да! — По лицу отца бежали слезы. — Тебе! — Он ткнул Коннелла в солнечное сплетение. — Тебе!
— Я его наверх отнес.
— Когда я умру! — сказал отец. — Когда я умру.
Целая долгая жизнь, полная любви и заботы, обрушилась на Коннелла.
Он почти обрадовался, когда мама, вернувшись домой, велела ему поставить стол на место.
Коннелл надеялся, что отец забудет об этом происшествии, но, увы, болезнь не подчиняется желаниям окружающих. То, что надо помнить, отец забывал, а то, о чем лучше бы забыть, помнил.
На другой день Коннелл снова уселся за свой старый столик и попробовал написать письмо Дженне, однако ничего не получилось. Он исчеркал бумажный лист с обеих сторон, выводя свою подпись на разные лады.
Погода была хорошая, и Коннелл решил вытащить отца из дому, поиграть в мяч.
Бейсбольные перчатки он нашел в большой спортивной сумке. На ней в разных местах отец несмываемым маркером написал фамилию «Лири» — должно быть, еще на той стадии болезни, когда он все надписывал. Чем дольше Коннелл смотрел на эти вездесущие заглавные буквы, тем больше они ему напоминали крик утопающего.
Когда они переехали в этот дом, отец купил себе и Коннеллу новые бейсбольные перчатки. Отцовские так и лежали чистенькие, мерцая нетронутым светло-коричневым блеском. Коннеллу стало совестно. Они с отцом тогда почти уже не играли вместе. Перчатка Коннелла была потертая, кожа местами растрескалась. Когда он бросил бейсбол и поступил в дискуссионный клуб, поворот от телесного к умственному окончательно завершился. Уезжая в университет, Коннелл даже не подумал взять перчатку с собой.
Он прихватил теннисный мячик и повел отца наружу. Спустившись по каменной лестнице, протянул отцу перчатку:
— Поиграем?
Отец перчатку все время ронял, и в конце концов Коннелл решил обойтись без нее. Поставив отца спиной к стене, он отошел на несколько шагов и отправил мяч отцу, стараясь метить прямо в руки. Отец все-таки не поймал, и тогда Коннелл сам вложил мяч ему в ладони. Бросать отец не мог, но постарался изобразить хотя бы подобие подачи с отскоком. Видно было, что это именно подача: отец подержал мячик в руке и только потом выпустил.
Коннелл чувствовал, что тупеет, буквально сходит с ума, сидя целыми днями с отцом перед телеэкраном. Он забивался к себе в комнату и читал, стараясь заглушить несущийся снизу рев телевизора. Сочинял и без конца переделывал длинное сбивчивое письмо Дженне, понимая, что никогда его не отправит. Он писал больше для самого себя, стараясь разобраться, что с ним неладно и с чего вообще он вздумал делать ей предложение. Она ведь права: ему всего девятнадцать. Стыдно вспоминать, что он вытворял весь прошлый семестр... Вел себя одновременно и как ребенок, и как старый маразматик.
Внизу вскрикнул отец. Коннелл бросился к нему. Отец лежал ничком на полу в кухне. Рядом валялся скомканный в гармошку коврик, — видимо, отец о него и споткнулся. Коннелл перевернул отца: рот весь в крови и один передний зуб выбит. Рядом на полу Коннелл увидел кусочек зуба, поднял его и положил на стол. Крови натекло столько, что Коннелл испугался, не откусил ли отец себе язык. Силой раскрыв ему рот, он увидел только разбитые в кровь десны и губу. Под языком скопилась лужица крови. Коннелл заставил отца наклониться над раковиной и сплюнуть. Потом усадил за стол. На полу валялась кверху донышком разбитая пополам тарелка. Отец, должно быть, выронил ее, когда падал. Коннелл выбросил в мусорное ведро осколки и завернутый в пленку сэндвич.
Коврики на полу постоянно сминались и елозили. Коннелл и сам пару раз на них оступился. И как он мог забыть — мама же специально просила купить двусторонний скотч, чтобы приклеить их к полу!
Коннелл смотрел, как у отца кадык ходит вверх-вниз, когда он сглатывает кровь. Дал ему пососать лед, завернутый в салфетку. Немного погодя отвел отца наверх, переодел и снова привел в кухню. Вытер кровь на полу, а кусочек зуба сунул в карман джинсов — духу не хватило выбросить, а оставить на столе было стыдно. Усадив отца на диван перед телевизором, он стал ждать, когда придет мама и увидит, в каком они оба состоянии.
Наконец он услышал, как открылась дверь гаража. Мама поднялась по лестнице с полными пакетами продуктов. Пакеты отдала Коннеллу, бросила на стол сумочку и велела убрать продукты в холодильник.
— Только жареную курицу оставь, мы ее на ужин съедим.
Крикнула отцу:
— Привет! — И налила в стакан воды из-под крана.
Коннелл, не глядя на нее, деловито разгружал пакеты. Когда рассовывать по полочкам было уже нечего, он обернулся и увидел, что мама сосредоточенно пьет воду маленькими глотками, как лекарство, глядя на Коннелла поверх стакана.
— Надо бы тебя сгонять в магазин за чесноком, — проговорила она. — Забыла купить, совсем из головы вылетело.
— Ладно.
— Звук бы убавить хоть немножко, а то собственных мыслей не слышно. Эдмунд! Я пришла! — крикнула мама и, поставив стакан в раковину, неожиданно бодрой, пружинистой походкой направилась к двери.
— Мам, подожди...
— Что такое?
— У нас тут происшествие было. Папа поранился.
Мама бросилась к отцу:
— Что случилось?
Убавила звук телевизора и снова стала спрашивать — Коннелл никогда в жизни не слышал в ее голосе такого ужаса:
— Что случилось? Расскажешь ты наконец или нет?
Отец сидел, словно статуя, глядя мимо нее, как на экране безмолвно мелькают картинки.
— Он упал. Я был в другой комнате. Он ударился.
— Эдмунд, покажи, где болит? Что он ушиб?