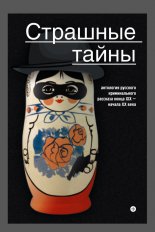Мы над собой не властны Томас Мэтью

— Не пойму, отчего колесо так погнулось. Я же тихо ехал!
— Наверное, починить уже нельзя, как ты думаешь? Машина-то старая.
— Да, наверное.
— Иди в тот дом, расскажи, что случилось, и попроси позвонить в полицию.
Дом, на который она указывала, стоял в стороне от дороги, на невысоком холме, и больше походил на роскошный особняк.
Эйлин, забравшись на водительское сиденье, потянулась к бардачку через колени Эда — он все это время бил себя по голове с мрачной решимостью монаха, занятого умерщвлением плоти. Эйлин вытащила конверт, который годами лежал нетронутый в машине, с надписью рукой прежнего Эда: «Документы на машину и страховка». Трудно представить, что человек с таким летящим почерком теперь еле-еле выводит слова крупными печатными буквами.
Коннелл с бумагами поднялся по каменной лестнице к дому, а Эйлин завела мотор. Свет уцелевшей фары выхватывал из темноты снежинки и отражался от блестящих боков изувеченного «БМВ». Эйлин включила печку на полную мощность. Эд потянулся выключить — должно быть, бессознательно, по привычке. Невозможно же до такой степени ничего не соображать, правда? Эйлин шлепнула его по руке и снова усилила обогрев.
Эйлин с сыном стояли в снегу, дожидаясь, когда приедет эвакуатор. Эд сидел в машине.
— Вот несчастье, — сказал Коннелл. — Сколько денег сейчас вылетит...
Эйлин без конца спорила с Эдом, считая, что страховать от аварии старую машину — десять лет уже — это пустая трата денег, но Эд настоял на своем.
— Да может, не так уж и много. Для таких случаев и существует страховка.
— Мам, прости.
— Мы все живы, это главное. А машину можно другую купить.
Или не покупать, подумала она, скрывая улыбку.
— А что, — прошептала едва слышно. — Тоже способ избавиться от автомобиля.
— Что ты говоришь?
— Я говорю, тоже способ встретить Новый год.
— С Новым годом, — уныло отозвался Коннелл.
— С Новым годом!
Сотрудник Американской ассоциации автомобилистов предложил отвезти их домой, прежде чем забирать машину. Эйлин сидела на коленях у Эда, Коннелл — между ними и водителем.
Когда подъехали к дому, Коннелл спросил водителя, не подбросит ли тот его до станции.
Эйлин изумилась:
— Ты все-таки собираешься на эту свою вечеринку?
Наверное, мальчик догадался, что второй раз его из дому уже не выпустят. Водитель и Коннелл вопросительно смотрели на Эйлин.
Она махнула рукой:
— Иди уж...
Эйлин вылезла из машины и помогла выбраться Эду. Снег лежал уже слоем в несколько дюймов. Эйлин за руку провела Эда через запорошенное пространство и набрала код от двери гаража.
Поднявшись в спальню, она сняла жемчужное ожерелье и вместо вечернего платья натянула тренировочный костюм. Помогла Эду переодеться ко сну — вдруг ему захочется лечь пораньше.
Вынула из морозилки большую упаковку мороженого, а из буфета — две ложечки, хотя вторая служила только для успокоения собственной совести. Эд пару ложек съест, не больше.
Они включили развлекательную программу по телевизору. Эд уснул, запрокинув голову и раскрыв рот, задолго до полуночи. Эйлин не стала его будить.
Она вспоминала их первую встречу и как Эд поцеловал ее, когда пробили часы. Весь новогодний вечер она этого ждала. Он поцеловал ее посреди танцпола, где толпились десятки пар, и тогда случилось то, о чем Эйлин столько раз слышала, но считала глупой выдумкой: все вокруг исчезли, и во всей вселенной не осталось никого, кроме них двоих. А сейчас они и вправду остались вдвоем, никого больше рядом нет. Светящийся шар на Таймс-сквер неспешно спустился до самой земли[24]; на экране зажглись цифры: «1994». Никак не вспомнить ощущение того первого поцелуя. Начал Эд очень просто, как будто из вежливости, а потом взял ее лицо в ладони и вдруг стал целовать так жадно, словно мечтал об этом всю жизнь, а не те несколько часов, что они знакомы. Эйлин уже тогда поняла, что выйдет за него замуж. Столько лет прошло... Сейчас перед ней сидит как будто совсем другой человек. Волосатая грудь в вырезе майки едва приподнимается на вдохе, словно он и не дышит по-настоящему. Эйлин потянулась к нему, прижалась губами к губам. Его глаза были закрыты — как у нее в тот первый вечер. Эйлин боялась, вдруг он проснется и закричит или оттолкнет ее, но он, не просыпаясь, начал целовать ее в ответ.
Починить «каприс» оказалось невозможно. Деньги, полученные по страховке, Эйлин положила на текущий счет.
Может, купить на эти деньги новую машину для себя? Например, спортивный двухдверный «БМВ», вроде того, в который врезался Коннелл, или «мерседес» бизнес-класса, весь такой блестящий и неуязвимый. Не придется больше мучиться от стыда за облезлую краску на крыше автомобиля, за провисшую обивку на потолке вокруг лампочки, за скрипучие и громыхающие дверцы. Новую машину не стыдно будет оставлять на стоянке возле церкви.
Ребенка растить — сплошные траты, но иногда и от него бывает польза.
59
На похороны матери Эда съехалась родня со всех концов страны. Фиона покинула свой Статен-Айленд впервые со времени того давнего сюрприза на день рождения Эда. Фил и Линда прилетели из Торонто. Встреча с Филом, кажется, не утешила Эда. Наоборот, он стал горевать сильнее, словно вдруг осознал — годы, проведенные по разные стороны границы, уже не вернуть. Вечером накануне похорон братья несколько часов просидели на кухне: Фил говорил, а Эд слушал. Каждый раз, как Эйлин туда заглядывала, Эд плакал, не стесняясь слез.
На отпевание собралось множество незнакомых Эйлин людей — Кора активно участвовала в общественной жизни прихода церкви Девы Марии «Звезды моря» в Кэрролл-Гарденз. Эд, судя по всему, чувствовал себя здесь так же неуютно, как Эйлин, хотя в эту церковь ходил в детстве. Его лицо страшно побагровело, и Эйлин постоянно ему напоминала, что надо дышать. Кора прожила долгую, хорошую жизнь и болела уже довольно давно, однако Эд словно и подумать не мог, что его мать когда-нибудь умрет.
Эйлин всегда считала, что Эд из сыновнего долга безотказно мчится к матери по первому зову — сходить в магазин за продуктами или заменить перегоревшую лампочку, — но сейчас он убивался так, словно глубоко ее любил. Неужели Эйлин просто не догадывалась? А может, это связано с его состоянием? Он к смерти ближе других людей.
Выйдя из церкви, все заспешили к своим машинам — был февраль, и день выдался морозный. Тетя Марджи спросила Эда, как проехать к кладбищу.
— Ну, это... А где ваша машина?
— За углом.
— А, понятно. — Он потер руки, словно они могли подсказать ответ. — Это надо ехать по шоссе.
— По какому?
— Да тут, рядом. Черт, как же оно называется?
— Может быть, Бруклин—Квинс?
— Да! Точно!
— А где на него можно выехать?
Эд вырос в соседнем квартале. Он, наверное, больше тысячи раз выезжал отсюда на шоссе Бруклин—Квинс.
— Тут, недалеко, — сказал он. — Пару кварталов всего.
Эйлин вмешалась и объяснила Марджи дорогу. А когда ее тетя уже не могла их услышать, спросила:
— Ты не знаешь, где шоссе Бруклин—Квинс?
— Знаю, конечно. Здесь оно, где ж ему быть.
Эйлин посмотрела на Коннелла — он дожидался их возле машины, ежась от холода, — потом на Эда и поразилась контрасту между ними. Эд больше походил не на мужа Эйлин, а на ровесника своей матери. Сгорбленные плечи и лицо в морщинах — совсем недавно их еще не было. Смерть матери как будто его состарила. Эйлин знала, что в конце концов ей придется стать Эду нянькой, но хотелось отодвинуть это время как можно дальше.
Ночью, хотя был траур и Фил с Линдой спали в гостевой комнате, Эйлин потянулась к Эду. Она была сверху и, двигаясь вперед и назад, низко наклонялась к нему. Потом, лежа рядом, она гадала, скоро ли он уже и в постели ни на что не будет способен. Только под утро вдруг поняла: ее страшит не физическое одиночество, а подступающее понимание, что и сама она когда-нибудь умрет.
Эйлин записывала каждый раз, когда Эд впервые не смог что-нибудь сделать. Похоже на дневник развития ребенка, только наоборот. Иногда такие сбои в самом деле сигнализировали о серьезных изменениях, а другие оказывались единичными случаями, ложной тревогой.
«19/02/94: После похорон Коры не смог вспомнить, где проходит шоссе Бруклин—Квинс. Теряет чувство направления».
На свадьбе Карен Коукли Эйлин отвернулась передать блюдо с закусками, а когда снова нашла Эда глазами, он стоял в ряду других гостей у дальней стены — официальный фотограф собирался сделать групповую фотографию. Там были только родственники со стороны жениха. Эйлин их видела впервые в жизни, однако Эд отважно улыбался, как будто все они выросли у него на глазах. Конечно, он будет на снимке лишним. Как только фотограф закончил, Эйлин поскорее увела Эда прочь, надеясь, что никто не обратил на него внимания, — хотя, конечно, Карен с мужем неизбежно заметят, когда станут рассматривать фотографии.
Вдруг от группы отделилась эффектная красотка.
— Этот человек меня щупал! — донесся до Эйлин гневный голос. — Он трогал меня за попу!
— Кто? Покажи мне его! — потребовал бойфренд возмущенной девушки.
Та ткнула пальцем в сторону Эда. Бойфренд, упакованный в тесный костюм наподобие сардельки, ударил себя сжатым кулаком по ладони — до невозможности банальный жест, а страшно. Эйлин заслонила собой Эда, выставив вперед руки, словно полицейский на перекрестке, когда улицу переходит ребенок.
— Это не то, что вы подумали, — как могла спокойнее проговорила она. — Тут совсем другое.
«16/04/94: На свадьбе Карен трогал девушку за задницу. Постоянно быть рядом с ним на людях, не оставлять без присмотра. А тот раз, когда он, прощаясь, ухватил Сьюзен за грудь? Не случайность».
Эйлин с мужем пригласили на вечеринку к начальнику отдела кадров. Ехать надо было в Вест-Сайд, в Челси. Они оставили машину, не доезжая пары кварталов, и дальше пошли пешком, впитывая жизненную энергию вечернего Манхэттена, — Эд в отличном костюме, Эйлин в дорогом платье, год назад купила и все не было случая надеть. Платье чересчур плотно ее облегало — проклятый стресс — и все равно красиво обрисовывало фигуру.
Эйлин не сразу заметила, что Эд отстал, словно упирающийся пес на прогулке.
Она вернулась и потянула его за собой:
— Ну что такое? В чем дело?
— Иди без меня.
— Что за глупость! Мы почти пришли.
— Я там никого не знаю.
— И что? Очень милые люди.
Эд замотал головой.
— Я не могу явиться одна! Я уже написала, что мы оба придем. Этот вечер много для меня значит. Наш кадровик... Не он брал меня на работу. Он пришел уже позже. Мне обязательно нужно произвести хорошее впечатление. Чтобы продержаться еще десять лет, понимаешь?
— Они никогда не узнают меня настоящего.
Ей не приходило в голову, что Эд из-за этого страдает. Правда, они в последнее время встречались в основном со старыми знакомыми.
— Ты даже и с половиной мозга лучше, чем девяносто процентов людей с целым, — сказала Эйлин и вдруг поняла, что действительно так думает. — Ты и сейчас остроумней и обаятельней большинства тех, кто там будет. Не забывай, кто ты! Держись поближе ко мне, и никто ничего не заметит.
Весь вечер Эд не отходил от нее ни на шаг, и никто ничего не заподозрил. Что хорошо в таких вечеринках — разговоры скользят по поверхности. Если Эд не отвечал сразу на вопрос, от этого только казался интересней. Эйлин держала тарелку с закусками и давала Эду только такие, которые можно съесть в один укус. Помогало и неяркое освещение, и общий гул, и толпа гостей. Эд выглядел импозантно и очень помог Эйлин утвердиться в глазах начальства — кадровик долго с ним беседовал о его прежних исследованиях.
Когда вечер наконец закончился и они вышли на улицу, Эд трясся как в лихорадке. Должно быть, он держался нечеловеческим усилием воли, только ради Эйлин.
Несколько дней он казался предельно выдохшимся, и вскоре после этого у него начала ухудшаться речь.
«20/05/94: После мероприятия в Челси говорит невнятно».
Однажды они встретили Рут и Фрэнка в Метрополитен-музее. Фрэнк был в инвалидном кресле — несколько месяцев назад с ним случился инсульт.
Не прошло и десяти минут, как Рут сказала Эйлин, что ей необходимо хоть недолго побыть отдельно от мужа. Понятное желание: она теперь находилась при Фрэнке неотлучно двадцать четыре часа в сутки. Подруги попросили Эда с Фрэнком подождать их у банкетки и сбежали на выставку по истории костюма. Рут, сама предпочитавшая в одежде строго функциональный стиль — бирюзовый кардиган для нее был пределом легкомыслия, — бурно восхищалась красотой изысканных нарядов. Эйлин скользила взглядом по пышным складкам ткани, — кажется, под этими юбками вполне можно спрятаться.
Вернувшись, они не застали своих мужей на прежнем месте. Эйлин перепугалась, но потом интуитивно заглянула на главную галерею и там увидела их. Эд стоял, придерживая ручки кресла, перед своей любимой картиной: «Смерть Сократа» Жака-Луи Давида. Эд с Фрэнком вдвоем едва-едва составляли один дееспособный организм.
Рут и Эйлин тихонько подошли ближе.
— Вот этот, в центре, — Сократ, — говорил Эд.
Эйлин и Рут переглянулись.
— А тот, что положил руку ему на колено... Забыл, как зовут.
Эйлин хотелось подсказать: «Критон», как Эд не раз говорил при ней раньше, но она удержалась.
— И вон тот, у изножья... Опять забыл имя.
«Платон», — подумала Эйлин.
— Знаешь эту историю?
Фрэнк закивал.
— Его заставили выпить яд.
Голова Фрэнка ходила вверх-вниз, точно поршень.
— Боялись его влияния на умы.
Эйлин поразилась — как много он еще помнит.
Эд подкатил Фрэнка ближе к картине. Охранник проводил их глазами.
— Видишь, поднял кверху палец? Он словно говорит: «Я знаю, там, дальше, что-то есть». А в чаше эта, как ее...
Эд мучительно искал слово. Фрэнк пытался подсказать, но не мог выговорить, только мычал.
— Цикута, — сказала Рут сдержанно, хотя и с глубоким чувством.
И, взявшись за ручки кресла, покатила его к выходу.
«11/06/94: Ходили в Метрополитен. Эд забыл слова: Критон, Платон, цикута».
Он постоянно приходил за ней в кухню и рвался помогать. Эйлин понимала: ему хочется чувствовать себя нужным. Как-то попросила его нарезать репу. Отвернулась к плите, и тут за спиной раздался грохот. Эд насадил половину репки на нож и колотил ею по разделочной доске. Коннелл сидел тут же, просматривая книги по философии — искал цитаты для своих выступлений в дискуссионном клубе на будущий учебный год. Он вскочил и вырвал у отца нож:
— Дай сюда! Вот хрень, что ж ты делаешь-то?
Эйлин потащила Коннелла в столовую:
— Еще раз посмеешь так разговаривать с отцом, я тебя ударю! Не посмотрю, что ты уже не маленький.
Эд полдня просидел, надувшись, перед телевизором. Спать лег в половине четвертого.
«03/08/94: Впервые лег в постель раньше четырех часов дня».
60
Отец стоял враскоряку перед кофеваркой, похожий не то на карапуза, наложившего в штаны, не то на старого ковбоя, который только что пересек пустыню, да еще по пути в него шарахнуло молнией. На шее болтался галстук, завязанный наоборот: узкий конец поверх широкого.
Он в сотый раз вытащил из кофеварки фильтр и разгладил его на держателе, с тупым упорством поправляя то, что и так уже было на месте. Коннелл хмуро наблюдал за ним. Отец трудился, словно от его действий зависела судьба мира. Точно так же он выглядел, когда распиливал доски или зачищал срез шкуркой. Вдрызг измятый фильтр уже не держался нормально. Коннелл достал из коробки свежий и установил его. Потом перевязал отцу галстук заново. Отец смотрел в пол, слабо посмеиваясь.
Вернулась с работы мама. Коннелл спустился к машине, помочь отнести в дом продукты. Отец шел за ним по пятам. Коннелл видел, как мама прикидывает, какие пакеты доверить отцу: с консервными банками, нарезкой и всякими коробочками — то, что не укатится далеко и не разобьется.
Еще не разобрав покупки, мама вытащила из сумки коробку печенья и открыла.
Коннелл надорвал пакет с чипсами.
— Что-то я все время ем, остановиться не могу, — сказал он с набитым ртом.
— Смотри не заразись от меня, — ответила мама, тоже не переставая жевать. — Я ем, чтобы заполнить душевную пустоту.
Коннелл вдруг подумал, что сам их дом и есть пустота. Большие пустые комнаты — в таком доме недолго стать обжорой.
Коннелл заново прошелся по списку университетов, который они составили с мамой: Гарвард, Йель, Принстон, Колумбийский, Пенсильванский, Уильямс-колледж, Амхерстский колледж, Университет Джонса Хопкинса и Джорджтаунский университет, а заодно парочка беспроигрышных вариантов поближе — Дрю и Фордемский.
До каждого — не больше пяти часов езды. Коннелл решил, что не будет подавать документы ни в один из них, кроме разве что запасных вариантов. Он составил для себя новый список: Чикагский, Северо-Западный, Нотр-Дам, Стэнфордский и Уильяма Марша Райса. Все — известные, уважаемые университеты, чтобы не пришлось доказывать маме, что в них не стыдно учиться. Иначе говоря — такие, за которые она выложит денежки без споров. Он не оставит ей выбора. В «запасные варианты» она его сама не отпустит, если будет возможность поступить в более престижный университет, пусть даже в местном предложат стипендию. А предложить могут: оценки у него неплохие, и результаты «Эс-эй-ти»[25] тоже, и третье место в дискуссионном турнире Линкольна—Дугласа. Нет, мама лучше полностью оплатит обучение, лишь бы прилепить на машину наклейку престижного университета. Она вроде рассказывала, как наберет денег ему на высшее образование: какой-то там заем под залог недвижимости и еще оформит частный кредит... Словом, обещала устроить так, что рассчитываться с долгами будет не его заботой. А если не выгорит, он сам прилепит на заднее стекло наклейку Университета Дрю, потому что какое право она имеет его ругать за Дрю, когда сама училась всего-то в Святом Иоанне?
Перед ним огромный мир. Он оставит прошлое позади и родится заново — только на этот раз с надежной прочной защитой. Он пересоздаст этот мир. В один миг он проживет тысячелетия.
61
Коннелл мчался сломя голову, но когда выскочил на платформу вокзала Гранд-Сентрал, последний поезд, в час тридцать, уже отошел. Коннелл со вздохом пнул железную урну для газет. Он уже знал — если, живя в пригороде, опоздать на последний поезд, попадаешь в совсем иной, ночной мир. Придется теперь где-то пересидеть до пяти тридцати.
Он решил не звонить домой, хотя мама велела обязательно предупредить, если не приедет ночевать, — стыдно было признаваться, что пропустил поезд. Коннелл уехал сегодня рано утром и за весь день ни разу не давал о себе знать. У мамы сейчас и так забот хватало, чтобы еще и его контролировать. Лишь бы только он не влипал в неприятности — и Коннелл старался оправдывать доверие. Иногда, пройдясь в половине третьего ночи по пустым улицам от станции, он слышал, как мама тихонько окликает его из своей комнаты, хотя в последнее время она чаще уже спала. Сегодня придется рискнуть, — может, он успеет вернуться, пока она еще не проснулась. Коннелл старался избегать конфликтов — так проще.
Он перешел через Сорок вторую и на метро поехал до станции «Западная Четвертая улица». Девчонка, с которой они недолгое время встречались, рассказывала, что однажды практически всю ночь провела в джаз-клубе под названием «Смоллз». Туда и несовершеннолетних пускают, если только не порываешься заказывать алкогольные напитки. Коннелл ничего не знал о джазе, но так все-таки лучше, чем торчать в какой-нибудь закусочной, где тебя того гляди погонят из-за столика.
За вход пришлось заплатить. Народу было не так чтобы битком. Коннелл сел за пустой столик у самой рампы и заказал кока-колу. Негромко играла труба под сопровождение ударных, клавиш и сакса.
Лица в толпе улыбались приветливо. Официантка вроде не рассердилась, что он взял так мало. Соло на трубе закончилось, и по залу пробежал легкий плеск аплодисментов — словно летний дождь барабанит по кондиционеру.
Среди посетителей мог оказаться кто угодно. Коннелл вообразил, что сюда приходят важные люди — те, от кого многое зависит. Им, наверное, приятно видеть в своей среде молодого человека. Они считают его серьезным и светским. Он постарался сделать умное лицо и, совсем не понимая музыки, скроил восхищенную гримасу ценителя, наслаждающегося удачно взятой нотой.
Ближе к концу выступления толпа поредела, и музыканты заметно расслабились. Они кивали кому-то из публики, кое с кем даже обменивались репликами. Перерывы между номерами стали дольше. Чувствовалось, что сейчас будут играть совсем другой джаз, требующий неспешной подготовки.
Ближе к четырем часам на банкетках позади Коннелла стала рассаживаться публика. На сцену вышли новые музыканты. Официантка несколько раз подливала колу в стакан. Казалось, ночь полна возможностей. Время — его союзник; он может стать кем только пожелает.
Дом и спящие родители остались где-то далеко, на другом конце света. Коннелл мысленно присоединился к обществу деятельных людей, умеющих ценить жизнь во всей ее полноте. Вот с кого надо брать пример!
В пять официантка начала расставлять на длинном столе у входа подносы с закусками. Два-три человека направились в ту сторону.
— Это нам? — спросил он официантку.
— Всем желающим.
С ума сойти! Мало того что ему разрешили провести здесь всю ночь, так еще и завтраком накормят. Еда была не особо роскошная, но от неожиданности показалась настоящим пиром.
Коннелл набрал на тарелку булочек с маслом, положил омлет и налил в стакан апельсинового сока, предвкушая маленький ритуал: как он пропустит на освободившееся место следующего в очереди, как они обменяются азартными взглядами... Но стоявший за ним парень просто взял булочку и вернулся за столик, а больше никто и не подошел. Коннелл постоял смущенно, притворяясь, будто выбирает, что еще взять, и, не поднимая головы, поплелся к своему месту.
Домой он вернулся в семь утра. Мама спала, уронив голову на кухонный стол. Рядом стояли жестянки с печеньем, а на полу белела сахарная пудра. Накануне вечером они с мамой собирались испечь печенье к Рождеству — была у них такая семейная традиция. А он и забыл совсем: днем пошел куда-то с друзьями, потом домой так и не вернулся.
Коннелл пересчитал жестянки: мама напекла столько же, сколько обычно. Приподняв вощеную бумагу, Коннелл увидел, что часть печений не посыпаны пудрой, другие вышли кривыми и кособокими.
Мама сгорбилась, сидя на стуле, — потом наверняка спина будет болеть.
Коннелл тронул ее за плечо:
— Мам! Ложись в постель нормально.
Она проснулась не сразу, а проснувшись, медленно пошла к лестнице. На пороге обернулась.
— Я больше никогда не буду тебя дожидаться по вечерам, — сказала мама спокойно, и у Коннелла сердце сделало перебой. — Не буду волноваться, если ты не звонишь. Вообще не буду о тебе беспокоиться, обещаю. Ты свободен.
Коннелл забрел в родительскую ванную. Здесь запах лавандового мыла преобладал над запахом тефтелек. По случаю рождественского утра радиоприемники в спальне и в кухне были настроены на одну и ту же христианскую радиостанцию, словно мама не могла обойтись без рождественских песен даже ненадолго, чтобы переодеться.
Папа обмазался кремом для бритья в невероятном количестве и достал из пакетика синий пластиковый бритвенный станок — такими и самый ловкий человек запросто может порезаться. Коннелл посмотрел, как он неуклюже, наугад проводит по щеке пыточным инструментом, потом не выдержал и сбежал, пока не началось кровопролитие.
В кухне мама проверяла, готова ли индейка в духовке.
— Папа мне сообщил, что он, оказывается, терпеть не может Рождество и никогда его не любил, а я вечно наготовлю целую гору и развожу лишнюю суматоху. — Она полила индейку соком, и брызнувшие мимо капли зашипели на раскаленных стенках духовки. — Как по-твоему, я много лишнего приготовила?
По всей кухне стояли подносы с разными вкусностями, лежали аккуратно свернутые салфетки, сверкало столовое серебро и чисто вымытый хрусталь, высились горками подарки, которые мама в одиночку завернула в красивую бумагу, и печенье, которое мама испекла, тоже в одиночестве.
— По-моему, ничего лишнего.
— Я стараюсь устроить праздник, потому что трудно будет все равно, что бы я ни делала. Нужно иногда обмануть саму себя.
Коннелл не представлял, как она выдерживает отцовские безумные выкрутасы. Сам Коннелл даже находиться с ним в одной комнате не мог. Отец страшно грубил и мучил маму, а скажешь ему — все отрицал как маленький. Требовал, чтобы она чуть что бежала к нему, и ничем не показывал благодарности.
Отец спустился в кухню — все лицо облеплено окровавленными кусочками бумажного полотенца, словно давлеными комарами.
— Может, тебе другой бритвой пользоваться? — спросил Коннелл. — От этих лезвий ты весь порезанный.
— Нормальная у меня бритва.
— Попробуй безопасную, «Мах-три».
— У меня абсолютно нормальная бритва, — проговорил отец сквозь зубы, зло сжимая кулаки.
— Или электрическую.
— Что вы все ко мне цепляетесь?
— Он не цепляется, — заступилась мама. — Он хочет тебе помочь.
— Не надо мне помогать. Я и сам отлично справляюсь.
— Ты слишком много крема мажешь, — сказал Коннелл.
— Неблагодарный сопляк!
— Эдмунд!
Коннелл ушел к себе. Мама заглянула к нему:
— Ты просто люби своего отца, больше ничего не нужно.
— Я люблю, — вздохнул Коннелл. — Я понимаю.
— Через двадцать лет эти ваши ссоры не будут иметь никакого значения.
— Знаю-знаю, — перебил Коннелл. — И мне не приходится терпеть сотой доли того, что вытерпела ты, я в курсе.
Мама помолчала, словно обдумывая его слова. Обычно она за словом в карман не лезла, а тут что-то призадумалась. Лучше бы уж орала на него, как раньше.
— Подумай хорошенько: каким человеком ты хочешь стать? Больше я ничего не скажу. Ты приготовил папе подарок на Рождество?
Коннелл отвел глаза.
— Вот, держи. — Мама протянула ему пару двадцаток.
— Это зачем?
— Сходи купи ему электробритву, раз уж так заботишься.
Наутро после Рождества Коннелл услышал, как отец бреется подаренной бритвой. Спустившись в кухню, отец держал в руках одноразовый станочек «Бик».
— Между прочим, сегодня я не порезался!
— Здорово, — сказал Коннелл. — И как тебе электробритва?
— Я ею не пользовался.
— А я слышал, как она гудела.
— Ничего ты не слышал! — рассердился отец.
— Слышал!
— Сам не знаешь, что говоришь! — Отец махнул станком. — Вот чем я брился!
— Да слышал я.
Мама тяжело вздохнула и вдруг рявкнула на Коннелла:
— Не доводи отца!
— Ладно-ладно. — Коннелл достал из морозильника лед. — Нет, слушайте, ну маразм же!
— Коннелл! — сказала мама.
— Ну я же слышал! Почему он спорит? Пап, зачем ты споришь? Глупость какая-то!
— Я пользовался «Биком».
— Неправда!
— Вот, смотри! — Отец принялся скрести бритвой по сухой щеке. Морщился, но не переставал. — Вот так, видишь?
— Прекрати! — закричала мама. — Прекрати сейчас же!
Коннелл подскочил забрать лезвие. На подбородке у отца выступила капелька крови. Отец попятился и замахнулся бритвой. Коннелл дернулся, отводя голову назад.
— Эд! — взвизгнула мама.
— Ладно, хорошо, ты пользовался «Биком»!
Коннелл старался отнять бритву, но отец, уронив ее, выкрутил ему руку.
— Да, я им пользовался!
Коннелл скривился от боли:
— Пап, а может, ты будешь бриться той, другой? Все-таки сегодня Рождество. Это же мой подарок.
— Ладно. — Отец разжал руки. — А что за подарок?
— Ну, бритва. Я тебе подарил.