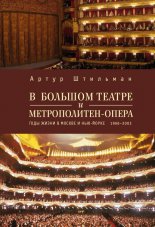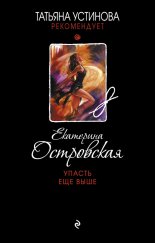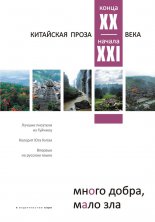Кассия Сенина Татьяна

– О, да! – заметил Феофил с некоторым сарказмом. – «Ибо из тварей, которые дышат и ползают в прахе», как сказал поэт, «истинно в целой вселенной несчастнее нет человека» и, добавлю, человеческого правителя! Правитель так или иначе неизбежно становится рабом своего положения. Однажды некий мудрец спорил кое с кем, кто считал, что нужно не философией заниматься, а посвятить себя государственным делам и упражняться в риторике. Мудрец сказал: «Ты видишь, беседа у нас идет о том, над чем и недалекий человек серьезно бы призадумался: как надо жить? Избрать ли путь, на который ты призываешь меня, и делать, как ты говоришь, дело достойное мужчины, – держать речи перед народом, совершенствоваться в красноречии и участвовать в управлении государством по вашему образцу, – или же посвятить жизнь философии?» Но если обычный человек может выбрать между этими двумя возможностями, то у императора выбора нет.
«Ого! – Варда мысленно присвистнул. – Он и впрямь начитан и умен! Что же будет делать Феодора с таким мужем? На одном Ахилле Татии тут далеко не уедешь…» Он уже успел сообщить сестре, что благополучно продал «сказки Эрота» эвисскому перекупщику. Тот удивился и сказал, что уже второй раз держит в руках эту книгу: впервые ему продал эту рукопись нотарий из Гангр, срочно нуждавшийся в деньгах, а вскоре ее купил один молодой человек, польстившись на красивую обложку и на слова торговца о том, что повесть рассказывает о любви и верности, поскольку намеревался подарить ее одной «прекраснейшей и достойнейшей девице». И вот, книга вновь вернулась к торговцу. Варда усмехнулся и сказал, что у первого покупателя не всё сложилось с любовью и верностью, и книга, видимо, пока не нашла своего настоящего владельца.
– Но, быть может, это и хорошо, что нет выбора? – несмело спросила Фекла. – Если чего-то невозможно избежать, то, по крайней мере, понятно, что воля Божия именно такова, и надо стараться жить в соответствии с ней…
– На первый взгляд, моя августейшая, только на первый взгляд! – усмехнулся император. – Сейчас у тебя, как будто бы, нет выбора, а завтра он может появиться. И кто поручится, что ты сделаешь его правильно?
Императрица искоса взглянула на мужа: к чему это он? Так, рассуждает вообще или имеет в виду что-то определенное? И если последнее, то… что именно?..
– Мне кажется, – подала голос Флорина, – в таких случаях полезно вопрошать святых подвижников, которым Бог может открыть, в чем состоит Его воля. Мы сами, конечно, люди грешные и часто не можем правильно понять…
– Святые подвижники скажут известно, что! – вдруг нервно рассмеялась Феодора. – «Смиряйся, молись, старайся избегать грехов!» Что еще они могут сказать? Глупо спрашивать, если и так известно заранее!
– Феодора!.. – Флорина с ужасом посмотрела на дочь.
У ее сестер и их мужей тоже округлились глаза, зато Феофил посмотрел на невесту с некоторым любопытством и сказал:
– Иногда подвижники могут сказать и что-нибудь отличающееся от общепринятого.
– Например, если они философы, – вставил Михаил и пристально взглянул на свою супругу.
Фекла внезапно смешалась и не нашла ничего лучшего, как подозвать виночерпия и попросить подлить ей еще вина.
– Философы могут сказать много интересного, даже если они и не подвижники, наверное, – заметил Константин Вавуцик.
– Разве философ может не быть подвижником? – возразил Варда. – Если, конечно, мы говорим о любви к Премудрости истинной и совершенной…
– Языческие философы, не знавшие еще ясно этой Премудрости, всё-таки тоже были подвижниками так или иначе, – сказал Феофил. – Кстати, господин Варда, ты узнал, откуда была цитата про два пути жизни?– По-моему, это Платон, но я не помню, что это за произведение…
– «Горгий». А Стагирит утверждал, что «преизбыток добродетелей превращает людей в богов». Тоже не так уж далеко от христианства.
– «Бог встал посреди богов»! – процитировал из псалма Сергий Никетиат, муж Ирины.
Феофил кивнул и подумал: «Странно, я вроде бы уже много выпил, а всё еще не очень пьян… Даже способен философствовать…»
Варда оглядел сестер и подумал: «Да, бедная Феодора не ожидала такого оборота! Растеряна, определенно! А сестрицы пожалуй, теперь еще подумают, стоит ли завидовать… Мало найти сокровище, надо ведь суметь им воспользоваться!»
Феофил отпил еще вина и продолжал:
– Или вот, Платон в другом диалоге говорит нечто вполне согласное с нашим учением: «Уподобиться Богу – значит стать разумно справедливым и разумно благочестивым».
– Действительно прекрасно сказано! – сказала Фекла с неподдельным восхищением.
– Дело за малым: понять, что же значит «разумно», – усмехнулся император.
– Может быть, – Феофил повернулся к Феодоре, – моя дорогая невеста что-нибудь скажет нам об этом? Ведь нам с ней скоро предстоит быть венчанными на царство, а правитель, как учили и наши, и языческие мудрецы, должен подавать пример подданным! По Аристотелю, он «больше всего старается о добродетели, ибо хочет делать граждан добродетельными и законопослушными», и наука о государстве «больше всего уделяет внимания тому, чтобы создать граждан определенного качества – добродетельных и совершающих прекрасные поступки». А раз правитель государства заботится о таких вещах, то он должен знать, в чем состоит истинное благочестие, не так ли?
Феодора совершенно потерялась. Все сотрапезники теперь смотрели на нее. Во взглядах сестер сквозило выражение: «Вот так попала, бедняжка!» Варда, очевидно, думал: «А что я тебе говорил? Вот теперь и хлопай глазами!» Императрица взглянула на девушку с легким испугом и тут же перевела глаза на сына, а он… Феофил смотрел на невесту выжидательно, и в его взгляде ей почудилось словно бы надежда – но на что? Неужели ему так хочется услышать от нее «философский» ответ? Она отчаянно пыталась вспомнить хотя бы содержание прочитанных когда-то страниц Аристотелева трактата «О душе», но вместо этого ей вспоминались стихи Сапфо:
- «Пестрым троном славная Афродита,
- Зевса дочь, искусная в хитрых ковах!
- Я молю тебя: не круши мне горем
- Сердца, благая!..»
– Я думаю… – проговорила Феодора и умолкла, не зная, что сказать дальше.
Феофил усмехнулся.
– Ну, когда надумаешь, скажешь! – и он отвернулся.
Феодора вспыхнула и ощутила, как слезы подступают ей к горлу. Император, наблюдавший за ней, улыбнулся и сказал сыну:
– Э, Феофил, разве можно в первый же день знакомства с невестой приступать к ней с такими разговорами?
– Совершенно справедливо, августейший! – воскликнул эпарх. – К тому же, сидя рядом с таким прекрасным женихом, как твой сын, невесте трудно думать о ком-то еще, кроме него!
– Да, тут впору последний разум потерять, – игриво сказала Каломария, – а не думать о разумном благочестии!
– О благочестии неплохо думать всегда, Каломария! – сказала Флорина с некоторой суровостью и обратилась к императору. – Думаю, августейший, быть благочестивым «разумно» означает – с рассуждением. Ведь рассуждение, как учат святые отцы, является наивысшей добродетелью.
– Э, рассуждать мы все горазды! – сказал Михаил. – Но кто поручится, что наши рассуждения верны? Впрочем, мы как-то отвлеклись… Разговор вроде шел о том, заниматься ли государственной деятельностью или философией, и что мудрецы предпочитали философию. Не так ли? – обратился он к логофету, тот кивнул. – Да, так вот… Действительно ли здесь есть противоречие? Ведь тот же Платон, кажется, о государственном устройстве тоже писал? Видно, и он признавал, что не всем надо бежать от дел управления? Как, Феофил? Ты-то должен знать, даром, что ли, вы там с отцом игуменом в философию углубляетесь?
Феофил слегка призадумался, у него в голове наконец-то зашумело от выпитого вина.
– «Государство» мы еще только начнем изучать на днях, – ответил он, – но Платон писал об этом не только там… Например, вот: «Мы можем назвать божественными и вдохновенными государственных людей: ведь и они, движимые и одержимые Богом, своим словом совершают много великих дел».
– «Сердце царя в руке Божией»! – торжественно возгласил препозит.
– Что ж, – сказал император, – полагаю, мы должны выпить за то, чтобы каждый из нас был движим Богом и смог стать… как там?.. «разумно благочестивым»? Так, Феофил?
– Да, отец.
«Только вряд ли это у меня теперь получится», – подумал он, поднося к губам кубок.
…На Константинополь опустилась ночь. Масляные фонари, едва разгоняющие тьму на улицах, непроглядный мрак в переулках. Огромные мохнатые звезды. Тишина.
Кассия не спала. Уже давно было прочитаны вечернее правило и по отрывку из Евангелия и Апостола, уже давно легли спать все домашние, а она лежала и не могла уснуть.
До сих пор она почти не думала о мужчинах, а встречая их восторженные взгляды, чаще всего ощущала легкую досаду, иногда смущение. Порой они даже бывали ей приятны, но при этом никогда не тревожили ее решимости посвятить себя Богу. Приходившие время от времени нечистые помыслы она легко отгоняла молитвой, они как бы проплывали по поверхности души и не задевали глубоко. Письма Студийского игумена утешали и утверждали ее при нападках уныния или сомнений. Грустные и даже трагические истории из чужой семейной жизни, слышанные ею от матери и от знакомых, утверждали ее доказательством «от противного». Она любила перечитывать слово «О девстве» святителя Иоанна Златоуста, так что почти заучила его наизусть. Да, всё в жизни Кассии было так понятно и твердо… до этого несчастного выбора невест!
Чувство легкости, пришедшее после церемонии во дворце, внутренний свет, осиявший ее душу, как-то незаметно исчезли. Она лежала в темноте, и перед ней вновь и вновь вставало лицо Феофила, его глаза… и жар опять разливался по ее внутренностям. В тоске она твердила Иисусову молитву, но внимание не сосредотачивалось на словах, и внутренний пламень не угасал. «Иоанн Грамматик оказался прав! – думала она. – Вот оно, наказание за то, что я дерзнула испытать судьбу, “проверить” призвание! Но, может быть, такое искушение надо претерпеть для опытности? А я-то думала, что пройдут все эти любовные страсти мимо меня! Нет, не прошли… Не надо было жить в такой уверенности и возноситься!»
Кассия встала с постели, пошла в молельню, зажгла лампаду перед иконой и стала класть земные поклоны, на каждый поклон повторяя: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое!» Наконец, изнемогши, она легла и почти сразу уснула. Но под утро ей приснился Феофил. Он подошел к ней и протянул золотое яблоко, она взяла его, и юноша обнял ее и привлек к себе… Кассия проснулась в смущении и снова встала на поклоны, потом прочла несколько кафизм из Псалтири и села у окна, шепча Иисусову молитву.
«Чтобы не быть пораженной или не поразить», – вспомнилось ей.
– Не вышло! – прошептала она.
И опять эти темные глаза… И снова ее бросает то в жар, то в холод…
Светлое пятно легло на занавеску. Кассия встала, отодвинула ее и зажмурилась. Над Константинополем всходило солнце. Начинался новый день – но уже другой жизни.
8. «Пир»
(Феокрит)
- Сердце ж молвило мне: «Кто возмечтал, будто бы так легко
- Будет им побежден Эрос-хитрец, верно, мечтает тот,
- Сколько звезд в небесах ночью прошло, счесть по десяткам вмиг».
Прошли три недели с того дня, как уроки в доме недалеко от форума Константина были прерваны, и Лев поймал себя на том, что заскучал. Молодой человек удивился: он уже забыл, когда в последний раз испытывал скуку. Лев несколько лет прожил в окружении книг и не помнил, чтобы когда-нибудь скучал над рукописью. Но теперь он перечитывал Аристотеля и чувствовал, что ему не хватает чего-то существенного, важного, без чего чтение, казалось, теряло половину… или даже почти весь смысл.
Его математический ум, обнаружив и определив новое ощущение, быстро разложил его на составляющие, докапываясь до причин. Сомнений не было: он скучал по своей ученице. Открытие поразило его. Но это было так: он скучал по визитам в особняк с видом на колонну Константина из окна гостиной, по чтению в слух внимательной слушательницы, по ее вопросам, по обсуждениям прочитанного и… И по ней самой.
«Неужели я влюбился?»
Вопрос застиг его врасплох. Лев встал, потер лоб, прошелся из одного угла комнаты в другой, подошел к окну, поглядел на глухую стену противоположного дома, на кусок неба над крышей… Он уже седьмой месяц учил Кассию. Она восхищала своим умом и способностью быстро схватывать предмет, проникать в суть вещей, и учить ее было само по себе удовольствием, сравнимым с наслаждением от занятий науками. Конечно, ее красота тоже восхищала – но так, как восхищает красота совершенного произведения искусства или прекрасного творения Божия: Лев не смотрел на нее как мужчина на женщину, и исполнение обещания, данного Марфе, давалось ему без труда. Но теперь…
«А ты жениться-то не собираешься, сынок?» – вспомнился ему вопрос его старого учителя, которого Лев навестил, приехав с Андроса. Поразившись, в какой бедности он живет, Лев отдал ему половину денег, полученных от навклира «Европы». Старик со слезами благодарил бывшего ученика, долго слушал его рассказ о жизни на острове, задавал множество вопросов, и его угасший взгляд снова молодо заблестел, так что моментами Льву казалось, что перед ним снова тот бодрый преподаватель, у которого он когда-то изучал грамматику и поэтику…
– С Богом, сынок, с Богом! – прошамкал старик, услышав о планах Льва заняться преподаванием.
На вопрос о женитьбе молодой человек ответил:
– Да нет, не влечет меня это. Женщины, браки, дети… Только помеха научным занятиям!
– Э, да ты философски подходишь к делу! Добро! В твои годы это редкость!
Старик дал ему адрес Кассии и написал рекомендацию. Марфа при встрече сказала Льву:
– Да, моя дочь действительно хотела бы продолжить образование у более сведущего в науках человека… Я вижу, ты подошел бы, господин, но…
– Госпожу что-то смущает?
– Можно ли доверят твоей честности, господин Лев… и чистоте помыслов?
– Да, вполне!
– Я имею в виду, прежде всего, целомудрие. Ты молод, моя дочь тоже молода…
– Понимаю. Я мог бы поклясться…
– О, не нужно! Я вижу, тебе можно доверять.
До сих пор ему легко было оправдывать это доверие, и ни разу не приходила мысль о пересмотре «философского подхода» к вопросу о женитьбе. Но теперь, думая о Кассии, Лев внезапно понял, что на такой девушке он бы женился. Такая жена не была бы помехой в занятиях науками – напротив, она была бы помощницей, с ней можно было бы вместе читать и разбирать прочитанное, вместе докапываться до сути сложных вопросов… Но это не было только лишь умственным сродством. Сейчас, глядя на шероховатую стену соседнего дома, Лев осознал, что переоценил отсутствие у себя интереса к плотской стороне любви. Интереса не было только потому, что он до сих пор не встречал достойного объекта для интереса, вот и всё. Он мнил себя свободным от «низменной страсти» – и вот, она показала зубы. Придется «бдеть и не дать подкопать дома своего» до конца, коль скоро он не уследил, и подкоп уже начат…
А если… может быть… Может, она бы согласилась, если б он посватался?..
«Безумие! – думал Лев, входя во двор Кассииного особняка. – О чем я вздумал размечтаться? Нищий учитель – и одна из богатейших невест столицы! И красавица! А я…» Войдя в гостиную, где проходили их уроки, он впервые за всё время посещения этого дома приостановился перед зеркалом из полированной меди и посмотрел на себя. Губы его тронула ироническая усмешка. Невысокого роста, худой, слегка сутулый, Лев был далеко не красавцем. Поблекшая от многократных стирок одежда мешковато висела на нем и, конечно, не придавала ни изящества, ни лоска. Жидкая бородка, нос «римский», но слишком длинный… Если что и было очень хорошо в его лице, во многом скрадывая недостатки, так это высокий лоб и большие светло-карие глаза. А Кассия!.. Сейчас он увидит ее… И Лев понял, что «подкоп» зашел гораздо глубже, чем он предполагал. Главное теперь – суметь держать себя в руках и не подавать вида!
Выложив из сумки несколько листов пергамента со своими заметками и книгу, он сел за стол. При последней встрече они стали читать «Пир» Платона, и Лев обещал своей ученице по прочтении и обсуждении диалога сравнить его с «Пиром десяти дев» священномученика Мефодия Патарского, который Кассия уже прочла. Теперь все это выглядело для Льва двусмысленно…
Не показывать вида, только не показывать вида.
Он постарался придать лицу будничное выражение, но сердце колотилось ужасно. Как назло, предстояло читать «Пир», про «свою половину». Не выдаст ли он себя, например, голосом?..
Лев поднялся и отошел к окну, откуда была видна Порфировая колонна.
«Впрочем, – подумалось ему, – что я так беспокоюсь? Если даже она поймет, что я неравнодушен к ней… разве это что-нибудь изменит? Нелепо было бы надеяться на взаимность с ее стороны… Нелепо, нелепо».
– Здравствуй, господин Лев! – раздался сзади голос, всегда напоминавший ему музыку, а сейчас зазвучавший, как песнь сирены.
Кровь отхлынула у него от сердца, а в следующий миг бросилась в голову. Он обернулся и поклонился вошедшей девушке.
– Здравствуй, госпожа!
Кассия была одета в темно-зеленую тунику и закутана в такой же мафорий, даже лоб был полностью закрыт. Взгляд ее скользнул по лицу Льва, пробежал по разложенным на столе листам, на миг задержался на книге и устремился в пол. Легкая улыбка, показавшаяся на ее губах при приветствии, тут же исчезла. Лев подошел к столу, стараясь не смотреть на нее. Кассия достала из шкафчика чернильницу и подставку с перьями, поставила на другой конец стола, села, положив перед собой тетрадку, взяла перо, попробовала пальцем кончик и слегка откинулась на спинку стула, опустив глаза и положив руки на колени.
– Мы давно не виделись, – сказал Лев и осекся.
Три недели – разве это много? Это ему показалось, что много, потому что… Ну вот, он начал выдавать себя с первой же фразы!
– Да, – сказала она, – давно, – и тоже осеклась.
Последний их урок был в какой-то другой жизни, и ей казалось, что это было так давно, как будто и не с ней…
Ее ответ удивил Льва, и он, забыв, что решил не смотреть на Кассию, пристально взглянул на нее. Девушка была как будто бледнее обычного. Чем-то расстроена?..
– Мы ведь в последний раз начали «Пир» Платона, – сказала она, не поднимая глаз.
– Да, мы прочли вступление и речи Федра, Павсания и Эриксимаха. Ты помнишь, о чем они говорили?
– Нет, – виновато ответила Кассия и принялась листать свои прошлые записи. – Я что-то… всё забыла уже и в тетрадь не заглянула… Видишь, какая я нерадивая ученица!
– Пустяки! Сейчас мы всё вспомним, – Лев открыл книгу на закладке и пролистал назад. – В целом смысл сказанного Федром сводится вот к чему: «Эрот – бог древнейший. А как древнейший бог, он явился для нас первоисточником величайших благ». Он «самый почтенный и самый могущественный из богов, наиболее способный наделить людей доблестью и даровать им блаженство при жизни и после смерти».
Кассия словно бы поежилась.
– Да, теперь я вспомнила, – сказала она ровным тоном, глядя в тетрадь. – Вот, у меня тут записано… Павсаний говорил про двух разных Эротов, а Эриксимах про то, что Эрот живет во всем сущем. Про двух Эротов там было хорошо! – девушка несколько оживилась.
– «О любом деле, – Лев как раз нашел это место и стал читать, – можно сказать, что само по себе оно не бывает ни прекрасным, ни безобразным. Например, все, что мы делаем сейчас, пьем ли, поем ли или беседуем, прекрасно не само по себе, а смотря по тому, как это делается, как происходит: если дело делается прекрасно и правильно, оно становится прекрасным, а если неправильно, то, наоборот, безобразным. То же самое и с любовью: не всякий Эрот прекрасен и достоин похвал, а лишь тот, который побуждает прекрасно любить…»
– Это о любви божественной и земной, правда? – сказала Кассия.
– Да… Этот диалог вообще дает много возможностей для истолкования в христианском смысле, – Лев листал дальше. – Эриксимах развивает мысль о двух Эротах и заключает: «Эрот, который у нас и у богов ведет ко благу, к рассудительности и справедливости, – этот Эрот обладает могуществом поистине величайшим и приносит нам всяческое блаженство, позволяя нам дружески общаться между собой и даже с богами, которые совершеннее нас». Итак, продолжим? – Кассия кивнула. – Следующей приводится речь Аристофана. Он излагает миф о происхождении людей. Этот миф, конечно, и сам Платон понимал символически.
Лев отложил закладку и начал чтение. Кассия сидела неподвижно, опустив ресницы, но Лев видел, что она внимательно слушает. Дойдя до утверждения, что каждый человек «всегда ищет соответствующую ему половину», – Лев запнулся. Ему пришла в голову мысль, что если это так, то настоящая любовь не может не быть взаимной, и потому… И потому, если он влюблен в Кассию, а она в него – нет, то эта любовь ненастоящая, и стыдно даже мечтать о браке. Но почему тогда так больно?.. Кассия взглянула на него вопросительно, и он, собравшись с силами, продолжил чтение.
– Занятное объяснение пороков! – усмехнулась девушка, когда он, спустя немного времени, остановился передохнуть. – Но мне что-то кажется, что этот Аристофан в диалоге вообще персонаж несколько комический… Может быть, Платон нарочно вложил ему в уста эти рассуждения о том, почему одни люди любят лиц противоположного пола, а другие – своего?
– Не исключено. Но если не обращать внимание на такое как будто бы оправдание пороков, то главный вывод из этой теории о рассеченных людях вполне верен… для земной любви, конечно. Впрочем, всё это можно возвести к высшему смыслу, ведь люди обретают целостность своей природы только в Боге. А земная любовь, – голос Льва чуть дрогнул, – увлекает тогда, когда человек уклоняется желанием от высшего Блага… Вообще, теорию о половинах и о любви как о стремлении ко благу, Платон развивает дальше, в разговоре Сократа с Диотимой… Но продолжим. «Когда кому-либо, будь то любитель юношей или всякий другой, случается встретить как раз свою половину, обоих охватывает такое удивительное чувство привязанности, близости и любви, что они поистине не хотят разлучаться даже на короткое время…»
Кассия опять поежилась. Лев вдруг понял, что она охвачена сильным смятением, и это открытие заставило его даже почти забыть о «подкопе», обнаруженном в собственной душе. С его ученицей явно что-то произошло за те три недели, пока они не виделись.
– «Поэтому каждый должен учить каждого почтению к богам, чтобы нас не постигла эта беда и чтобы нашим уделом была целостность, к которой нас ведет и указывает нам дорогу Эрот. Не следует поступать наперекор Эроту: поступает наперекор ему лишь тот, кто враждебен богам…»
Кассия вдруг ужасно побледнела, даже губы побелели. Лев испугался, что ей стало дурно, и прервал чтение. Она взглянула на него и сказала очень тихо:
– Продолжай.
– «Наш род достигнет блаженства тогда, когда мы вполне удовлетворим Эрота и каждый найдет соответствующий себе предмет любви…»
Тут голос Льва предательски дрогнул, но Кассия, кажется, вовсе не заметила этого; она внимательно слушала, по-прежнему бледная и неподвижная.
– «Ведь рассудительность – это, по общему признанию, уменье обуздывать свои вожделения и страсти, а нет страсти, которая была бы сильнее Эрота. Но если страсти слабее, чем он, – значит, они должны подчиняться ему, а он – обуздывать их…»
– Вот видишь, – Лев прервал чтения для комментария и чтобы перевести дух, – всё-таки здесь, в конечном счете, всё можно перевести на тему божественной любви. Ведь только она может «обуздать вожделения и страсти».
– Да, – тихо сказала Кассия, – только мы не имеем такой сильной любви…
– Но Бог обещал даровать ее ищущим, – сказал Лев, а про себя подумал: «Скор же я на правильные поучения, а сам-то хорош!..»
Кассия не пошевелилась, даже не кивнула. Лев продолжал читать. Дойдя до диалога с Диотимой и в очередной раз остановившись передохнуть, он снова взглянул на девушку. Она тоже подняла на него глаза, и в ее взгляде ему почудилось что-то жалобное, словно просьба о пощаде… Но она тут же опустила ресницы.
– «“Но любовь, – заключила она, – вовсе не есть стремление к прекрасному, как то тебе, Сократ, кажется”. – “А что же она такое?” – “Стремление родить и произвести на свет в прекрасном”. – “Может быть”, – сказал я. – “Несомненно, – сказала она. – А почему именно родить? Да потому, что рождение это та доля бессмертия и вечности, которая отпущена смертному существу. Но если любовь, как мы согласились, есть стремление к вечному обладанию благом, то наряду с благом нельзя не желать и бессмертия. А значит, любовь – это стремление и к бессмертию”…»
Лев остановился и, отпив воды из стеклянного стакана, как всегда, предусмотрительно поставленного перед ним, сказал:
– Сколько тут всякого символизма! Красота, любовь и бессмертие!.. Кстати, пожалуй, в истории с яблоком Париса заключен тот же символизм: выбор прекраснейшей богини, и она оказывается богиней любви…
Щеки Кассии окрасились румянцем.
– А потом – Троянская война! – проговорила она. – Помнишь:
- «Ты на бессметных богов, Диомид, не дерзай ополчаться,
- Кто ни предстанет; но если Зевесова дочь Афродита
- Явится в брани, рази Афродиту острою медью»…
– Да, – глухо ответил Лев, – верно: всякий символизм двойственен. Любовь к божественной красоте ведет к бессмертию, а любовь к тленной – к войне страстей… Впрочем, Диотима дальше будет говорить о любви к «Прекрасному самому по себе»…
– Ну, продолжай тогда.
Лев продолжил чтение, а Кассия попыталась еще больше закутаться в мафорий, словно ей было холодно. Когда учитель дочитал до утверждения, что «душе подобает вынашивать разум и прочие добродетели», ученица вздохнула, как от боли.
– Боже мой! – прошептала она.
Голос Льва дрогнул; он взглянул на свою слушательницу. По ее щекам текли слезы. Она провела руками по лицу и встала.
– Прости, господин Лев, – сказала она через силу, – мне сегодня нехорошо… Может быть, закончим на сегодня? Дочитаем завтра, мы уже и так много прочли… Ты устал, я вижу…
– Да, госпожа, я и правда устал, – Лев внезапно охрип. – Действительно, лучше продолжить в следующий раз… Тем более, что там еще довольно далеко до конца.
– Книгу можешь оставить здесь, – сказала Кассия. – А на завтра я приготовлю и «Пир» святого Мефодия. Если дочитаем, то сравним…
– Договорились! – сказал Лев нарочито бодрым тоном. – До завтра, госпожа Кассия!
– До завтра! – эхом откликнулась она.
Когда Лев вышел, Кассия опустилась в кресло и какое-то время сидела неподвижно. Потом встала словно с трудом, подошла к столу, открыла оставленную учителем книгу на закладке и, прочитав немного дальше, закрыла рукопись и прошептала:
– Да, если б можно было так… как друзья… «вынашивать разум и добродетели»!.. Только всегда мешается эта «Афродита пошлая», завязывается Троянская война, Афродиту надо «разить острою медью»… И тут уже не до того… И достойно «родить в прекрасном» уже не получится… у нас с тобой, Феофил!
И, впервые произнеся вслух его имя, она закрыла лицо руками и заплакала.
…До свадьбы оставалось меньше двух недель. Феофил продолжал ежедневно заниматься с Иоанном философией. Они начали изучать Платоновское «Государство». Грамматик читал и объяснял, Феофил слушал, кое-что записывал, иногда чему-то усмехался, исправно отвечал на задаваемые учителем вопросы, но сам спрашивал мало и после занятий не задерживался. Накануне Вознесения Господня Иоанн спросил по окончании урока:
– Завтра, как я понимаю, мы не занимаемся?
– Нет, – ответил Феофил и, поднявшись из-за стола и подойдя к окну, сказал: – У меня есть вопрос, Иоанн, правда, не по «Государству», а по изученному ранее.
– Какой же?
– Вот мы разбирали «Пир», «Федр»… Ты всё хорошо объяснял… Все эти символические толкования, это понятно. Но меня сейчас больше интересует буквальный смысл. Ты, правда, и про него упоминал, но вскользь… Что ты сам-то об этом думаешь?
– О чем именно? Там ведь много всего.
– О любви.
Иоанн пристально поглядел на ученика. Феофил, чуть сощурившись, смотрел в окно. Грамматик, конечно, знал о происшедшем во время выбора невесты и ждал, что Феофил так или иначе заговорит об этом.
– О любви в высшем смысле, о которой говорила Диотима, или о земной? – спросил Иоанн.
– О последней.
– Думаю, что любовь это временное расстройство ума.
– И только? – взглянул на него Феофил.
Что-то такое было в его взгляде, что Грамматик понял: случившееся на смотринах будет иметь гораздо более глубокие последствия, чем могло показаться неискушенному наблюдателю.
– В общем и целом – да.
– А в частности?
– Кипение крови, особенно в юности. Пожалуй, некоторая душевная слабость.
– Кипение крови, – усмехнулся юноша, – может быть и без любви.
– Конечно. Но любовь придает ему гораздо большую силу.
– Да, – сквозь зубы проговорил Феофил. – А душевная слабость тут при чем?
– Если у человека не хватает внутренней силы, он, сознательно или бессознательно, ищет, на кого опереться. Как нужна опора, например, плющу, чтобы расти.
– Не хватает силы на что?
– На одиночество. Впрочем, подобная слабость обычно свойственна женщинам. Должно быть, последствие проклятия, изреченного праматери.
– «И к мужу твоему влечение твое, и он будет властвовать над тобою»?
– Именно.
– Значит, – опять усмехнулся Феофил, – женщина, в отличие от мужчины, имеет право на душевную слабость?
– Если подходить к этому по-христиански, то владеть собой обязательно для всех. Впрочем, так считали еще языческие философы, а христианам – Сам Бог велел. Ведь желательную силу души нам надо устремлять к Богу.
– Это понятно. «Возлюбить всем сердцем, всем умом…» А платоновская теория о «двух половинах», по-твоему, ложная?
– Нет, вероятно, такие случаи встречаются в жизни, но не так уж часто. Большинство людей неплохо обходятся без этого. Не думаю, что Платон придавал большую важность буквальному смыслу этого построения, ведь главное в «Пире» то, что говорит Диотима, а она развивает несколько иной взгляд на любовь, в том числе и на земную. Если бы все для вступления в брак искали того, о чем говорит Аристофан у Платона, почти всем пришлось бы идти в монахи.
– Ты потому и пошел, что не нашел?
– Я?.. Нет. Я никогда и не стремился «найти свою половину».
Феофил взглянул ему в лицо.
– Как истинный философ! – сказал он с неопределенным выражением, вновь отвернулся к окну и добавил: – «Сердце в груди у тебя, как секира, всегда непреклонно»!
– Я думаю, – сказал Грамматик, – что власть над собой всего ценнее… И не стоит платить за нее расстройством ума, связанным с женщиной.
– Возможно, – пробормотал Феофил.
«Но что делать тому, кого это расстройство уже постигло?» – подумал он, а вслух сказал:
– Тогда христианину точно лучше никогда не встречаться со «своей половиной»… Что ж, логично: ведь мы должны стремиться к высшей любви, по тому же Платону, к Прекрасному самому по себе, к Богу…
– Да, – кивнул Грамматик. – Кстати, о душевной слабости… Я сказал, что она больше свойственна женщинам, но и мужчина, бывает, подпадает ей, если слишком увлекается поэзией.
– Поэзией? – Феофил посмотрел через плечо на учителя и снова устремил взгляд в окно.
– Да. В сущности, «две половины» у Платона – это во многом поэзия. А в отношениях с женщинами поэзии должно быть поменьше… По крайней мере, лично я думаю так.
Феофил слегка побарабанил пальцами по подоконнику.
– В таком случае, – сказал он с иронией, – законный брак это просто насмешка и над язычеством Платона, и над христианским подвижничеством! Ведь душевно-плотское влечение, соединяющее, по Платону, две половины целого, эта самая «поэзия», есть страсть. Для христианина страсти вредны, с ними надо бороться, отрекаться от них… В то же время, по апостолу, муж и жена есть «едина плоть», то есть в браке, якобы, эти самые две «половины» должны соединиться в целое… Как же может получиться это целое при отсутствии связующего состава? Просто вследствие церковного благословения? Или, может, вследствие плотского соития самого по себе? – юноша усмехнулся. – А если нет внутреннего единения «двух половин», то что остается? Только голая похоть – то есть то, что для христианина наиболее греховно! Ты не находишь, что христианский брак с такой точки зрения выглядит довольно странным установлением? Я бы сказал, он содержит в себе внутреннее противоречие. Ведь если говорить о более высоком единении «двух половин», то «вынашивать разум и прочие добродетели», вместе стремиться к Богу и к духовному совершенству, чтобы «родить в прекрасном», можно, и не вступая в брак. Для этого не нужно ни спать друг с другом, ни детей рожать, ни вести общее хозяйство… Можно даже и не жить рядом, а только переписываться… Получается, брак нужен только для того, чтобы под его сенью удовлетворять плотские страсти. При чем тут христианство?
– Не при чем, – ответил Грамматик. – Брак это снисхождение для немощных христиан, не более того. Недаром же отцы говорят, что он допущен только как меньшее зло по сравнению с блудом, «да не искушает сатана». Златоуст учит, что немощные, воспитываясь в браке, «как птенцы в гнезде», должны восходить к совершенному житию – девственному, а более сильные… или, скорее, более разумные восходят к нему сразу, минуя брак. Вообще же в браке надо видеть нечто вроде союза людей, желающих спастись.
– Рожать детей и помогать друг другу спасаться… терпением друг друга, – пробормотал юноша. – Очень благочестиво!
«А куда деть эту боль?!..» Он закрыл глаза и прижался лбом к косяку окна. Феофил старался никак и нигде не выдавать себя, никому не показывать, как глубоко он ранен, но сейчас силы вдруг оставили его. Грамматик смотрел на ученика и думал, что помочь тут ничем нельзя, можно только ждать.
– Ничего, – проговорил он тихо, – перегорит и пройдет.
Феофил вздрогнул, открыл глаза и повернулся к учителю.
– И ты точно это знаешь? – спросил он с долей сарказма.
«Что он может знать об этом? Монах, философ!.. Он-то, верно, никогда не был влюблен… избегая расстройства ума!.. Перегорит и пройдет? Хотелось бы верить… но… На месте пожара остается пепелище. Впрочем, пепелища постепенно зарастают…»
Иоанн подошел к соседнему окну и, помолчав, ответил:
– Точно.
9. Восставшие мертвецы
(Екатерина Лиаку)
- Смотри, любви здесь нет – лишь бег мгновений спорый,
- И смыслы их бледны, как теней голоса.
Между тем будущая юная августа была в те дни наверху блаженства и одновременно почти на высшей точке нетерпения, смешанного с некоторым страхом, но страхом по-своему сладким, – и всё благодаря жениху. Он достиг этого, в общем-то, случайно. После выбора невест и злополучного первого обеда вместе с новыми родственниками Феофил, ценой огромного усилия, взял себя в руки и постарался ничем не огорчать свою невесту – «хотя бы до свадьбы». Он водил ее всюду, показывал дворец, рассказывал о церемониях и распорядках, сам выбирал ей украшения и приходил смотреть на ее новые наряды. Впрочем, Феодора была так красива, что эти ухаживания доставляли Феофилу определенное удовольствие, чего он не мог не признать. Почти каждый день по вечерам они гуляли по дворцовым паркам, и Феофил, уже имевший неплохие познания о растениях, рассказывал невесте о цветах и травах, которые им попадались. Но, украдкой поглядывая на Феодору, он порой думал, что она не столько вникает в то, что он ей говорил, сколько просто наслаждается тем, что идет рядом с ним и слушает его голос. «Если она так же любит меня, как я другую, то дело плохо, – думал он. – Но может, это только первые впечатления. Познакомившись со мной поближе…» – тут он мысленно усмехался и предпочитал не додумывать до конца. Иногда он читал ей стихи эллинских поэтов, преимущественно Анакреонта и Феокрита, искоса глядя, как у нее розовеют щеки и подрагивают ресницы. Узнав, что ей нравится Сапфо, он попросил прочесть что-нибудь. Она покраснела и прочла несколько эпиталамий. Феофил слушал и думал: «Хорошо, по крайней мере, что она, кажется, не настолько строгого нрава, как это можно было бы ожидать при такой матери… Как раз для той роли, что судьба ей назначила играть!»
Спустя несколько дней после выбора невесты, во время вечерней прогулки Феофил привел Феодору к небольшому пруду в дальнем конце кипарисовой аллеи в южном парке. Уже спускались сумерки. Жених с невестой сошли к воде, и Феодора увидела на площадке большую чашу, выточенную из белого мрамора с синими прожилками, наполненную небольшими плоскими гладкими камушками разных цветов.
– Ой, что это? – спросила она.
– А, это… Вот, смотри!
Феофил взял несколько камушков и, наклонившись, с размаху бросил один из них параллельно воде. Камушек, пролетев несколько футов, коснулся воды, но потонул не сразу, а лишь после того как сделал несколько прыжков по глади пруда.
– Ах, как чудесно! – воскликнула Феодора.
Феофил точно также кинул еще один камушек, и еще…
– Попробуй сама, если хочешь! – улыбаясь, сказал он Феодоре.
– Очень хочу!
Она взяла из чаши три камня и бросила, но увы! – два из них булькнули сразу же и почти у самого берега, а третий сделал всего два прыжка и тоже утонул.
– Слишком большой угол наклона, – сказал Феофил. – Надо бросать почти параллельно воде. Давай еще!
Она кинула еще три камушка. Теперь уже сразу не потонул ни один, но скачков все три сделали мало.
– Размахивайся сильнее! – посоветовал Феофил.
Она взяла еще пригоршню камушков и спросила:
– Но если всё время кидать, весь пруд закидать можно?
– Нет, – рассмеялся Феофил. – Раз в месяц слуги выгребают камни из пруда и складывают обратно в чашу. Видишь, пруд выложен мрамором. Если наловчиться и научиться рассчитывать силу броска, можно выводить по дну даже какие-нибудь узоры, кидая камни!
– Как интересно!
Она повертела в пальцах следующий камушек, взглянула в глаза жениху, вспыхнула, отвернулась и стала бросать камень за камнем. Они летели все дальше, делали все больше прыжков. Феофил жевал сорванную тут же травинку и наблюдал, как Феодора наклоняется, размахивается, кидает, выпрямляется, смотрит… Мафорий она бросила на скамейку, чтобы не мешала движениям. Поднявшийся легкий ветерок шевелил ее слегка растрепавшиеся волосы. «Пора возвращаться, – подумал Феофил. – Уже совсем вечер…» И вспомнилось из Агафия, которого он перечитывал накануне: «Влажные девичьи губы под вечер меня целовали…» Ему не впервые хотелось поцеловать Феодору. Первый раз это случилось, когда он несколько дней назад прикладывал к ее иссиня-черным волосам серебряный обруч с подвесками из жемчужных нитей.
– Тебе очень идет! – сказал он, улыбнувшись. – Посмотри!
Она взглянула на себя в зеркало, но как-то рассеянно, обратила взор к Феофилу, – и словно искра прошла между ними… Тогда он не дал волю своему желанию, а сейчас ему уже не хотелось сдерживаться. «Почему бы и нет? Жажду души не утолишь, а вот жар плоти можно и утишить хоть немного… Кажется, только это мне и осталось!» Тут Феодора обернулась к нему и сказала:
– Давай вместе кидать, кто дальше!
– Давай.
Они взяли по несколько камушков.
– Раз, два, три! – скомандовал Феофил, и два камушка полетели рядом по темневшей воде.