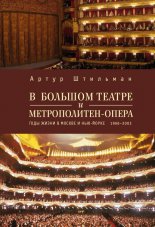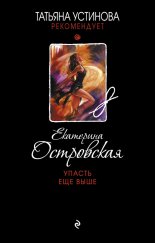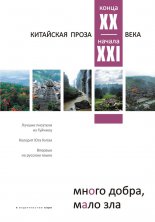Кассия Сенина Татьяна

– Это мудро! – проговорил Феофил.
– Да, – Иоанн встал. – А теперь помолимся, государь.
Василевс тоже поднялся, склонил голову, и игумен, помолившись, осенил императора крестным знамением. Феофил глубоко вздохнул и улыбнулся.
– Наконец-то! Я, конечно, должен был сделать это раньше… Тогда, возможно, не было бы падения с Евфимией! Хотя, с другой стороны, эта история меня кое-чему научила…
– Что было, то было, августейший. Не стоит мучить себя мыслями о том, «что было бы, если бы». Это бесполезно и даже вредно. Наше дело – из всего уметь извлечь урок и идти дальше: «заднее забывая, простираюсь вперед».
– Да… Скажи, Иоанн, а ведь ты давно уже догадался, что я… совершил «маневр»?
– Да, когда мы с тобой впервые увиделись после него.
Император удивленно взглянул на Грамматика.
– Так сразу? Значит, я совсем плохо владею собой.
– О, нет! Ты владеешь собой прекрасно, августейший, насколько позволяет пылкость твоего нрава. Я догадался по другой причине, – Иоанн чуть помолчал. – У твоей матери, государь, был один такой взгляд… Когда я увидел в твоих глазах то же выражение, я понял, что ты совершил свой «маневр». Ты счастлив, государь.
– Счастлив?! – император посмотрел в глаза синкеллу, пытаясь понять, насколько тот серьезно говорит. – И в чем же оно, это счастье?
Иоанн улыбнулся.
– Разве ты забыл свой любимый «Пир», августейший? Помнишь, что говорит Диотима о «вынашивании разума и прочих добродетелей»? «Кто смолоду вынашивает эти качества, храня чистоту и с наступлением возмужалости, но испытывает страстное желание родить, тот, я думаю, тоже ищет везде прекрасное, в котором он мог бы разрешиться от бремени, ибо в безобразном он ни за что не родит». Вот почему все тянутся к красивым – потому что и прекрасное тело несет в себе отпечаток начальной Красоты. Как и Плотин говорит: «Красота тел возникает благодаря общности с исходящим от богов логосом». И по той же самой причине, что эта красота доступнее всего для постижения, ее голос лучше всего слышен, потому и голос плоти в нас так громок и иной раз заглушает все другие голоса. Но «беременный» у Платона, хотя и «радуется прекрасному телу больше, чем безобразному», всё же, как разумный, не останавливается на этом: «особенно он рад, если такое тело встретится ему в сочетании с прекрасной, благородной и даровитой душой: для такого человека он сразу находит слова о добродетели, о том, каким должен быть и чему должен посвятить себя достойный муж, и принимается за его воспитание».
– Да! И я об этом теперь всё время думаю! Когда я увидел ее скрипторий, библиотеку, келью, а потом и ее саму, я понял, что созвучие наших душ таково, что больше, кажется, невозможно вообразить! Ведь в этом настоящее счастье, и мы его ощутили! Но что потом? Я всё равно от души вернулся к телу! А теперь… Что толку говорить о «воспитании», о дружбе, если общения нет и уже не будет – мы слишком искусили друг друга, чтобы к этому возвращаться! Теперь, как она сказала, «до встречи на небесах»… А будет ли она, эта встреча?! Вера-то у нас разная, как она заметила… И чья правильнее – вот ведь еще вопрос! Что, по-твоему, означало это… то, что я ощутил от иконы?.. Узнай об этом Кассия, она бы, пожалуй, сказала, что это божественное вразумление, чудо…
– Но это действительно чудо, государь. Только оно еще не доказывает правильность воззрений иконопочитателей. Однажды я беседовал со студийским экономом Навкратием и охотно согласился с ним в том, что иконы могут быть полезны для напоминания о Боге и божественном. Но из этого еще не следует их святость и необходимость поклонения. Ты взглянул на икону и вспомнил о Богоматери, но ведь это еще не значит, что ощущение Ее присутствия связано с иконой напрямую, по божественному действию, как думают иконопоклонники.
– Пожалуй, ты прав… Но иной раз, признаться, я готов проклясть себя за то, что поглядел на эту икону!
– Это понятно, но неразумно. На самом деле, государь, хорошо, что вышло именно так – хорошо не только потому, что вы избежали падения, но и по другой причине. Если б вы дошли до конца, тебе бы после трудно было понять то, что ты так ясно понимаешь сейчас – степень вашего внутреннего сродства и близости, несмотря на то, что вы не общались и не будете общаться друг с другом телесно и словесно. Возвращаясь к Платону, можно сказать, что это о вас говорит Диотима: «Проводя время с таким человеком, он, я думаю, соприкасается с прекрасным и родит на свет то, чем давно беремен. Всегда помня о своем друге, где бы тот ни был – далеко или близко, он сообща с ним растит свое детище, благодаря чему они гораздо ближе друг другу, чем мать и отец, и дружба между ними прочнее, потому что связывающие их дети прекраснее и бессмертнее». Ты жалеешь, что не овладел ею, государь, что не можешь с ней переписываться, встречаться? Не надо жалеть об этом. Для той любви, что связывает вас, плотское соитие было бы помехой, а словесное общение не так уж обязательно. Для тех детей, которых вы можете произвести на свет и уже производите, это не нужно. «Да и каждый, пожалуй, предпочтет иметь таких детей, а не обычных, если подумает о Гомере, Гесиоде и других прекрасных поэтах, чье потомство достойно зависти, ибо оно приносит им бессмертную славу и сохраняет память о них, потому что и само незабываемо и бессмертно». Да, на этом пути бывают трудности и скорби, но ведь даже вынашивать плотских детей нелегко, тем более нелегко вынашивать разум и добродетели и рождать таких детей, которые будут жить в веках. А у вас уже есть и еще будут дети гораздо прекраснее плотских.
– Стихира! – сказал Феофил с улыбкой.
– Да, это самый разительный пример, и думаю, он заключает в себе прямое указание именно на то, о чем я говорю. Но и всё, чем вы оба занимаетесь, всё, что у вас при этом получается – разве было бы таким и делалось бы так, как делается, если б вы не были знакомы? Помнишь, государь, ты сказал мне, что хотел бы иметь такую выдержку, как я? А разве ты смог бы ей научиться, если бы твоя жизнь была преисполнена тем «простым» счастьем, за которым гоняется толпа? То же самое можно сказать и обо всем остальном. Вы с госпожой Кассией стали такими, какие вы есть, разумеется, не только благодаря этой любви, но во многом благодаря ей – назовешь ли ты ее даром «небесной Афродиты» или греховной страстью: это лишь слова, условные наименования. Суть не в них, а в том, как каждый из вас живет, как действует, что приобретает, понимает, постигает, создает. Вспомни Аристотеля: счастье – в деятельности согласно правильным понятиям и мудрости, а не в чувствах и ощущениях. И если посмотреть на плоды вашей деятельности, то, положа руку на сердце, можно ли проклинать тот день, когда вы встретились, августейший?
– Ты прав, философ, – император улыбнулся. – Но должен признаться, я не ожидал, что исповедь выльется в урок философии… Хотя разве у тебя может быть иначе! Итак, судьба послала «платонику» самую высшую степень земной любви из всех описанных у Платона?
Феофил ощущал в душе непривычную легкость – он даже почти забыл, что такое бывает.
– Да, государь. Это высшее из всего, что бывает человеческого. Выше этого – только божественное.
…В конце февраля в Константинополь прибыл персидский военачальник по имени Насир, перебежавший от арабов вместе со своими воинами, и попросил императора принять их на службу: дела восставших персов в последнее время шли неудачно, войска халифа нанесли им несколько поражений, и становилось ясно, что на дальнейший успех рассчитывать не приходится. Вместе с Насиром прибыли в Империю около двух тысяч отборных персидских воинов. Императора это событие в целом обрадовало, и из персов были созданы несколько отдельных турм. Правда, кое-кто из синклитиков был недоволен тем, что в ромейских войсках будут служить «неверные», но Феофил насмешливо сказал:
– Насколько можно судить из истории, военные победы очень часто бывают вовсе не следствием верности истинному Богу, а плодом военного искусства. Не то бы ромейская держава уже давно должна была бы распространиться до пределов вселенной, но этого что-то не наблюдается и не наблюдалось даже при государях праведной и святой жизни. Персидский владыка Кир некогда весьма разумно сказал: «Не старайтесь пополнить отряды только лишь согражданами. Так же, как вы отбираете лошадей, стараясь отыскать для себя самых лучших, а не тех, которые выросли у вас на родине, подобным же образом подбирайте себе и людей из разных стран, лишь бы они укрепили ваши ряды и принесли вам славу и честь». К тому же весьма вероятно, что перебежавшие к нам персы со временем обратятся ко Христу, как это случилось, например, со многими болгарами. Надеюсь, никто из присутствующих не считает, что стать верным христианином можно только будучи рожденным в православном государстве?
– Думаю, ты совершенно прав, державнейший, – сказал эпарх. – Лично меня заботит другое: эти персы, насколько можно судить, бросили свои семьи, у кого они были, на произвол судьбы и не собираются с ними соединяться. Но вряд ли все они, поселившись у нас, предпочтут вести… э… аскетический образ жизни…
– Так что же? – улыбнулся император. – Они вполне могут подыскать себе жен здесь, если захотят.
– Боюсь, мало кто согласится отдать своих дочерей за язычников, государь. Разве что эти персы примут нашу веру… Да и то…
– Да, некоторые из наших граждан весьма гордятся своим высоким происхождением и христианским благочестием, – усмехнулся Феофил. – А тут какие-то иноземцы, да еще неверные! Но ведь смирение – это одна из главных добродетелей, не так ли?
Он обвел взглядом синклитиков. Все молчали: на подобное утверждение возразить было нечего.
– Итак, все с этим согласны, – сказал император. – И я полагаю, что нашим подданным следует проявить толику смирения перед Господним промыслом: ведь не просто так Бог направил в нашу державу этих персов, особенно если мы вспомним апостольское: «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?» Жена по самой своей близости к мужу имеет на него большое влияние, как всем известно, а потому, в случае его неправомыслия, удобнее всего может обратить его к истинной вере, если не убеждением, то собственным примером. Значит, если наши новые подданные изберут себе жен среди ромеек, они будут иметь все возможности к обращению в христианство. Конечно, обручать с персами юных девиц, еще неопытных в жизни, не стоит, но в нашей державе предостаточно молодых вдовиц – вот они вполне могли бы стать для наших новых подданных подругами жизни и содействовать их дальнейшему обращению ко Христу.
Новый указ императора о том, что молодые вдовы из благородных семейств, в случае, если кто-либо из прибывших в Империю иноземцев захочет жениться на ком-то из них, не должны отказываться от подобного брака, наделал некоторого шума. Одни из придворных возмущались тем, что знатные женщины должны будут сочетаться браком с простыми воинами, другие – тем, что христианки будут выходить замуж за язычников. Впрочем, открыто выражать возмущение почти никто не осмелился, большинство благоразумно помалкивало: император был настолько любим как народом, так и войском, что поднять против него какое-либо заметное возмущение было невозможно. Феофил, получая сведения о том, что говорят о нем при дворе, только усмехался. Усердие, с каким придворные выполнили его «шутовской» указ о стрижке волос и бород, действительно изданный на другой день после примирения с Феодорой, показало василевсу, что «опыты» можно при желании продолжать, и теперь настала очередь следующего. Иногда император почти физически ощущал собственную власть над людьми, как некие незримые волны, которые он мог поднимать или удерживать по своему желанию. В чем-то это было сродни сладострастью и напоминало ощущение, испытанное Феофилом, когда Евфимия упала перед ним на колени в спальне… Он сознавал, что если бы дал себя увлечь этому сладострастью власти, из него мог бы выйти настоящий тиран, но император умел сдерживаться и ограничиваться «легкой любовной игрой», как он выражался про себя. Именно к игре относился приказ о стрижке волос; но указ о выдаче знатных вдов за персов имел более серьезную цель – сломить в некоторых кругах аристократическую спесь, давно раздражавшую императора. «К тому же, как знать, не будут ли эти вдовицы потом еще и благодарны, – думал он чуть насмешливо, – ведь эти персы недурны собой, и уж, по крайней мере, весьма мужественны во всех смыслах слова!»
Многие из прибывших в столицу персов действительно были хороши собой, и едва ли не более всех сам Насир – двадцатипятилетний высокий красавец, великолепно сложенный, с черными, как смоль, волосами, густыми бровями, прямым носом и пронзительным взглядом карих глаз, которые так и горели на его смуглом лице. Он к тому же выразил желание изучать эллинские науки, и император отдал его в обучение синкеллу. Перс оказался на удивление способным учеником и к концу Великого поста уже вполне сносно изъяснялся по-гречески. В начале апреля, сразу после Пасхи, во время праздничных представлений на Ипподроме, персы явили себя во всей красе: показали свои таланты в верховой езде, стрельбе из лука, метании копий и дротиков и в сражении на мечах.
Мария и Елена со своими прислужницами наблюдали за скачками и представлениями с верхнего этажа Кафизмы. В обеденный перерыв император поднялся к ним.
– Как вам персы? – спросил он с улыбкой.
– О, они чудесные! – воскликнула Мария. – Никогда бы не подумала, что в воинском облачении можно выделывать такие вещи на лошадях! Не хуже каких-нибудь акробатов… Ведь это, наверное, и в бою может пригодиться?
– Конечно, – император взглянул на сестру. – А ты что молчишь? Тебе персы не понравились?
Елена зарумянилась и тихо ответила:
– Понравились, очень! Только вот… жаль, что они не христиане…
– Думаю, это поправимо! – улыбнулся император. – Просто еще прошло мало времени. А вот пройдет хотя бы год… Ведь Насир уже научился говорить по-гречески, ему очень нравится наш язык. Еще немного, и Иоанн начнет с ним читать что-нибудь из отцов – глядишь, он и обратится! Кстати, понравился тебе Насир?
– О, он мне больше всех понравился! – ответила Елена и смущенно умолкла.
– Она с него глаз не сводила! – улыбнулась Мария.
– Вот как? – Феофил взглянул на сестру. – Думаю, ему будет приятно об этом узнать!
– Ты что, хочешь сказать ему? – испуганно воскликнула девушка.
– Да нет, шучу, конечно.
Елена вздохнула, и император вдруг задался вопросом, не было ли в ее вздохе столько же облегчения, сколько и сожаления. Он бросил на сестру внимательный взгляд. Как-то незаметно для него она выросла: он привык видеть в ней ребенка, а ведь ей в этом году будет уже семнадцать, совсем невеста!.. Елена была похожа на мать – такая же стройная, изящная, черноволосая, но глаза у нее были неожиданного светло-голубого цвета, словно два прозрачных топаза в обрамлении пушистых черных ресниц. Да, пора задуматься о ее замужестве…
Спустя несколько дней Феофил познакомил сестру и старшую дочь с Насиром. Мария тут же принялась восхвалять персов, их мужество, мастерство в верховой езде и стрельбе. Она говорила быстро, и Насир не всё понимал, но кивал и вежливо благодарил, прижимая руку к груди. Потом Мария стала расспрашивать о персидских обычаях и жизни, Насир отвечал медленно, но в целом на довольно грамотном языке, время от времени взглядывая на Елену. Та только спросила, как зовут его коня, похвалила выступление персов на Ипподроме и успехи Насира в эллинском наречии, а так всё молчала, почти не отрывая от перса топазового взгляда. Феофил украдкой наблюдал за обоими. «Может, хотя бы сестра будет счастлива “по-человечески”! – думалось ему. – Если она захочет, я уж точно не буду препятствовать такому выбору! Но посмотрим…»
15. Августейшие
Великий человек смотрел в окно, а для нее весь мир кончался краем его широкой греческой туники, обильем складок походившей на остановившееся море…
(Иосиф Бродский)
Обретя душевное равновесие, Феофил с головой окунулся в разнообразную деятельность по благоустройству Города и дворца. Прежде всего он занялся обновлением морских стен Константинополя, сильно обветшавших на некоторых участках, особенно вдоль Пропонтиды. Часть стен и башен император велел разобрать до основания и воздвигнуть заново. Новые постройки украшались памятными надписями: «Тебя, Христе, имея Стену нерушимую, владыка Феофил, благочестивый самодержец, воздвиг эту стену на новом основании, ее же сохраняй силою Твоею, Владыка всех, и покажи ее до скончания веков непоколебимой, неразрушимой»; «Башня Феофила, верного во Христе императора-самодержца», и подобными, а также крестами с монограммой «Иисус Христос побеждает».
В приемном зале Магнавры император приказал сделать роскошный трон, который мог подниматься и опускаться с помощью потайного механизма и был украшен грифонами, львами и другими зверями, но не просто литыми и позолоченными, а механическими: при нажатии тайного рычага они начинали двигаться – грифоны пели, львы рычали, а другие звери поднимались на ноги. Тут же у трона был поставлен золотой платан с поющими механическими птицами на ветках. Все эти «чудеса» создали золотых дел мастера во главе с родственником патриарха, при участии Льва: Философ помог с расчетами и чертежами, за что получил новое прозвище – Математик.
Но самые грандиозные планы касались новых дворцовых построек. «Уж рождать бессмертных детей, так рождать! – думал император. – Если и не выстоят до конца веков, то, по крайней мере, память по себе оставят!» Он приказал разломать портики, соединявшие северную часть дворца с южной, и начать здесь строительство большого купольного зала с тремя апсидами, а перед ним другого, полукруглой формы, получившего название Сигмы. Между Сигмой и дворцом Кафизмы предполагалось сделать открытый двор для приемов чинов в теплое время. Одновременно были с размахом начаты работы по разбивке новых террас и садов, начиная от места, где находилась цистерна, в которой утонул маленький Константин. Император сразу после гибели сына приказал ее разрушить и устроить там террасу с фонтаном и бронзовой статуей сына, а вокруг посадить розовые кусты. Отсюда открывался прекрасный вид на море, и теперь Феофил решил продлить террасы дальше, уступами, и чуть ниже соорудить несколько дворцов. Первый из них был закончен раньше всех предпринятых василевсом построек и получил название Камил. Его позолоченную крышу поддерживали шесть зеленых колонн из фессалийского мрамора, мраморными плитами того же цвета были выложены стены по низу, верхнюю часть стен и потолок украшали золотые мозаики, изображавшие земледельцев, занятых сбором урожая, а пол покрыли белым мрамором. К залу была пристроена церковь с двумя приделами – в честь Богоматери и архангела Михаила. Великолепная отделка этого небольшого сооружения сама по себе говорила о масштабе строительных замыслов василевса. Пока шло возведение Триконха и Сигмы, Феофил с архитекторами и Математиком уже чертили планы других зданий, а суда отправлялись в разные концы Империи за лучшими строительными материалами…
Император словно преобразился: не было и помина о прежних внезапных приступах раздражения и мрачности, Феофил был весел, и даже походка его стала более стремительной, летящей. Патриарх, которому василевс, придя на обычную исповедь перед Пасхой, сообщил, что так долго не приходил потому, что по некоторым соображениям исповедался у синкелла, после сказал Иоанну:
– Ты, отче, и впрямь колдун! Что ты сделал с государем? Просто душа радуется, как поглядишь на него!
– Я всего лишь дал ему небольшой урок по приложению философии к жизни, – улыбнулся игумен.
– Вот бы еще августе дать такой урок, – задумчиво проговорил Антоний.
Императрица, действительно, была весьма далека от философского взгляда на жизнь.
За несколько дней до Пятидесятницы София спросила у своей царственной сестры, когда они прогуливались по парку с маленькой Феклой:
– Послушай, Феодора, скажи мне, что всё-таки тут случилось с Евфимией, пока она служила у тебя?
– Случилось? – императрице хорошо удалось изобразить недоумение. – Я же сказала: она не сошлась кое с кем из кувикуларий. Почему ты опять спрашиваешь?
– Видишь ли, ее мать считает, что на нее тут навели порчу.
– Порчу?! – Феодора рассмеялась, подумав про себя: «Ну да, лишили девства! Разве что в этом смысле…»
– Знаешь, тут не до смеха… Там у них все плачут! Она уже двум женихам отказала, третий сам сбежал, а теперь она заявила, что хочет идти в монастырь!
София рассказала сестре, что Евфимия, воротясь домой, зажила по-прежнему, но, поскольку ее придворная карьера не состоялась, родители решили поскорее выдать ее замуж. Девушка была не против, два возможных жениха уже были на примете, но, познакомившись с одним, Евфимия заявила, что он «просто как рыба» и выходить за такого она не хочет. Однако другой на рыбу вовсе не походил, напротив, был уверен в себе, даже напорист; Евфимии он как будто бы приглянулся – по крайней мере, она в ответ на вопрос, нравится ли ей этот молодой человек, сказала, что очень, – и уже был назначен день помолвки. Накануне обручения будущий жених около полудня приходил в гости, и в тот же вечер Евфимия вдруг заявила, что ни за что не выйдет за него. Родители были в гневе, почти всю ночь продолжались увещания, но девушка осталась непреклонной и даже дошла до такой дерзости, что на упреки матери в «неблагодарности» заявила:
– Лучше вы сами благодарите меня за то, что я не отказалась от свадьбы после помолвки, а то бы вам еще пришлось платить за расторжение!
После этого отец пришел в бешенство и сказал, что «не намерен более терпеть капризы строптивой девки» и выдаст дочь замуж уже без всякого ее согласия, за того, кого сочтет нужным, пригрозив в противном случае родительским проклятием. Действительно, вскоре он нашел жениха по своему вкусу: старше Евфимии на двенадцать лет, состоятельного, благочестивого, со спокойным характером – словом, что называется, солидного. Девушка, познакомившись с ним, вела себя вполне пристойно и вежливо, с родителями держала себя тише воды, ниже травы, но стоило им оставить ее с будущим женихом ненадолго наедине, как его словно ветром сдуло, причем он, красный от негодования, заявил родителям невесты, что «никак такого не ожидал», и что «пусть Господь будет милостив» к их дочери… Отец едва не высек Евфимию, ее спасло только заступничество матери. Когда через два дня страсти улеглись, девушка пришла к родителям, упала на колени и попросила отпустить ее в монастырь, сказав, что она не сможет быть счастлива в браке, и умоляя «не мучить» ее больше. Ее расспрашивали, что случилось, уговаривали, угрожали, кричали – напрасно: она была непреклонна и сказала, что если ее всё-таки с кем-нибудь обручат, она попросту сбежит из дома. В конце концов отец махнул на всё рукой, но мать до сих пор не смирилась и хочет сводить дочь к какому-нибудь святому старцу, чтобы тот «снял с нее порчу»…
– Ну, тут разве что Иоанн мог навести порчу, – усмехнулась Феодора, – ведь говорят, он это может!
– Ты шутишь? – возмущенно глянула на нее София. – Это всякие дураки болтают!
– Не более дураки, чем мамаша этой бедной девочки!
Спустя три недели София сообщила сестре, что Евфимия с матерью действительно ездили в Атрою к отшельнику Петру и тот, поговорив с девушкой наедине, сказал ее матери, что никакой порчи на Евфимии нет и ее следует немедленно отпустить в монастырь, поскольку такова воля Божия. Родители поплакали, но, наконец, смирились и теперь гадали, в какой монастырь ее лучше отдать: они очень боялись, что дочь, девушка нежная и слабосильная, не сможет исполнять в обители тяжелые послушания, обычные для новоначальных.
– О, я знаю один хороший монастырь! – воскликнула императрица. – Евфимии там самое место: будет книжки почитывать, петь, рукописи переписывать, а то и стихи сочинять, работать в поте лица где-нибудь на поле или в винограднике не придется!
– Что же это за монастырь?
– Богородичный, на берегу Ликоса, рядом с Диевой обителью.
Когда сестра ушла, сказав, что передаст совет императрицы родителям Евфимии, Феодора злорадно усмехнулась.
Несмотря на несколько недель неистово-страстной ночной жизни, последовавших за примирением с мужем, августа сознавала, что этот бурный всплеск уже из-за своей силы обречен быть кратким и, возможно, ничего подобного в будущем больше не случится. Феофил, видимо, уже никогда не полюбит ее даже немного, оставалось только смириться с этим… Но смириться она не могла. «Сколь ни говори “мёд”, во рту сладко не будет, и вкуса его не узнаешь, пока не попробуешь, равно как и вкуса полыни», – эти слова духовника ее юности вдруг вспомнились Феодоре весенним утром в середине поста, когда она, лежа под шерстяным одеялом, думала, что, окажись рядом муж, ей было бы гораздо уютнее во всех смыслах. Но он приходил только ради утоления плотской страсти, а сейчас она ждала ребенка и в тоске размышляла о том, как часто после его рождения, особенно если родится сын, она будет встречаться с Феофилом по ночам. А ведь это была чуть ли не единственная нить, которая их теперь связывала!.. Феофил по-прежнему нередко заходил к ней после выездов в Город, играл с Феклой, читал жене вслух исторические книги, рассказывал о своих строительных планах, иногда сам водил ее по стройкам и показывал, что уже сделано, но в его взгляде, во всем облике, в манерах появилось нечто новое, неуловимое, и оно тревожило Феодору. Даже если он общался с ней не из одного только желания хоть как-то исполнять роль хорошего мужа, это не означало, что здесь замешана любовь, хотя бы в ничтожной степени, а потому он не нуждался в этом общении так, как она, мог прекратить его, в сущности, в любой момент, и это не доставило бы ему страданий – в отличие от нее. Она часто замечала, что муж, разговаривая с ней, смотрит куда-то вдаль – словно сквозь те предметы, на которых покоился его взгляд. Что он видел мысленным взором? Кассию? Этот ответ напрашивался сам собой, но даже императрица, при всей мучившей ее ревности, видела, что такой ответ был бы ошибочным. Пожалуй, это был взгляд словно с высоты на незримый для других вид, взгляд, достигавший горизонта и уходивший за него… Возможно, разнообразные дела, в последнее время увлекавшие Феофила, пригасили в нем пламень страсти к Кассии, но это означало, что он будет меньше нуждаться и в Феодоре – ведь его страсть к ней была только страстью тела…
Что же? Чем была ее любовь к Феофилу? Приходилось признать, что она больше походила на полынь, чем на мёд…
И теперь, после разговора с Софией, императрица снова вспоминала посещение Кассиной обители и разговор с игуменьей. После «выяснения отношений» с ней Феодора пошла взглянуть на монастырский храм, скрипторий и библиотеку, столкнулась с Анной и разговорилась: бывшая ипатисса рассказала августе о порядках в монастыре, о том, чем занимаются и как живут сестры. «Наверняка они при поступлении открывают игуменье свою жизнь до монашества, – думала Феодора. – Или, по крайней мере, дойдет дело до откровения помыслов, так всплывет! Вот и пусть пожнет… дело рук своих! Пусть насладится плодом своего благочестия!.. Если б не она! О, Господи, если б не она!..»
Однажды на исповеди императрица пожаловалась патриарху, что на нее часто нападает скука: Феофил так увлечен своими «великими стройками», что стал проводить с ней меньше времени, а для нее общение с братьями, сестрами или кувикулариями не может заменить общения с мужем… Антоний сказал, что это понятно, но поправимо, и посоветовал августе «тоже чем-нибудь заняться», ведь у нее для этого есть все возможности. Размышляя над советом патриарха, Феодора с тоской думала, что, разумеется, она могла бы предпринять постройку, например, какого-нибудь храма или сиротского приюта, но… ей это было неинтересно! В сущности, ее вообще мало что интересовало, кроме семейной жизни – мужа и детей. Даже чтение книг увлекало ее больше всего тогда, когда можно было обсудить прочитанное с Феофилом, а особенно – если он сам что-нибудь читал ей. Она тосковала не потому, что ей было нечем заняться или ее занятия были скучны – она могла часами просиживать, например, за вышивкой, и это ей не надоедало, – а потому, что в ее жизни мало присутствовал муж! Однако ей не хотелось говорить об этом с патриархом, потому что такой разговор повлек бы за собой слишком многое и слишком болезненное… Но может быть, всё же попробовать отвлечься, чем-то заняться? Но чем?..
Как-то раз, стоя на террасе Вуколеона и наблюдая за судами, лениво проплывавшими из Босфора мимо дворца к Феодосиеву порту, императрица вдруг подумала, что, должно быть, это интересно – снарядить судно, отправить его куда-нибудь в Трапезунд или Херсон, чтобы приобрести на тамошних рынках что-нибудь ценное, доставить сюда, продать… А вырученные деньги можно было бы раздать бедным… Мысль показалась Феодоре занятной и она обсудила ее с препозитом. Тот всячески одобрил «благочестивое начинание» и тут же получил задание заняться приобретением и оснащением судна, набором команды и всем необходимым для отправки судна по торговым делам. Несколько дней императрица увлеченно обсуждала со служащими из Казначейства и с кувикулариями, какие товары лучше закупить, потом ездила смотреть на купленное судно, лично побеседовала с набранной командой и одарила всех золотыми и серебряными монетами, а после отплытия судна ждала его возвращения с нетерпением.
Оно вернулось в августе, везя из Фессалоник вино, оливковое масло, пшеницу, мёд и пряности. Император как раз отдыхал на одной из недавно разбитых террас, когда судно огибало мыс, плывя под всеми парусами. Его величина несколько удивила Феофила, так же как то, что оно плыло гораздо ближе к дворцовому мысу, чем это позволялось обычным судам, и василевс тут же призвал препозита и поинтересовался, чье это судно и что везет – судя по осадке, нагружено оно было сильно. Препозит замялся и ответил, что оно принадлежит августе и возвращается из Фессалоник, куда было отправлено по торговым делам. Император только хмыкнул и ничего не сказал. Однако в пятницу, совершая обычный выезд во Влахерны, он вместе со всей свитой завернул в сторону Неория. С утра ему доложили, что судно императрицы всё еще стоит там на якоре, и вот, придя на пристань, император обратился к сопровождавшим и спросил:
– Скажите мне, господа, кто из вас имеет нужду в хлебе, вине или еще каком-нибудь продовольствии?
Синклитики недоуменно переглядывались, а когда Феофил повторил вопрос, проэдр ответил за всех:
– Живя под твоей счастливой державой, благочестивейший государь, мы, слава Богу, ни в чем не нуждаемся!
– Мы даже не понимаем, из-за чего у тебя, августейший, мог возникнуть подобный вопрос! – добавил логофет дрома.
– Не понимаете? – переспросил император и усмехнулся. – Разве вам не известно, что моя супруга превратила меня, самодержца Божией милостью, в судовладельца? Посмотрите – вот ее судно, которое привезло сюда на продажу всякие съестные припасы. А кто когда-нибудь видел, чтобы ромейский император или его супруга были купцами?!
Никто ничего не мог ответить на это, и василевс тут же приказал спустить с судна всех людей, а само его предать огню вместе с грузом. Вернувшись из Влахерн во дворец, он сразу отправился к жене. Увидев его, Феодора тут же сделала няньке знак выйти и, когда дверь за ней затворилась, возмущенно воскликнула:
– Послушай, это уже слишком! Зачем ты это сделал?!
– Это как раз я должен у тебя спросить, зачем ты это сделала! – сурово ответил император. – Помнится, ты оскорбилась, когда я сравнил тебя с базарной торговкой, но теперь сама же подтверждаешь это!
Феодора сникла, опустила взгляд, и на мгновение узоры на мозаичном полу слились перед ее глазами, но она быстро взяла себя в руки и проглотила слезы.
– Феофил, – проговорила она, не глядя на мужа, – мне тоже надо чем-то отвлекаться… от мыслей! Ты вот строишь, украшаешь дворец, у тебя еще всякие дела… А чем заняться мне?! Мне, между прочим, патриарх посоветовал… как-нибудь развлечься! А не то, знаешь, я с ума сойду от такой жизни! – она закусила губу, силясь не расплакаться.
– Патриарх дал тебе неплохой совет, – сказал Феофил уже более мягко, – но ты нашла весьма дурной способ воплотить его в жизнь. Ты должна была бы сообразить, что не всякое занятие подходит в качестве развлечения для ромейской августы!
– Да? – Феодора взглянула на него. – А какое же подходит? В строительстве я ничего не смыслю, да ты, пожалуй, и не позволишь мне ничего строить… А то ведь я такая… могу какой-нибудь вид испортить, – в ее голосе появились нотки сарказма. – Я ведь глупая, не начитанная… Если в чем и знаю толк, так только в стихах… и в любовных забавах! Ведь ты меня тут только для них и держишь, не так ли? Так может, мне для развлечения… любовника завести, а? Такое занятие подходит для ромейской августы?!
Феофил побледнел и впился в нее глазами. Что это – просто сказанное сгоряча слово… или намек на его мать?!
– Что, – злорадно продолжала императрица, – тебе это, кажется, не понравилось бы? Почему же? Получается, тебе можно всё, а мне нет? Неужели тебя это сильно огорчило бы? Ведь ты меня всё равно не любишь, не так ли? Почему бы мне в таком случае не завести себе… какого-нибудь Евфимия? Я ведь еще недурна собой!
– Прекрати, – сказал император устало. – Я понимаю, что тебе живется невесело… Но и ты должна понимать, что нельзя требовать от человека того, чего он не может дать. Прости меня.
Тут Феодора не выдержала и разрыдалась. Феофил смотрел на нее и не знал, чем утешить. Всё, что бы он ни сказал, что бы он ни сделал, показалось бы ей или неискренним, или жестоким. К тому же он и сам до конца не мог разобраться, как на самом деле относится к жене. Любит только телом? Такой ответ напрашивался сам собой, но отражал ли он всю правду? И если не отражал, то в чем была правда?..
Императору пришла мысль, что, если бы Феодора поговорила с Иоанном, Грамматик мог бы дать ей более предметный совет, нежели просто «чем-нибудь заняться». Однако для этого требовалось не одно желание Феодоры поговорить с синкеллом, но еще и готовность открыться, а насчет последнего у Феофила были большие сомнения – ведь, насколько он мог судить, императрица не питала к игумену ни особенных симпатий, ни особенного доверия…
Вдруг Феодора перестала плакать, вытерла глаза и посмотрела на мужа.
– Уходи! – сказала она. – А не то… я тебя ударю… или еще что-нибудь сделаю! Прощения просишь? А зачем тебе мое прощение? Для успокоения души? Прощу я тебя или нет, ты всё равно будешь поступать так, как сочтешь нужным, не оглядываясь на меня! Ты всегда так делал, ты никогда меня не жалел, а если и берег, то… только чтобы мною пользоваться… как подстилкой! Убирайся! Не будет тебе никакого прощения! – губы ее затряслись, она повернулась, убежала в спальню и хлопнула дверью.
Феофил тяжело вздохнул, подошел к Фекле, которая уже давно, побросав игрушки, с недоумением таращилась на родителей большими темными глазами, приласкал ее, поцеловал и вышел из покоев, сказав ожидавшей снаружи няньке, чтобы она шла смотреть за девочкой. Хотя уже в воскресенье Феодора вела себя с мужем так, словно ничего не случилось, но за ее словами, улыбками, жестами император ощущал глубоко затаившуюся обиду, если не враждебность. Это немного беспокоило его, но он надеялся, что всё пройдет после рождения ребенка, ожидавшегося в середине осени, предполагая, что и самая вспышка гнева и обиды у Феодоры была так сильна именно из-за ее нынешнего положения, старался быть с женой как можно более мягким, советовался с ней насчет внутреннего убранства Триконха и Сигмы и оформления двора при них.
Постройки удались на славу: украшенные разноцветными мраморами и драгоценными мозаиками, высокие и светлые, они могли поспорить по красоте с лучшими зданиями Священного дворца. Западные двери Триконха – центральная из серебра, а боковые из полированной меди, вели в Сигму, чью крышу поддерживали пятнадцать массивных колонн из докиминского мрамора, белого с фиолетовыми прожилками. Эта колоннада соединялась с Тетрасером, тоже трехапсидным зданием, к которому с северной стороны примыкала постройка, составлявшая предмет гордости Математика. Лев пообещал императору изготовить «нечто таинственное», и ему это удалось: здание было построено таким образом, что, когда кто-нибудь, стоя в одной конхе, что-нибудь очень тихо произносил, стоящий в противоположной конхе, приложив ухо к стене, мог услышать эти слова. Все изумлялись и наперебой расспрашивали Философа, как устроено это «чудо», но Лев только загадочно улыбался и говорил, что «тайна на то и тайна, чтобы ее не выдавать». Здание получило название Таинственный триконх, и на другой день после его торжественного открытия и показа «чуда» перед синклитиками, которые, точно дети, долго забавлялись, проверяя действие «говорящих стен», император пришел туда с женой, объяснил ей, что тут происходит, и они разошлись в противоположные конхи.
– Ты на меня сердишься? – шепнул Феофил, увидев, что Феодора приложила ухо к стене, и сам, в свою очередь сделал то же самое.
– Немного, – ответила она. – Ты сжег мое судно!
– Так было нужно.
– Чтобы показать, что ты не только самодержец, но и самодур?
– Я объяснил тебе, почему. Не сердись!
– О, не беспокойся, я пока еще не собираюсь заводить любовника!
Он обернулся: жена смотрела на него и улыбалась, но что пряталось за этой улыбкой – гнев, обида, просто шутка, хоть и ядовитая?.. «Она сейчас просто раздражительна, – подумал он. – Пройдет после родов!»
В октябре, вместо ожидавшегося императором сына, Феодора опять родила дочь. Девочку назвали Анной; в крестные отцы, по уже сложившейся традиции, пригласили Сергие-Вакхова игумена. Императрица предалась возне с младенцем и, кажется, перестала сердиться на мужа – по крайней мере, внешне это никак не выражалось. Феофил был раздосадован, ведь он надеялся на появление сына, что позволило бы выполнить назначенную самому себе епитимию: помимо поклонов и чтения Псалтири по ночам, император собирался, по меньшей мере, на два года воздержаться от супружеской жизни. От причастия он не был отлучен, но знал, что для покаявшихся прелюбодеев срок отлучения составляет по канонам семь лет, и собирался взамен ограничить свое «неистовое сладострастие» хотя бы на время. Правда, его смущала мысль, что подобное воздержание будет не по нраву Феодоре, но он всё же надеялся так или иначе настоять на своем. Однако теперь получалось, что для этой части епитимии пора еще не пришла, раз наследника престола до сих пор не было. Тем не менее, Феофил решил прожить в воздержании по меньшей мере до Пятидесятницы, а заодно посмотреть, насколько такое наказание будет для него тяжело: «Посмотрю, смогу ли я быть монахом!» – думал он с усмешкой.
В конце октября к императору явился Насир и сказал, что хочет принять христианство. Феофил был очень рад, но вместе с тем подозревал, что причиной этому была любовь перса не только ко Христу. Сестра василевса, под предлогом лучшего и скорейшего обучения предводителя персов эллинскому наречию, с июня стала раз или два в неделю встречаться с Насиром: они гуляли по паркам, и Елена рассказывала персу о прочитанных ею книгах, особенно исторических, а также о всяких растениях и птицах – то, что уже сама успела узнать из уроков с Иоанном. Они всегда брали с собой одну из кувикуларий и Марию, но прогулки эти нередко приводили к тому, что девочка оставляла свою юную тетю вместе с персом где-нибудь на скамейке и исчезала, утаскивая с собой кувикуларию. Вечером того же дня, когда Насир выразил желание креститься, Мария, когда отец зашел на женскую половину дворцовых покоев, отозвала его в сторону и сказала шепотом, скороговоркой:
– Папа! Мне надо тебе что-то сказать! Вчера я видела… Мы гуляли, то есть я, Елена и Насир, и я увела Манефу… Я этих кувикуларий увожу, а то Насир при них стесняется много разговаривать! Ведь это не плохо?
– Нет, – улыбнулся император.
– Ну, вот… А вчера… я решила к ним подкрасться потом сзади, незаметно, и немножко напугать, в шутку, понимаешь? – Феофил кивнул. – Они на скамейке сидели у пруда… И вот, я подкралась, а они… они целовались!
– Вот как? А ведь ябедничать нехорошо!
Мария вспыхнула и быстро проговорила:
– Я не ябедничать! Я не для этого! Просто я подумала… Ну и что, что он перс? Ведь он такой хороший! Ты… разрешишь им пожениться, правда? – она подняла глаза на отца и увидела, что он улыбается.
– Конечно, – ответил Феофил. – Насир сегодня уже сказал, что хочет креститься. Патриарх огласит его, а на Рождество можно будет и крестить. А там и до свадьбы недалеко!
– Ура! – Мария даже захлопала в ладоши. – Ты самый-самый лучший папа в мире! – она приподнялась на цыпочки и, когда Феофил наклонился к ней, чмокнула его в щеку. – И самый-самый лучший император!
…На второй день Рождественского поста после очередного занятия по философии ко Льву подошел Фотий и сказал:
– Я хочу тебя поблагодарить, господин Лев, и попрощаться.
– Попрощаться? – Лев удивленно посмотрел на юношу. – Но что случилось? Ты уезжаешь?
– Да. Государь отправляет моих родителей в ссылку, и они не хотят, чтобы мы с братьями оставались тут. Хотя дядя Сергий предлагал оставить всех нас здесь, но… отец сердит и разгневан, сказал: «Нечего вам тут делать, в этом еретическом гнезде!»
– Гм!.. Так ведь это «гнездо» тут не вчера возникло… Впрочем, понятно… Жаль! Ты был моим лучшим учеником! Но почему государь так разгневался?
Молодой человек вздохнул.
– Отец был неосторожен! Он уже второй год пишет историю царствования государева отца, я видел отрывки, там много порицаний, особенно из-за иконоборчества, и насмешек. И вот, он дал почитать выдержки одному другу, а тот и донес императору. Четыре дня назад у нас устроили обыск, сочинение отцовское изъяли, а вчера государь приказал родителям отправляться в Кизик.
Недописанная история царствования императора Михаила, доведенная до восьмого года его правления, действительно весьма разгневала Феофила. Она была написана хорошим языком, ясным и простым, и подробно описывала события – воцарение Михаила и всё, связанное с мятежом Фомы и с сицилийскими делами, но в то же время в ней резко порицалось иконоборчество покойного императора: он сравнивался с «беззаконным и непотребным Навозоименным Константином», причем история делала отступление к царствованию этого последнего, а потом снова возвращалась к Михаилу и насмешливо говорила о его малограмотности и нетвердости в христианской вере, местами напоминая по стилю поношение. Автор утверждал, что Михаил, будучи христианином, не оставлял и разных иудейских верований, которым обучился в юности, презирал словесные науки, поскольку они «могли его отвратить от еретической веры», «одобрял блуд», говорил, будто дьявола не существует, и был настолько безграмотен, что даже с трудом мог «разобрать буквы собственного имени»…
– Господин Сергий, – сказал император, вызвав к себе патрикия, чтобы объявить ему приговор о ссылке, – признаюсь честно, в последнее время, наблюдая за вашей братией, я весьма дивлюсь тому, какими способами вы пытаетесь утвердить свою «истинную веру». Ваши покойные предшественники еще действовали как люди умные: писали вероучительные сочинения, разъясняли народу, почему их взгляды следует считать истинными, а наши – ложными. Вы же довольствуетесь сомнительными пророчествами, а то и вовсе клеветой, как ты, например. Моего отца ты обвинил в ненависти к эллинским и божественным наукам… Любопытно, в чем бы ты обвинил меня, если б довел свое сочинения до моего царствования? Вероятно, в излишней любви к эллинской образованности? Ведь кое-кто из твоих друзей, как я знаю, считает меня «язычниколюбивым более, чем боголюбивым», не так ли? Но, пожалуй, глядя на «боголюбие» подобных тебе, действительно не захочется ему подражать – ты об этом никогда не задумывался, господин патрикий? Но ничего, это дело поправимое: в Кизике у тебя будет время подумать об этом!
Лев видел, что у Фотия случившееся с отцом, быть может, впервые в жизни поколебало ту ясность понятий, с какой он до сих пор жил: молодому человеку, совершенно очевидно, не хотелось бросать учебу и покидать Город, но, однако, трудно было возразить что-нибудь на довод, что император – еретик и изгнал патрикия с его семейством за критику иконоборчества… «Пожалуй, это будет ему полезно, – подумал Философ. – Поймет на деле, что не всё в жизни так просто, как ему, быть может, представлялось до сих пор!..»
– Что ж, – сказал Математик ученику, – можно утешаться тем, что я уже научил тебя почти всему, чему мог… Правда, твои братья еще не окончили курс, – Тарасий и Сергий, два младших брата Фотия, тоже учились в школе при храме Сорока мучеников, – но ты, думаю, сможешь рассказать им о том, что изучил здесь… А сам будешь дальше читать книги и изучать новое, у тебя прекрасные способности!
– Благодарю, господин Лев! – ответил Фотий. – Ты был для нас хорошим учителем! Вот только, – он чуть помрачнел, – я не уверен, что в Кизике у нас будут все нужные книги для продолжения учебы…
– Возможно, со временем государь смягчится и позволит вам вернуться… Не печалься! Надо уповать на лучшее!
16. Игуменья и философ
(Елена Винокурова)
- А жизнь такие дарит штуки,
- Что не сфальшивив, не запеть,
- Что не найтись, не заблудившись,
- И не подняться, не упав…
Евфимия была отпущена родителями в монастырь в начале ноября, буквально облитая материнскими слезами. Девушка принесла в Кассиину обитель богатый вклад, а ее мать долго говорила с игуменьей, умоляя избавить Евфимию, насколько возможно, от тяжких телесных трудов и вообще не относиться к ней слишком строго. Она ушла совершенно успокоенная, зато Евфимия, напротив, была взбудоражена и даже испугана: только придя в обитель, она узнала, что настоятельницу зовут Кассией, а поскольку совет поступить именно в этот монастырь дала императрица, девушка заподозрила, что между игуменьей обители и тем, что произошло недавно во дворце, существует связь. «Неужели со всем этим еще не покончено?» – подумала Евфимия, и сердце ее тоскливо сжалось. Она надеялась найти в монастыре успокоение и забвение всего, что с ней случилось за последний год, а вместо этого, кажется, наткнулась прямиком на продолжение злополучной истории своего грехопадения… «Вот расплата за то, что я тогда сказала “нет”!» – думала она.
Только Атройский игумен узнал от Евфимии на исповеди, почему она отказала всем своим женихам и решила идти в монастырь. Первый из посватавшихся к ней юношей, круглолицый, светловолосый и сероглазый, действительно показался ей похожим на холодную рыбу, и ее мутило от одной мысли, что ей придется с ним жить и ложиться в одну постель, хотя поначалу она не могла себе толком объяснить, почему он произвел на нее такое впечатление, ведь мать прямо называла его «красавцем». Второй жених ей приглянулся гораздо больше – высокий, черноволосый, хорошо сложенный, с блестящими карими глазами и обворожительной улыбкой. Но его напористость сыграла с ним плохую шутку: когда накануне дня помолвки его с будущей невестой впервые ненадолго оставили вдвоем и они стояли на террасе, выходившей в сад, он, глядя на двух пестрых кошек, теревшихся друг об друга мордочками на ступенях террасы, вдруг взял Евфимию за руку. Она вздрогнула, но не отстранилась, и тогда он обнял ее и поцеловал. Поцелуй был недолог, а когда молодой человек вновь посмотрел ей в глаза, она глядела не него так странно, что он слегка испугался, отступил на шаг и сказал:
– О, прости меня! Я забылся… Ты такая красивая!
Он улыбнулся, но Евфимия продолжала смотреть на него всё так же «непонятно», и он, растерявшись, глупо спросил:
– Но, надеюсь, тебе понравилось?
– О, да! – она внезапно рассмеялась. – Конечно, понравилось!
Она сказала это почти язвительно, приведя юношу в полное недоумение, но спросить он ничего не успел, поскольку на террасу вернулись родители Евфимии.
До вечера девушка просидела у себя в комнате, обуреваемая такими мыслями и чувствами, которые привели бы в ужас ее родителей. До этого дня Евфимия пребывала в уверенности, что пережитое ею в спальне императора бывает между мужчиной и женщиной всегда, но теперь она поняла, что ошибалась. Когда будущий жених взял ее за руку, она догадалась, что он хочет сделать, и замерла в предвкушении, но… ничего не почувствовала! Нет, он не был ей противен, но она не испытала ничего сколько-нибудь подобного тому вихрю ощущений, что закружил ее после первого же поцелуя Феофила. «Если ничего такого не будет, как же я смогу с ним спать? – думала она о будущем муже. – Я не смогу, нет, лучше вовсе не выходить замуж! О, Господи, зачем только я тогда… Лучше бы мне никогда не знать, как это бывает!..»
С третьим женихом у девушки состоялся наедине очень короткий разговор.
– Господин, – сказала она, – я должна тебе сказать одну вещь, потому что обманывать тебя было бы нечестно. Я не девственница. У меня был любовник. И если я выйду за тебя замуж, а ты в постели окажешься не таким, каким был он, я буду тебе изменять, пока не найду такого же. А я думаю, ты таким не окажешься. Поэтому смотри сам, стоит ли тебе брать меня в жены.
Отец оттаскал ее за косу и даже приказал принести кнут, но мать бросилась ему в ноги с мольбами пощадить дочь, кинулась ее обнимать, уговаривала «образумиться», но Евфимия вырвалась, убежала к себе в спальню и заперлась. Почти до самого утра в доме продолжались вопли и ругань; девушка слушала этот шум, лежа на кровати лицом к стене, и тело ее сотрясалось от рыданий. Она сказала очередному несостоявшемуся жениху правду, но не всю правду – теперь она окончательно поняла это: дело было вовсе не в том, что этот солидный господин только в постели оказался бы не таким, как император…
Евфимия прожила в монастыре две недели, продолжая носить мирскую одежду и присматриваясь к здешней жизни. Ей всё тут очень понравилось – и сестры, и устав, и занятия, – а игуменья вызывала чувство, граничившее с восхищением. Но внутренняя тоска и беспокойство усиливались, и иногда она бросала на Кассию странные взгляды. Девушке неоднократно приходила в голову мысл, что лучше не поступать в эту обитель: она сознавала, что должна будет рассказать игуменье историю своего падения, и не знала, что скажет Кассия и как вообще всё это обернется… В то же время еще больший страх, почти отчаяние ей внушала мысль о том, что будет, если она сама откажется от поступления в Кассиин монастырь: ей представлялся очередной скандал с родными, новые поиски обители… К тому же она понимала, что лучшего места, чем этот монастырь, ей для себя не найти. Наконец, она решилась: «Открою ей всё! Если она скажет, чтоб я уходила, тогда уйду… А может, ничего она и не скажет! Кто знает, что там у них на самом деле было… Может, ничего страшного, и она не слишком огорчится…»
Игуменья, в свою очередь, тоже поглядывала на новопришедшую и задавалась вопросом, почему императрица прислала ее именно сюда – мать девушки рассказала Кассии об этом. Только ли из-за того, что в обители мало занимались телесным трудом? Ее подозрения еще возросли после того, как Анна однажды сказала ей:
– Послушай, а ведь эта новенькая, Евфимия, на тебя похожа!
– Что? – удивилась игуменья.
– Точно говорю! Волосы такие же, фигура, рост… И глаза, если при огне – синие-синие!
Всё объяснилось в тот день, когда девушка, наконец, сказала Кассии, что в монастыре ей понравилось и она хотела бы тут остаться.
– Только, матушка, я должна… рассказать тебе кое-что, – сказала она тихо и добавила еще тише: – Может, ты еще не захочешь меня тут оставить…
Они прошли в келью игуменьи, сели, и Евфимия сказала:
– Матушка, мне мать Арета сказала, что перед поступлением в обитель надо рассказать тебе о своей жизни.
– Да, в общем и целом, – ответила Кассия, – чтобы я имела представление о том, как жила каждая сестра до монашества, и могла лучше понять, какое именно ей нужно руководство.
– Мне рассказывать, в общем, нечего… До шестнадцати лет моя жизнь была простой: всё время дома, при маме, читать меня учили по Псалтири и житиям святых, а потом я читала святых отцов, но не очень много… больше всего Златоуста. А вообще я любила прясть и играть с котятами… В шестнадцать лет… это было как раз год назад… меня взяли во дворец, кувикуларией к августе. Потом я отказалась от замужества, тебе, наверное, мама рассказала об этом, – Кассия кивнула. – Только она не знает, почему я это сделала. Я уже всё рассказала отцу Петру, когда мы ездили к нему, но я должна сказать и тебе, потому что… ты поймешь, почему… Во дворце я согрешила. Я отдалась одному человеку. Он захотел… предложил мне, а я… не отказалась, хотя могла бы… Это было только раз, потом я сразу ушла со службы у государыни… Этот человек… Это был император.
Через неделю после того, как Евфимия была облечена в одежду послушницы, Анна, придя на обычную исповедь к игуменье последней из всех сестер и исповедавшись, сказала:
– Послушай, мать, объясни мне, Христа ради, что происходит!
Игуменья чуть вздрогнула, задула свечи, догоравшие в подсвечнике перед аналоем, и спросила:
– А разве что-то происходит?
– Ну, матушка, милая, я же вижу! Что случилось? Что всё это значит? Сначала государь, потом государыня, теперь эта девочка… Я раньше думала, что августейший сюда из-за икон приходил, а сейчас уж не знаю, что и думать! Скажи мне, ради Бога, в чем дело? Ты же извелась вся, сил уже нет смотреть на тебя!
Кассия стиснула руки под мантией и несколько мгновений стояла молча и неподвижно, точно изваяние, глядя на лежащее на аналое Евангелие в серебряном окладе, а потом тихо ответила:
– Иконы тут не при чем. Император приходил, чтобы узнать, почему на смотринах я отказала ему. А императрица – чтобы спросить, зачем приходил он, потому что она ревнует.
– Так ты ему… нарочно тогда возразила? Но зачем?!
– Я хотела стать монахиней. Я думала, он меня быстро забудет. Но он не забыл.
Анна, пораженная, не сразу смогла заговорить.
– А Евфимия? – наконец, спросила она.
– Она бывшая кувикулария августы. Императрица посоветовала ей пойти в наш монастырь. Больше ничего не могу сказать, это тайна исповеди. Но это тоже связано с той историей.
Кассия говорила очень спокойно; в часовенке теперь было почти темно – горела только лампада перед образом Спасителя, – и Анна, глядя сбоку на двоюродную сестру, не могла толком понять, что та сейчас ощущает и о чем может думать. Между тем мысль об императоре не давала ей покоя: она вспоминала, как он вел себя, когда пришел в обитель, как разговаривал с ней и с сестрами – и всё представлялось в новом свете…
– Но послушай, мать! – наконец, почти вскричала она. – Ведь ты, пожалуй, государю всю жизнь испортила!
– Я знаю, – ответила игуменья чуть слышно. – Он сам сказал мне это.
Она закусила губу, помолчала и, не выдержав, закрыла лицо руками.
– Кассия! Ты что?
– Я испортила жизнь… не только ему, – проговорила Кассия и, опустившись на скамью у стены, горько заплакала.
Анна села рядом, одной рукой обняла ее, а другой принялась гладить по голове.
– Ну, матушка, милая, ну, успокойся, что же теперь делать, если так вышло…
– Я не знаю, что делать! – всхлипывая, проговорила Кассия. – Я испортила жизнь ему, себе, его жене… и даже этой девочке!.. А всё потому, что я… такая была гордая… своим призванием… думала, что… Бог меня будет хранить… на всех путях… раз я такая… избранная… «от всего отказалась» ради Него!.. Как я была самоуверенна!.. Я тогда даже понятия не имела… о том, что значит – от всего отказаться!..
Она умолкла, не в силах больше говорить. Анна помолчала, подождав, пока игуменья хоть немного успокоится, и сказала решительно:
– Послушай, мать, так дело не пойдет! Что бы там ни было, нельзя так изводиться. Этак ты себя в могилу сведешь, а ты нам еще нужна! Да и не только нам! Но ведь ты же ездила к отцу Навкратию… Что он сказал?
– А что он скажет? – Кассия чуть отодвинулась от сестры, вытерла глаза и сложила руки на коленях. – Я ездила к нему на исповедь после того, как государь побывал здесь. Тогда отец Навкратий мне помог… Потом я была у него еще два раза… Только, знаешь, больше я к нему не поеду. Исповедаться можно и у отца Феоктиста, а что до духовных советов… То, что отец Навкратий мне может сказать, я и так уже знаю… А мне нужно другое… Вот только что другое – сама не знаю!
– Я знаю, что тебе нужно! Пойти в гости!
– В гости?
– Да! Помнишь, в Патерике есть история про отшельника: когда на него уныние нападало, он выходил из кельи и гулял вокруг нее, а потом входил и устраивал себе в утешение трапезу, как будто у него гости. Ну вот, он вокруг кельи гулял, а потом ел с воображаемыми гостями, а мы с тобой завтра пойдем гулять в Город и зайдем в гости сами!
Анна говорила таким решительным, не допускающим возражений тоном, что игуменья улыбнулась.
– И к кому же? – спросила она.
– К господину Льву! Беседа с философом – вот что тебе сейчас нужно!
Назавтра сразу после полудня – была суббота, и в этот день лекции у Льва оканчивались рано – игуменья в сопровождении сестры отправилась к Математику. Философ был и обрадован, и удивлен: Кассия с тех пор, как постриглась, встречалась с ним очень редко, а теперь вдруг пришла, причем без приглашения и без предупреждения.
– Господин Лев, я прошу прощения! – сказала Анна. – Это я привела сюда матушку, мне просто думается, что ей сейчас было бы очень полезно побеседовать с тобой. Я вас покину… Нет, матушка, и не думай возражать! – решительно воскликнула она, заметив, что Кассия хочет что-то сказать. – Сегодня ты – моя послушница! Я зайду вечером. Сейчас, правда, рано темнеет… Но ничего, надеюсь, мы всё же доберемся назад без приключений!
– Я попрошу слуг проводить вас, – сказал Лев.
Когда Анна ушла, Философ провел игуменью в гостиную, приказав слугам принести вина, оливок и рыбы, а также углей в жаровню, предложил Кассии сесть в кресло, а сам уселся в другое напротив и окинул свою гостью внимательным взглядом.
– Что-то случилось?
– Троянцы преодолели стену, дошли до самых кораблей ахейцев и бросили на них пламень.
– Но всё же врагов удалось отразить?
– Едва-едва, и последствия сокрушительны. «Ужасное, коему, мнил, никогда не свершиться»…
Слуга принес в ведре углей, вывалил их в жаровню, вынул из-за пояса мокрую тряпку, вытер пепел на полу и с поклоном вышел.
– Чем я могу помочь тебе? – спросил Математик. – «Молви, чего ты желаешь? Исполнить же сердце велит мне, Если исполнить могу я, и если оно исполнимо».
– Не знаю. Поговори со мной… Или хоть выпей со мной, – игуменья слабо улыбнулась. – Сказать честно, я бы хотела напиться.
– Это не выход.
– А где он, выход, где?! – вскричала она. – Прости!.. Помнишь, я сказала тебе: «Если бы на твоем месте был он, меня бы ничто не остановило»? – Лев кивнул. – Это правда, но в то время я еще не осознавала, насколько это правда. Это было так тогда, и оказалось, что это так… и спустя двенадцать лет! И если б он сам не остановился, я бы уже не была игуменьей, Лев. Но это еще не вся правда. Правда еще и в том, что если даже ты сделала… не всё плохое, что могла бы… не стоит обольщаться, что тебе «все-таки удалось удержаться»! То, что должно было случиться с тобой, случается с другой – из-за тебя! Потому что… не уступи ты «немножко»… – она закусила губу и помолчала. – Да, «немножко»… Ведь это же нелогично – обниматься, целоваться, а потом… не сделать всего остального! Если в конце пути пропасть и ты это знаешь, то не надо и начинать этот путь, не так ли?.. А потом… в эту пропасть… падает другая – вместо тебя!.. И тот, с кем ты туда не упала, тоже падает… А ты… остаешься стоять на краю пропасти… вся такая добродетельная… потому что «все-таки не пала»!..
Кассия прижала руку ко рту, по щекам ее текли слезы. Дверь в гостиную оставалась приоткрытой, и Математик, услышав шаги, встал, быстро подошел к двери, принял у слуги из рук поднос с вином и закусками и приказал удалиться и больше не беспокоить их.
– Закрой дверь, Лев, – тихо сказала игуменья. – Это против монашеских правил, но… мне теперь не к лицу говорить о правилах!
Философ расставил содержимое подноса на столике, но только протянул руку к кувшину с вином, как раздался стук в дверь.
Лев открыл; слуга, извинившись, что-то тихо сказал, и Математик, проговорив: «Погоди», – прикрыл дверь и повернулся к Кассии: