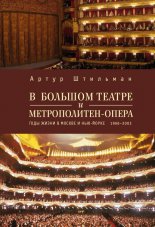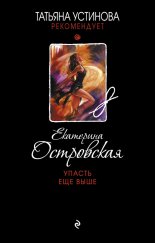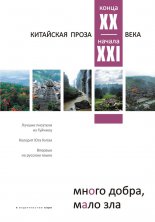Кассия Сенина Татьяна

Его камень сделал на три скачка больше, чем камень, пущенный Феодорой. Новый бросок – и вот они уже почти сравнялись. Еще бросок – и неожиданно оба камушка под конец пути столкнулись и булькнули одновременно в одной точке.
– Вместе! – вскрикнула Феодора и, улыбаясь, повернулась к Феофилу.
Он бросил оставшийся у него в руке камень в воду у берега, и шагнул к невесте. Она широко распахнула глаза и прижала одну руку к груди. «Если закрыть глаза, можно представить, что это – она…» – подумал Феофил и, обняв Феодору, поцеловал ее долго и жадно, сам удивившись, что это получилось у него так, словно он целовался далеко не впервые. Когда он отпустил девушку, она чуть покачнулась, как пьяная. Он взял со скамьи мафорий, набросил на нее и, взяв под руку, повел во дворец. Всю дорогу они молчали, полные новых ощущений. Феодора была ошеломлена. Феофил тоже испытал некоторое потрясение и, слушая внутренний голос вожделения, думал: «Вот оно, сладострастье! Название точное… И раз ступив на эту дорогу, куда придешь? – он беззвучно усмехнулся. – На дно пруда, конечно! Камушки падают в омут. Но им там сладко…»
Через день жених с невестой снова отправились на прогулку и оказались у того же пруда, но с другой стороны. Было еще светло, и на дне, выложенном голубым мрамором, хорошо были видны дорожки из камушков, будто лучи отходившие от площадки, где стояла мраморная чаша. Феофил вдруг обнял Феодору за талию, властно и даже дерзко. Она затрепетала, не смея ни воспротивиться, как это, быть может, следовало сделать благочестивой девице, ни взглянуть на него.
– Тебе понравилась игра в камушки? – спросил он.
– Я хочу еще, – сказала она чуть слышно, краснея и поворачиваясь к нему.
Второй поцелуй был еще более долгий и страстный, а когда они оторвались друг от друга, Феодора шепнула:
– Никогда не думала, что это так… чудесно…
– Это только начало, – улыбнулся Феофил. – Продолжение будет после свадьбы… там, где вместе лягут два камушка.
Феодора вспыхнула и опустила глаза. А он смотрел на нее уже без улыбки и думал, что она, бедняжка, и не подозревает, какая ирония скрыта за его последней фразой…
После этого «игра в камушки» продолжалась почти ежедневно, во время вечерних прогулок по дворцовым садам и паркам. И чем ближе был день «падения на дно пруда», тем больше росло нетерпение Феодоры. Флорина, заметив, какие взгляды дочь бросала на жениха, даже сделала ей наедине замечание, что она ведет себя нескромно. Феодора смиренно попросила прощения и с тех пор почти не смотрела на Феофила при людях, чинно устремляя глаза в пол, как подобает благовоспитанной девушке. Зато уже на другой день после разговора с матерью она, гуляя с Феофилом, вволю насмеялась над «приличиями» и нацеловалась с женихом. А Феофил, сидя рядом с невестой в беседке, увитой белыми розами, думал: «Приличия! Они говорят о приличиях!.. Нелепые люди! Ничего приличного в нашем будущем браке быть не может, уже просто по тому самому, как всё началось! Где нет единения душ, остается одна похоть… Кажется, Златоуст называл это “цепью вожделения”… Да, это то самое. И ничего больше. Ничего!»
За неделю до свадьбы Священный дворец уже буквально кишел разнообразными родственниками со стороны жениха и невесты. Императрица-мать тонула в хлопотах и приготовлениях, знакомствах и налаживании отношений с будущими сородичами – тут ей приходилось отдуваться и за мужа, который на всё махнул рукой, и за сына, который был не очень-то любезен с новой родней и вообще беспокоил Феклу ужасно. Она видела, что он расстроен, хотя тщательно старался это скрыть. Замечание же мужа, брошенное как бы вскользь через два дня после выбора невесты, поразило императрицу до болезненности:
– Эх, можно ли от баб ждать чего-нибудь хорошего! Лучше б я сам выбрал Феофилу невесту! А вы вечно насочиняете всяких… представлений, а потом выходит Бог знает, что!
Михаил вообще в последнее время удивлял свою супругу. Он не только сразу и без особого труда вошел в дела управления, что еще можно было бы объяснить его близостью к предыдущему императору и годами, проведенными при дворе, но вдруг, не оставляя прежнего своего шутовства, стал при случае рассуждать довольно умно, чуть ли не книжными выражениями, хотя книг, как и раньше, не читал. Правда, с начала Великого поста раз в неделю Михаил стал приглашать к себе Иоанна Грамматика, чтобы тот «почитал ему что-нибудь ученое».
– Что желает слушать государь? – спросил игумен. – Из философии, из истории или из толкований отцов на Писание?
– Ну, в философии я не силен, – усмехнулся император, – и изучать ее мне поздновато. Давай что-нибудь историческое!
– Из мирской или церковной истории, августейший?
Михаил захотел сначала послушать что-нибудь из истории церковной. Игумен читал ему Евсевия Памфила, потом Сократа Схоластика. Император слушал с интересом, иногда они с Грамматиком даже обсуждали прочитанное. С женой, однако, Михаил впечатлениями от услышанного никогда не делился, общался с ней мало и чаще всего в шутливом тоне. А однажды мимоходом заметил с коротким смешком:
– Я вижу, что пурпур идет тебе на пользу, моя августейшая! Из увядающей розы ты скоро превратишься в распускающийся бутончик!
Фекла удивилась, даже разгневалась. Во-первых, муж никогда в жизни не говорил ей чего бы то ни было о ее внешности, и такое поэтическое сравнение в его устах прозвучало очень странно и в то же время почти оскорбительно… А во-вторых… что, собственно, Михаил имел в виду?! Оставшись одна, она крайне придирчиво рассмотрела себя в зеркало; пожалуй, она уже забыла, когда в последний раз так интересовалась собственной внешностью. Хотя кувикуларии и говорили ей, что за последние месяцы она «помолодела», Фекла не обращала на эти слова внимания, считая их обыкновенной лестью. Конечно, когда она стала императрицей, о ее теле было кому позаботиться, но… «бутончик»?! Это уж слишком! Из зеркала на августу глядела женщина среднего роста, очень стройная, черноволосая и черноглазая, тонкая, изящная… Пожалуй, она действительно стала выглядеть моложе – ванны, настойки и мази делали свое дело: тридцать четыре года ей бы точно никто не дал… «Бутончик»! Нет, ну надо же было сказать такое!..
Впрочем, ей было недосуг долго размышлять о том, что означают шуточки мужа; сейчас ее больше заботил сын. Феофил был всё так же холоден с отцом, однако враждебности в его отношении к Михаилу уже не чувствовалось, да и холодность стала иной – скорее, больше похожей на простую замкнутость. Иногда они с отцом беседовали о чем-то, хотя и весьма кратко; прежде такого не случалось. А вот от матери Феофил словно несколько отдалился, и это ее очень мучило. От всех этих волнений Фекла слегка осунулась, впрочем, кувикуларии в один голос твердили, что это ей даже идет. Императрице пришла мысль переговорить с Иоанном – единственным человеком, с которым Феофил продолжал много общаться, – но тут перед ней встало другое препятствие: относительно Грамматика она ждала разрешения давней своей догадки и после получения одного письма сделалась совсем нетерпелива. Михаил, казалось, обращал на жену мало внимания, но однажды отметил, что она напоминает «горячую лошадь перед забегом», чем вызвал у Феклы досаду, совершенно несоразмерную столь невинному замечанию, – ведь муж и раньше не брезговал подобными сравнениями. «Что это со мной?» – в который раз подумала она, но тут же махнула рукой и решила поразмышлять об этом когда-нибудь после… или вообще не думать. Ей важно было разрешить недоумение, и до этого – по крайней мере, ей казалось, что причина именно такова, – Фекла не могла разговаривать с Иоанном так же свободно, как раньше. Кроме того, она надеялась, что после «объяснения прошлому» удобнее будет поговорить с игуменом и о Феофиле.
Наконец, 9 мая во дворец прибыл монах лет пятидесяти, среднего роста, чуть полноватый, немного обрюзгший. Он горбился и смотрел всё больше в землю, однако можно было понять, что прежде он был недурен собой. В его глазах словно навек застыло выражение затаенной печали. Дворцовая обстановка поразила монаха: он озирался по сторонам с таким видом, будто попал в чужую страну, и ступал по мраморным полам так, словно боялся оставить на них грязные следы. Он приехал ближе к вечеру, а наутро, проводя гостя по дворцу, императрица, как бы случайно, завела его в «школьную», где Феофил с Грамматиком как раз собирались начать занятия – жених даже за два дня до свадьбы не пожелал оставить философию, а когда мать робко намекнула ему, что невеста, пожалуй, может обидеться, сказал:
– Пустяки, да и не всё ли равно, ведь ей теперь всю жизнь на меня обижаться.
Когда Фекла со своим спутником вошла в залу, учитель раскладывал на столе книги, а ученик стоял у окна. Императрица вошла первой, и ссутулившегося монаха было почти не разглядеть за ее спиной.
– О, вы здесь, как удачно! – весело воскликнула Фекла, хотя сердце ее вдруг бешено заколотилось. – Мы немного задержим начало занятий, вы не против? А может, и послушаем потом твою блистательную лекцию, господин Иоанн… Я зашла показать нашему гостю эту залу. Познакомься, отче, – она повернулась к спутнику, – это Феофил, а это Иоанн, игумен монастыря Сергия и Вакха, а главное – лучший из учителей столицы, он уже восемь лет учит Феофила всяческой премудрости. Феофил, Иоанн, позвольте представить: Александр, наш родственник, ныне монашествует в Фотинудийской обители.
Александр сделал шаг вперед и вдруг застыл на месте. Иоанн, взглянув на него, побледнел, но мгновенно справился с собой и, поклонившись, спокойно сказал:
– А мы, кажется, знакомы.
Императрица была поражена до испуга. Ее смутная догадка подтверждалась на глазах: эти двое узнали друг друга сразу, несмотря на то, что со дня их последней встречи прошло, конечно, уже более двадцати лет. Но особенно и до стыда поразил Феклу взгляд, брошенный Иоанном на нее: она увидела, что игумен понял ее замысел, – и от этого взгляда августа словно потеряла дар речи, совсем позабыв, что собиралась «направлять беседу»…
– Д-да, – проговорил Александр, ужасно, в свою очередь, бледнея, – я тоже узнаю тебя… господин Иоанн…
– Мир тесен! – бодро сказал Грамматик. – Кто бы мог подумать, что наши пути когда-нибудь вновь пересекутся, да еще в таком славном месте как Священный дворец! Я соболезную, – он переменил тон на сочувственно-серьезный. – Государыня, – он отвесил Фекле почтительный полупоклон, но она при этом подумала, что игумен, должно быть, мог бы сейчас задушить ее на месте, – уже рассказала мне о несчастной судьбе госпожи Марии.
На лице Александра на миг показалось странное выражение, точно он хотел крикнуть: «Замолчи!» – но монах тут же смешался и пробормотал:
– Да, она… Бедная девочка!
Ощутив неуместность последнего слова, он совсем смутился и умолк. Феофил, с любопытством наблюдавший всю эту сцену, вдруг спросил:
– Так это ты, господин Александр, был мужем моей тетки Марии?
Монах поднял на юношу глаза и проговорил как бы через силу:
– Да, я.
– Значит, дядя. Странно, что мама сразу не сказала об этом, – он остро глянул на императрицу. – Что ж, очень приятно! Тетя, кажется, была тебя намного моложе?
На щеках монаха показались красные пятна.
– На десять лет.
– Не такая уж большая разница! – улыбнулся Феофил. – А правда ли, что она была очень красива?
Сцена принимала какой-то безобразный оборот. Слова вроде бы говорились самые обыкновенные, но ощущалось, что происходит нечто крайне неприличное. Но более всего ужасало Феклу то, что Иоанн выглядел как-то уж слишком спокойным, зато Феофил под маской веселости всё больше походил на натянутую тетиву. «Надо это остановить!» – мелькнула у нее мысль. Но было уже поздно.
– Она… да, очень красива была, – криво улыбаясь, ответил Александр, переступил с ноги на ногу, и неожиданно выпалил: – Почти как сейчас твоя августейшая мать!
Тут взгляды всех обратились к Фекле. Щеки ее запылали, она не могла произнести ни слова, а когда осознала смысл ответа Александра – что она теперь красивее, чем была некогда Мария, – покраснела буквально до корней волос. И хотя на нее были устремлены три пары глаз, самым невыносимым показался ей взгляд только одних – сверкающих, как стальные лезвия. Однако через несколько мгновений он оторвался от нее и снова вонзился в Александра.
– Что же, – продолжал Феофил неумолимо, тоже переводя глаза на гостя, – Иоанн учил ваших с нею детей? Ах да, вы же не успели завести детей, как я знаю… Откуда тогда вы знакомы?
– Дети были, господин Феофил, – заговорил Иоанн, – но другие. С госпожой Марией мы познакомились раньше, чем она вышла замуж за господина Александра. Я учил сыновей твоего дяди, ныне покойного, а госпожа Мария присматривала за ними, поскольку ее брат овдовел. Мы были знакомы два года.
Он говорил очень спокойно, словно рассказывал самую обыденную историю, но его глаза цвета стали, когда он опять взглянул на императрицу, полыхнули таким гневом, что ее сердце на миг словно остановилось от пронзительной боли, и эта боль стала для Феклы неожиданностью едва ли не большей, чем всё остальное. Ей захотелось крикнуть: «Не надо! Довольно! Я не хочу ничего знать!» Но уже и без нее было, кому доводить начатое до конца.
– Вот как! – сказал Феофил. – Сколько же моей тете в то время было лет?
– Пятнадцать, – по-прежнему спокойно ответил Грамматик. – В семнадцать она вышла замуж, а мне тогда как раз пришлось покинуть своих учеников, поскольку твой дядя вновь женился, и его супруга нашла мальчикам другого учителя.
– Но позвольте, – сказал Феофил, – где же вы тогда познакомились с господином Александром?
«Зачем он продолжает этот ужасный разговор?! – думала Фекла. – У него какая-то цель… Боже! Лучше б я всё это не затевала!»
– Господин Александр трижды приезжал в дом брата госпожи Марии вместе с твоим дедом, ее отцом, – ответил Иоанн, насмешливо глядя на гостя в упор. – Сначала познакомиться с невестой, потом – на Пасху, а в третий раз – когда отец увозил ее домой, чтобы подготовиться к свадьбе.
– И вы до сих пор так друг друга помните, что сразу узнали! – воскликнул Феофил с явно напускным удивлением.
Грамматик слегка побледнел, но ничего не сказал.
– Ты, наверное, постригся после того как овдовел? – обратился Феофил к Александру.
Монах только кивнул.
– И тетя Мария умерла молодой, я слышал? – юноша не спускал глаз с его лица.
– Не дожив до девятнадцати, – пробормотал тот.
– Злая судьба, однако! – Феофил взглянул на мать и вновь обратил взор к дяде. – Что же, какая-то болезнь?
– Ничем она не болела! – вдруг вскричал Александр со всхлипом. – Она умерла от печали! Потому что не хотела жить! Потому что… О, за что вы собрались тут мучить меня?!
Внезапно повернувшись, он выбежал вон. Императрица тоже было рванулась к выходу, чтобы догнать гостя, но тут Иоанн быстрым шагом пересек комнату со словами:
– Прошу меня простить! – и исчез за дверью.
На Феклу напало что-то вроде столбняка. Феофил смерил мать долгим взглядом и отвернулся к окну.
Некоторое время продолжалось молчание.
– Феофил, зачем ты? – наконец, чуть слышно сказала императрица.
– А что, – он обернулся, – ты сама разве не этого хотела? Или тебе неудобно, что так неприлично вышло? А что вообще приличного может быть, когда лезешь в чужую душу и в чужую постель?!
– Феофил!..
Тут вернулся Иоанн. Он был мертвенно-бледен, однако проговорил всё тем же спокойным ровным голосом:
– Еще раз прошу прощения. Мне нужно было сказать несколько слов господину Александру.
– О том, что любовь – всего лишь временное расстройство ума? – спросил Феофил, глядя на учителя в упор.
Тот выдержал взгляд.
– Любовь, – тон Грамматика был ледяным, – есть омрачение ума, пленение души и безумие тела, которые могут продолжаться, конечно, довольно долго, но, тем не менее, имеют конец, как и всё, что имеет начало.
– Конец в виде смерти тела, например, – сказал Феофил с такой улыбкой, что у Феклы ком подкатил к горлу.
– Бывает и так. Хотя это и нежелательно со всех точек зрения. Впрочем, исход дела зависит от делателя, – ответил Иоанн уже обычным тоном. – Но нам пора заниматься, господин Феофил. Августейшая, – обратился он к императрице, – господин Александр сказал, что будет ждать тебя в соседней зале. Если вы еще желаете послушать лекцию моего недостоинства об учении Платона о государстве…
– О, нет-нет, благодарю! – ответила Фекла, удивляясь, что у нее еще есть голос. – Простите, что мы вам помешали…
Она поскорей выскользнула вон. Когда за ней закрылась дверь, Иоанн коротко рассмеялся и сказал:
– До чего может довести женское любопытство! Я бы поспорил на что угодно, что преподобнейший отец не останется здесь даже до вечера.
Феофил посмотрел на учителя очень пристально и сказал без тени улыбки:
– Пожалуй. Вышло как-то невежливо… Впрочем, с другой стороны, что умершему для мира делать на чужой свадьбе?
Урок начался, но мысли и ученика, и учителя на этот раз были далеко от Платона и государственного устройства. В какой-то момент Грамматик поймал себя на словах:
– Как я уже говорил, итоги тому, что Сократ рассказывал своим собеседникам в «Государстве», Платон подводит в диалоге «Пир»…
«Что я несу?!» – подумал игумен, умолкнув. Ученик между тем ничего не заметил. Иоанн внимательно поглядел на него и сказал:
– Господин Феофил, тебе не кажется, что на сегодня лучше закончить? У тебя, полагаю, много других дел…
Юноша, казалось, нисколько не удивился внезапному предложению и ответил, вставая:
– О, да! Мне сегодня предстоит примерять свадебное одеяние и смотреть, хороши ли украшения, изготовленные для невесты.
Он улыбнулся так, что Иоанн послал мысленное проклятье всему женскому роду, а вслух сказал:
– В таком случае, думаю, мы вернемся к Платону после Пятидесятницы.
Феофил кивнул и направился к выходу. Уже у двери он обернулся и взглянул на учителя.
– Хотел бы я иметь такую выдержку!
– «Прежде тебя я родился и боле тебя я изведал», – ответил Грамматик. – У тебя еще есть время научиться.
– И немало, – усмехнулся юноша. – Целых полтора дня!
Вернувшись после прерванного урока в монастырь, игумен как раз подоспел к службе шестого часа. По окончании богослужения он обсудил кое-какие дела с экономом и удалился в свои келии. Вынул из шкафа третью часть «Стромат» Климента Александрийского, Грамматик сел и начал читать, но, перевернув одну страницу, закрыл книгу и отложил на край стола. Посидев немного, глядя в пространство, он придвинул к себе начатое утром письмо, взял перо, обмакнул в чернила и застыл над листом. Так и не написав ни слова, Иоанн отложил перо и встал. Убрав «Строматы» в шкаф, он надел мантию, вышел, запер келью и постучал в соседнюю, где жил брат Кледоний, числившийся его келейником, хотя Иоанн с того дня, как стал игуменом в Сергие-Вакховой обители, никого не пускал в свою келью.
– Я уезжаю на Босфор. Вернусь завтра к вечерне.
Арсавир был рад увидеть брата.
– Какие люди! – улыбаясь, воскликнул он. – Я не ждал тебя, но хорошо, что ты приехал! Надеюсь, ты заночуешь? Ведь завтра годовщина смерти отца… У нас будет панихида и небольшой поминальный стол.
– Вот как. Что ж, помянем покойника.
– Слушай, Иоанн, – сказал Арсавир, внимательно глядя на брата, – ты сам похож на мертвеца сегодня. Что-то случилось?
– Мертвецы иногда встают из гробов и кусаются, – сквозь зубы ответил Грамматик и передернул плечами. – Налей-ка мне вина, брат.
…Феофил проснулся, открыл глаза, потянулся, и тут в мозг иглой вонзилась мысль: «Завтра свадьба! Конец!» Стало так больно, что он стиснул зубы и, закрыв глаза, немного полежал без движения, стараясь не думать о предстоящем. Феодора в этот момент стала ему противна; попадись она ему сейчас, он бы, кажется, плюнул и отвернулся. «Как я мог целоваться с ней?!.. Да мне еще с ней спать придется… О, Боже! За что?!..»
Он сел на кровати и спустил ноги на пол. От боли внутри всё словно онемело. Почти машинально Феофил встал, надел нижнюю короткую тунику и позвонил в било над дверью, чтобы принесли умыться. Вошли три кувикулария: один нес серебряный тазик, другой – кувшин с водой, а третий – белоснежное полотенце из тонкого льна. Вода была довольно холодной, но Феофил даже не почувствовал этого, все ощущения в нем, казалось, умерли. Когда кувикуларии с поклоном удалились, Феофил подошел к окну и какое-то время смотрел в сад, потом глубоко вздохнул и снова позвонил. Вошли два веститора, они несли вместо обычного одеяния парадное – сегодня предстоял общий прием всех прибывших гостей и последние приготовления к завтрашнему торжеству.
«И ведь ничего не отменить! – думал Феофил, пока его облачали в затканный золотом скарамангий. – А говорят, что император есть образ всемогущего Бога… Какая насмешка!»
До начала приема он решил проехаться верхом по паркам и отправился в конюшни. Глядя, как стратор седлает выбранного гнедого жеребца, юноша спросил:
– Михаил, с тобой бывает такое, что ты ничего не чувствуешь? Ну, то есть вообще?
Стратор глянул на него слегка удивленно, крякнул и смущенно ответил:
– Бывает, господин. Когда напьюсь.
Феофил расхохотался.
«Может, Иоанн прав, – подумал он, вскочив на коня, – и нужно просто действительно… поменьше поэзии?..»
10. От Платона к Эпикуру
Как странноприимец не может ввести странника в дом, пока не скажет ему господин этого дома, так и враг: если ему не будет оказан прием, никоим образом не войдет в человека.
(Великий Патерик)
В ночь на Пятидесятницу в Марфиной домовой часовне владыка Евфимий Сардский, приглашенный хозяйкой, отслужил праздничную службу. Келейник владыки читал, Кассия пела за хор. Хозяйка с дочерьми, домочадцы и слуги, а также несколько приглашенных знакомых Марфы причастились Святых Таин, поздравили друг друга с праздником, вкусили антидора и разошлись по спальням. Архиепископа с келейником уложили в пристройке, где раньше жили студиты, но владыка проспал не более двух часов и утром возвратился к себе. Сам день праздника выдался теплым, но не особенно жарким. После обеда Кассия вышла в сад и сидела у пруда, в тени небольшой арки, заплетенной виноградными лозами. Перед ней на столике лежало житие преподобного Антония Великого, написанное святым Афанасием, но девушка смотрела мимо, в сад. Аромат роз разливался в воздухе. Кассия была охвачена странной рассеянностью. Иногда, словно очнувшись, она взглядывала в книгу, прочитывала несколько строк и видела, что не может сосредоточиться на читаемом. Она вспоминала, что надо молиться, и что она, пока сидела, глядя на цветы и деревья, совсем не молилась… Но о чем же она думала? Кассия не могла этого сказать. Словно бы и не о чем… Она пыталась начать читать Иисусову молитву, но повторив ее раза два или три, снова впадала в ту же бездумную рассеянность. Выйдя из такого состояния в очередной раз, она встряхнула головой. Что это с ней?..
И внезапно все ее неопределенные, «безмысленные» мысли, как бы воплотились в одно слово: «Феофил». Ее тут же бросило в жар, через несколько мгновений в холод до озноба, а потом приятное тепло разлилось по телу… «Боже!» Она встала и прошлась вокруг пруда. Вместо того чтобы молиться, она, выходит, неосознанно думает всё о том же?!..
После злополучного урока по «Пиру», данного Львом по возвращении Кассии из дворца, девушка всю ночь молилась со слезами и поклонами и наконец под утро уснула прямо на полу. Проснувшись чуть свет, она ощутила легкость в душе и теле, и очередной урок прошел вполне спокойно. Когда «Пир» был дочитан, учитель пустился в довольно подробные объяснения, ученица слушала, задавала вопросы, они обсуждали разные места диалога, и в душе Кассии было тихо, а возникавшие помыслы она более или менее легко прогоняла молитвой. Она была так занята происходившим у нее внутри, что пока не замечала смятения, овладевшего ее учителем: Лев тщательно пытался скрыть, но иногда оно прорывалось наружу. На праздник Вознесения Господня Кассия с матерью и сестрой побывали у Сардского владыки и исповедались. Кассия не упомянула о смотринах во дворце, просто сказала, что встреча с одним красивым юношей очень смутила ее помыслы и едва не поколебала даже самого намерения идти в монахи. Девушка попросила у архиепископа молитв и вернулась домой успокоенная, уповая на Божию помощь. Так прошло время до Пятидесятницы, и у Кассии появилась надежда, что искушение окончилось; она внутренне радовалась и благодарила Бога.
Но сегодня с самого утра на нее напала рассеянность, и вот… Кассия опять опустилась в плетеное кресло и закрыла глаза, на миг ее охватило почти отчаяние. «Зачем же в таком случае я отказалась от этого брака, – подумалось ей, – если всё равно в душе хочу его?! Не правильнее ли было последовать желанию Феофила… и своему собственному?.. Вот, испытала судьбу, что называется!..» А ведь еще не так давно она с отвращением думала о… Она вспомнила так возмутившее ее в свое время письмо ипата. Тогда ей хотелось плеваться от одной мысли о любовных утехах, а теперь она сама одержима этой горячкой… Вдруг на память пришли ночные вопли Михаила: «Пусть тебе отомстит Афродита!» Накликал, можно сказать!..
Но почему, откуда, как?! Пытаясь разобраться в случившемся, она хотела понять, как такое могло с ней произойти. Чем Феофил отличался от тех молодых людей, встречавшихся ей раньше? Ведь они не производили на нее никакого впечатления! Был ли Феофил красивее всех? Конечно, он красив, но… Кассия вспомнила знакомство с Акилой на прогулке верхом. Он был ведь тоже очень хорош собой! Но он не внушил Кассии ничего похожего на чувство, охватившее ее перед Феофилом на выборе невест. Значит, это не была страсть просто к телесной красоте самой по себе. Феофил умен… Что он умен, она поняла еще тогда, в их первую встречу в портике. Ум и красота придавали друг другу еще больше силы, именно это делало его неотразимым… Но только ли это? Ведь и Акила был не глуп, и она с удовольствием разговаривала с ним, тогда как с Феофилом она совсем не общалась! Почему же, когда она поняла, что понравилась Акиле, это вызвало у нее лишь досаду, а к Феофилу ее влекло чувство такой силы, какого она не только никогда не испытывала, но даже и не подозревала, что подобное возможно?.. Кассия снова вспоминала свою жизнь во дворце, такую соблазнительно приятную, свой разговор с «ужасным Ианнием», который ей вовсе не показался ужасным, мысли о никогда не виденном ею, как она тогда думала, императорском сыне – по слухам, таком начитанном и умном… Да, она испугалась тогда, что начала забываться и мечтать, о чем не должно, да, она молилась, чтобы Бог отвел от нее этот брак… Но была ли она совершенно искренна?..
Этот вопрос привел ее в растерянность. С одной стороны – да, особенно после встречи с Грамматиком, а с другой… Она помнила, какие мечты в те дни возникали у нее в голове, и как она не всегда сразу, а иногда словно бы и нехотя отгоняла их молитвой… Не от этого ли всё произошло – оттого, что она не была тверда в раз избранном пути?.. Не оттого ли, что она… привыкла, что ли, к своему призванию и не задумывалась о том, что если Бог призвал ее, то она должна отвечать Ему «да» каждый день, каждый час, каждый миг? «Муж двоедушен неустроен во всех путях своих»… Уступка в малом ведет к большим искушениям, а Бог, видя, что душа не всецело предана Ему, попускает тяжкие брани… Ведь она где-то читала об этом!.. И та первая встреча с Феофилом, когда она еще не знала, что это он… Уже тогда что-то промелькнуло… А она не обратила внимания…
Да, она сама разложила в своем сердце хворост, к которому императорский сын поднес огонь… Феофил!.. От одной мысли о нем ее бросало в жар. Но что теперь она ему? У него – молодая жена, и он, конечно, быстро забудет девушку, поразившую его на смотринах… А вот ей-то сколько предстоит борьбы с собой!..
Но ведь есть, ради чего бороться с этой… любовной страстью! Если она ответила «да» на зов Божий, то надо идти до конца, какие бы препятствия не случились. И потом, если даже на миг забыть о призвании, всё равно этот брак невозможен: стань она императрицей, ей пришлось бы участвовать во всех церковных церемониях, а значит – вступить в общение с ересью… Вот так, получается, что если бы всё это и обернулось по-другому, то вышел бы не только отказ от монашеского пути, но отпадение от веры, от Церкви… И она еще раздумывает, правильно ли поступила, отказавшись!..
Кассия встала и почти бегом отправилась в библиотеку, где взяла книгу слов преподобного Марка Подвижника и стала читать, чтоб хоть немного придти в себя. Книга раскрылась на словах: «И не говори: как может пасть духовный? Пребывая таким, не падает; когда же допустит в себя что-либо малое из потивного и пребудет в нем, не покаявшись, то это малое, укоснев и возрастя, уже не терпит оставаться отдельно от него, но влечет его к соединению с собою как бы некою цепью…»
– Да, – прошептала она, – так и есть! Сначала ты позволяешь себе малый интерес, потом начинаются всякие мечтания… А потом и сам предмет мечтаний является пред тобой, и ты не можешь противиться!
«Но ты скажешь мне, – читала она дальше, – не мог ли он, будучи в начале зла, умолить Бога не впасть в конечное зло? И я тебе говорю, что мог, но презрев малое и собственной волей восприняв его в себя, как ничтожное, он уже не молится об этом, не зная, что это малое бывает предначинанием и причиною большего: так бывает в добром и злом!»
– Да, именно так! Презрев малое, наживаешь большие беды…
«Когда же страсть усилится и при помощи его произволения найдет себе в нем место, то она уже против его воли насильно возносится на него. Тогда уразумев беду свою, он молит Бога, ведя брань с врагом, которого по незнанию защищал прежде… Иногда же и будучи услышан от Господа, не получает помощи, потому что она приходит не как думает человек, но как устраивает Бог к пользе нашей».
– А я еще хочу, чтобы скорей прошло! Надо не назначать сроки, а просто делать все, от тебя зависящее, а Бог подаст Свое в нужное время…
«Ибо Он, зная нашу удобопреклонность и презрительность, много вспомоществует нам скорбями, дабы, избавившись бесскорбно, мы не стали усердно делать те же согрешения. А потому и утверждаем, что необходимо терпеть постигающее нас и весьма прилично пребывать в покаянии».
Она закрыла книгу, поднялась наверх, прошла в часовню и, затеплив лампаду перед образом, открыла Псалтирь и начала читать: «Господи, услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня: в день, когда призову Тебя, скоро услышь меня…»
Вечером за ужином мать сказала:
– Я встретила Ирину. Она долго рассказывал про сегодняшнюю коронацию и венчание императорского сына… Очень восторгалась, как всё было великолепно, какие молодые красивые… Спрашивала про тебя и удивлялась, какая же ты сильная, что не изменила своего намерения идти в монахи «даже перед всем этим»… Я сказала, что ты действительно сильная, – Марфа улыбнулась, – и что ты рада… Ты ведь рада?
Она внимательно глядела на дочь.
– Конечно, рада, – кивнула Кассия, надкусила персик, прожевала, взглянула на мать и сказала: – Ну вот, теперь у нас, значит, два императора… и оба еретики!
– Да, грустно, – вздохнула Марфа. – Когда же это кончится?.. А ты знаешь, кто приходил сегодня? Слуга господина Акилы с письмом от него.
– Что за Акила?
– Это сын патрикия Феодота, их имения соседствуют с нашими. Ему сейчас двадцать третий год, и представь: он пишет, что уже пять лет как мечтает жениться на тебе!
– Опять сватовство! – вздохнула Кассия и подумала: «О, Господи! Он пять лет ждал?!.. Одна встреча – и пять лет ожидания… Чтобы получить отказ!..»
– Он хочет, чтобы ты сама ответила ему, – сказала Марфа. – Вот его письмо.
После ужина Кассия поднялась к себе и развернула лист. «Досточтимая и достолюбезная госпожа Марфа! – так начиналось письмо. – Я хочу обратиться к твоей честности по вопросу весьма для меня важному…»
Молодой человек просил руки Кассии, обещал любить будущую супругу и всячески заботиться о ней, перечислял свои имения и богатство, говорил о своем положении при дворе – он служил в отряде схолариев, – о том, что его отец близок к императору и может выхлопотать для невестки достоинство кувикуларии…
Кассия опустила руки с письмом на колени. Ей вдруг представилось: она – в числе кувикуларий августы Феклы или… августы Феодоры… Проводит много времени во дворце… Наверняка встречается с Феофилом и… Кассия потрясла головой. Какие только мысли ей теперь ни приходят на ум! О том, о чем раньше она никогда и не помышляла…
Она села за стол, обмакнула перо в чернильницу и написала на листе пергамента: «Досточтимый господин Акила! Я прочла твое письмо, адресованное моей матери и, по твоему желанию, отвечаю тебе собственноручно. Твое предложение чрезвычайно лестно…» Она остановилась. Лестно?.. Она не знала, что писать дальше. Что бы она ни написала, каких бы вежливых фраз ни наплела, это будет неправдой. «Я люблю другого», – вот в чем была правда – и в чем был ужас, потому что этим другим был не Бог, ради которого, как ей казалось совсем недавно, она готова была с легкостью пожертвовать всем и отказаться от всего, а…
Феофил!
– Что за казнь! – прошептала она.
«Красота и добродетели твоей дочери, госпожа, не могут не вызывать восхищения…»
– Мои добродетели!.. Да, еще совсем недавно я тоже думала, что у меня есть добродетели… и целомудрие… А теперь…
Она вздохнула и решительно стала писать: «…но мне думается, что ты столько превозносишь мои мнимые добродетели потому, что просто плохо знаешь меня. Впрочем, чтобы не распространяться долго и без пользы, скажу, что никак не могу стать твой женой, поскольку, будучи отвергнута императором, считаю ниже своего достоинства вступать в супружество с кем-либо иным. Моим Женихом будет отныне лишь один Царь Небесный…»
Ложь на лжи! «Отвергнута императором»! Не отвергнута, а отвергшая…
Она закрыла глаза. «Считаю ниже своего достоинства…» Да, пусть сочтет ее гордячкой, тем лучше… Может, скорей разлюбит и не будет страдать! Неужели и ему еще страдать? Как всё нелепо!.. Да, это хорошо – представиться гордячкой… В конце концов, разве не за гордость приключилась с ней эта напасть?..
Напасть?.. А если в этом был промысел? А если… надо было взять яблоко?..
Опять всё те же мысли не давали ей покоя. Ну и что – еретик? Ведь гонения всё же прекратились! Быть может, она… сумела бы повлиять на него, убедить? Что, если всё-таки надо было согласиться?.. Нет, это невозможно, не может Бог перечеркнуть Свой собственный зов… Если б Он хотел, чтоб она вышла замуж, Он бы раньше не призвал ее к монашеству. Но… А что было бы, если бы?.. «Почем ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?..» А вдруг бы он обратился…
«Нет, – говорила она себе, – ты выставляешь эти предлоги, чтобы прикрыть единственную настоящую причину – то, что ты просто хочешь его. Если б Господу было угодно, Он бы устроил этот брак так, чтобы не нужно было отрекаться от прежнего решения, отступать от православия… Если же не устроил, значит…»
Сумела бы убедить? Кем она готова себя возомнить – спасительницей заблудших! А ведь она даже свою душу не сумела как следует уберечь от… блудной страсти!.. «Спасая спасай свою душу!» – говорили отцы, свою прежде всего, а не чужие… Христос – единый Спаситель, Он может и спасти Феофила от ереси, и восстановить православие…
«Ты просто мало веришь в Бога. А должна бы верить, что Он Сам знает, как спасти…»
Но больно, больно и тоскливо. И – да – она хочет быть с ним. Все эти «а что, если» – только отговорки, прикрытие истинной причины всех этих помыслов, сомнений… Страсть – вот единственная причина.
…В то утро Феофил проспал гораздо дольше обычного. Бесцеремонное солнце давно заглядывало в щель между занавесями на окне императорской опочивальни в Магнавре, где новобрачные по обычаю проводили первые три ночи, когда молодой император проснулся, слегка потянулся и некоторое время неподвижно созерцал золотой узор из цветов на красном шелке балдахина, осенявшего ложе. Лежавшая рядом Феодора вздохнула во сне. Феофил приподнялся на локте.
«Ну, вот, – подумал он. – Вот моя жена. Теперь я император… и семейный человек… Счастливый обладатель красивейшей женщины Империи!.. Радости Афродиты…» Или как там вчера пели им после венчания: «Царь нововенчанный, Бог сохранит тебя!.. Досточтимый, добродетельный!.. Сей день радости ромеев, когда сочетался владыка Феофил с Феодорой, счастливейшей августой!..»
Он язвил сам над собой, вновь и вновь пытаясь заглушить то, чего не должен был больше чувствовать. Но душу опять заливала боль, после выбора невесты не отпускавшая его ни на день. Для ромеев, может, это и день радости, а вот для нововенчанного…
«Счастливейшая августа»… Он рассматривал спящую Феодору. Одеяло, укрывавшее молодых супругов, сбилось; юная императрица лежала перед ним полуобнаженная и могла бы вдохновить какого-нибудь нового Апеллеса или Фидия – живая спящая статуя совершенной красоты, точно создана для этих самых «радостей Афродиты»…
«Ты у нас – платоник!» – опять вспомнилось ему. Платоник? Что ж, он был платоником, а теперь ему, видимо, придется стать киником… А может, эпикурейцем? Насладиться красотой, принадлежащей ему по праву… «Да будут двое в плоть едину»… Что же, что это не она… Она! О, если бы рядом сейчас была Кассия!.. Он бы разбудил ее поцелуем… и показал бы ей, как красив вид на утреннее море из окон спальни! А потом…
Воображение услужливо рисовало ему соблазнительные картины. Он больше не был девственником, – и тем сильнее запретное вожделение снедало его. Он даже не попытался бороться и погрузился в страстные мечтания. Феодора пошевелилась. Сейчас она проснется… и что? Что он ей скажет? Он нашел бы, что сказать, если б рядом лежала другая… Но что можно сказать этой женщине, с которой он отныне связан на всю жизнь?.. Что ночью… да, было неплохо, – так сказал бы его бедный друг Константин. Феофил покраснел. Что сказать ей? «Я люблю тебя»? Язык не повернется… «С тобой было… великолепно!» А что – так и сказать, да… И повторить еще раз… Тем более, что торопиться некуда… Он внезапно побледнел. Да, торопиться некуда, вся жизнь впереди… «На дни, и времена, и лета…» Хоть удавись! Константин бы сказал: да что ты, дурак, мучаешься? Такая красавица-жена… и, как оказалось, очень страстная женщина… Мечта юного любовника!
Феофил отвернулся, осторожно слез с роскошного золотого ложа, надел сброшенный вечером прямо на пол прозрачный льняной хитон, а сверху – кинутый тут же на скамью верхний шелковый, пурпурный с голубым узором, препоясался золотым поясом с кистями, подошел к окну и чуть раздвинул занавеси. Утро было прекрасным. Ослепительно-синее море, треугольные паруса рыбачьих лодок и торговых судов…
Он закрыл глаза – и перед ним мгновенно возникла Кассия. Синие глаза… синие, как море… Он встряхнул головой. Нет, даже Константин бы понял, что дело плохо… Пройдет, может?.. А он-то думал, что больнее, чем тогда, когда был убит крестный, ему уже не будет! Но та боль не шла ни в какое сравнение с нынешней.
За что?!!..
Повернувшись, Феофил несколько мгновений смотрел на спящую жену, потом быстро подошел к ложу, осторожно взял за край сбившееся одеяло и закрыл Феодору до самого подбородка. Она переменила позу, но не проснулась. Лицо ее было спокойным и счастливым. Надолго ли?.. Феофил вздохнул и вышел из спальни.
Спустя полчаса Иоанн Грамматик, придя в библиотеку, с изумлением обнаружил новобрачного, сидевшего с книгой в оконной нише. Окно было распахнуто настежь, теплый ветер гулял по библиотеке и шуршал слетевшими со стола папирусными листками. С улицы веяло ароматом роз и доносилось пение птиц. Издали по лиловому, обгрызенному мышами краю обложки игумен определил, что Феофил читал «Анекдоты» Прокопия Кесарийского.
– Доброе утро, государь! На многая лета да продлит Господь ваше царство!
Феофил вздрогнул и повернул голову; Грамматик поклонился ему. Юный император положил книгу на стол и спрыгнул с подоконника. Иоанн, подойдя, бросил взгляд на раскрытые страницы:
«Но как только она подросла и созрела, она пристроилась при сцене и тотчас стала гетерой из тех, что в древности называли “пехотой”. Ибо она не была ни флейтисткой, ни арфисткой, она даже не научилась пляске, но лишь продавала свою юную красоту, служа своему ремеслу всеми частями своего тела… Была она необыкновенно изящна и остроумна. Из-за этого все приходили от нее в восторг. У этой женщины не было ни капли стыда, и никто никогда не видел ее смущенной, без малейшего колебания приступала она к постыдной службе…»
«Однако!» – подумал игумен.
– Я, признаться, не ожидал встретить тебя сегодня здесь в такое время, – Иоанн чуть улыбнулся, – и за чтением такой книги…
– Да, – сказал Феофил спокойным тоном, словно не замечая немого вопроса, – интересное чтение. Любопытно сравнить прежнюю августу Феодору с нынешней.
«Но какие качества для сравнения он выбрал!» – подумал Грамматик. Между тем Феофил, внимательно оглядев учителя, уловил, что тот, пожалуй, тоже чувствует себя не совсем в своей тарелке. Иоанн поймал взгляд молодого императора и, чуть нахмурившись, сказал:
– Прокопий ведь там изрядно насочинял.
– Это понятно. Но в данном случае не имеет значения.
Игумен приподнял бровь. Феофил усмехнулся.
– Мне сегодня хочется быть неприличным, – сказал он.
– Бывает.
– Хотя со вчерашнего дня мне нужно быть приличнее, чем когда бы то ни было! – продолжал Феофил с некоторым сарказмом. – Ведь я теперь император… Как сказал отец, я должен быть сильным… Он прав, конечно. А еще я должен быть счастлив, не так ли? – он резким движением закрыл книгу. – Впрочем, ты, пожалуй, скажешь, что счастье в добродетели, ведь так учили и святые отцы, и эллинские философы. А значит, всякое несчастье при желании поправимо…
Как больно! Но жаловаться нельзя. И учитель тут его ничем не утешит… Да ведь он уже выразился на этот счет недвусмысленно: «расстройство ума» должно пройти, и «исход дела зависит от делателя». Феофил очень сильно сомневался как в том, так и в другом. Он убрал книгу в шкаф и, простившись с Иоанном, вышел.
Грамматик подошел к окну и задумался. «Платоник» соединился не со своей половиной… Это, конечно, плохо, но не смертельно. Притрется со временем… скорее всего…
11. Философ и женщина
(Виктор Цой)
- Тот, кто в пятнадцать лет убежал из дома,
- Вряд ли поймет того, кто учился в спецшколе.
- Тот, у кого есть хороший жизненный план,
- Вряд ли будет думать о чем-то другом.
Апостольский пост подходил к середине, и Фекла, наконец, решилась: «Всё-таки нужно это сделать!» После злополучной встречи Александра и Иоанна императрица избегала возвращаться к теме «загадочного прошлого», а Грамматик вел себя так, будто ничего не произошло. С появлением юной соправительницы у Феклы прибавилось разных забот: августа-мать старалась создать Феодоре как можно более «уютные условия жизни», как она про себя выражалась, тем более что Феофил не очень-то был щедр на нежности с молодой женой. Императрица редко встречалась с Иоанном, и эти встречи были почти всегда мимолетны и при свидетелях, а в библиотеку, где скорее всего можно было встретиться с игуменом наедине, Фекла заходила после свадьбы сына только раз, взяла почитать «О божественных именах» святого Дионисия, но до сих пор не могла закончить – было некогда. Однако внутренний червь грыз императрицу, иногда она ловила себя на беспокойстве и даже тоске, причину которых не могла понять. Наконец, у нее выдалось время, и, гуляя по парку, она велела одной из сопровождавших ее кувикуларий найти и позвать Иоанна: она знала, что в тот день Грамматик был во дворце с самого утра.
Он действительно пришел довольно скоро и приветствовал августу дежурным поклоном. Фекла приказала кувикулариям отдалиться и пошла вперед по аллее, сделав знак Грамматику следовать за ней. Когда кувикуларии отстали на такое расстояние, что не могли слышать разговора, императрица сказала:
– Я хотела попросить у тебя прощения, господин Иоанн.
– Помилуй, августейшая! За что мне прощать твое величество? – спросил Грамматик удивленно, но по едва уловимым ноткам его голоса Фекла поняла, что удивление это притворное.
– За ту подстроенную встречу с Александром, – ответила она, вспыхнув. – Ты… тебе, верно, это было не очень приятно…
– О, пустяки! – ответил игумен небрежно. – Чего не бывает в жизни! Мнится мне, самое лучшее, государыня, больше никогда не вспоминать об этом.
Фекла внезапно смешалась. Казалось бы, Иоанн не говорил ничего особенного и не только не показывал, что был задет, но, напротив, всячески давал понять, что тот «пустяк» не стоит и воспоминаний, – а ей становилось всё неудобнее и хотелось оправдаться, словно она совершила преступление…
Они как раз дошли до поворота аллеи, где от нее ответвлялась небольшая дорожка к высокому старому платану. Императрица свернула туда, игумен последовал за ней. Фекла слышала за спиной его шаги, и ее сердце почему-то билось всё быстрее. У платана стояла деревянная скамейка, а по ее сторонам раскинулись два розовых куста – один покрывали темно-красные цветы, а другой белые. Августа подошла к белому кусту, сорвала розу, повертела в руках и, наконец, тихо сказала:
– Мне просто очень хотелось узнать, почему так случилось с сестрой… Я не ожидала, что это так обернется…
– Неужели, августейшая? Значит, я ошибся. Мне казалось, что тебе хотелось узнать не только это. Точнее, не столько это.
Она вздрогнула, выронила розу и повернулась к игумену. Смятение, охватившее ее при его словах, было столь сильным, что она даже не сразу смогла ответить.
– Что… ты хочешь сказать, господин Иоанн? – еле выговорила она.
Он слегка улыбнулся и ответил, глядя ей в глаза:
– Не столько о госпоже сестре, сколько о том, как это бывает.
Внезапно его взгляд стал таким же пристально-глубоким, каким игумен один раз уже смотрел на нее – за две недели до выбора невесты Феофилу, – и опять что-то сдвинул в ней, но уже гораздо сильнее, так что у Феклы закружилась голова, как если б она глянула вниз с большой высоты. Императрица побледнела, потом покраснела, опустила взор, но тут же вновь подняла глаза на Грамматика. Иоанн теперь смотрел, как обычно, с некоторой холодностью.
– Как ты, возможно, знаешь, трижды августейшая, – игумен говорил так, будто преподавал урок, – римский император Марк Аврелий, помимо всего прочего, занимался философией и оставил после себя замечательные размышления, – Иоанн слегка сощурился и поглядел поверх головы императрицы вглубь парка. – Этот император-философ говорил, что «человек, достигший сорока лет, если он обладает хоть каким-нибудь разумом, в силу общего единообразия некоторым образом уже видел всё прошедшее и всё имеющее быть», – он вновь посмотрел в глаза Фекле. – Мне сорок один год, августейшая.
– И… что? – спросила она, чувствуя, что краснеет всё больше и ничего не может с этим поделать.
Она вдруг ощутила, что между ней и Иоанном исчез некий барьер. Расстояния, которое должно было отделять императрицу от «простого игумена», замужнюю женщину от постороннего мужчины, женщину от монаха, больше не существовало. В этот миг она поняла, что между ними не было и внутреннего барьера, всегда разделявшего ее с собственным мужем, несмотря на то, что они всю жизнь были вместе… Ощущение было странным, пугающим и в то же время соблазнительным до головокружения. Фекла даже и представить себе не могла, что между ней и Грамматиком возможен подобный разговор, и что «магнетизм», который она ощутила почти сразу после знакомства с игуменом, на самом деле столь силен, что может уничтожить всё, что должно их разделять. Иоанн говорил с ней, «как власть имеющий», – и она воспринимала это, как должное, ее это как будто даже не удивляло, не возмущало… Да что же происходит?!..
– Видишь ли, трижды августейшая, – сказал Иоанн, – в молодости, несомненно, бывает интересно познавать окружающих людей. Но после ряда определенных опытов человек, если он умен и достаточно проницателен, начинает понимать внутренние закономерности происходящего. В частности, если говорить об отношениях мужчины и женщины, – взгляд игумена стал насмешливым, – то нескольких опытов бывает достаточно, чтобы понять, что за чем и когда следует. А после сорока лет коснеть в таких опытах в любом случае неприлично для разумного существа. К этому возрасту следует обратить свое внимание на что-то высшее, нежели земное копошение человеческих особей и тем более чувства, которыми увлекаться вообще простительно только в юности… Не сочтет ли государыня за дерзость, если я задам один вопрос, касающийся лично ее?
– За дерзость?..
«Наговорить такого – и спрашивать позволения надерзить!» – подумала Фекла. «Надо отослать его вон и закончить на этом!» – мелькнула мысль, но императрица поняла, что не станет ни обрывать разговор, ни прогонять Грамматика, и ощутила, что он это тоже понимает. Мгновенное осознание этого вновь заставило ее мучительно покраснеть, но невыносимое смущение вдруг странным образом перешло в какое-то внутреннее бесстыдство: если всё понятно, то к чему притворяться? Всё понятно? Но что понятно?!.. Она закусила губу и взглянула на игумена. Тот чуть заметно улыбнулся, и Фекла почувствовала, как по ее спине прошел холодок.
– Человеческая дерзость имеет гораздо большие размеры, августейшая, чем это обычно представляется людям благовоспитанным. Итак, я осмелюсь задать вопрос: чем занималась государыня, когда ей было тринадцать лет?
Фекла растерялась.