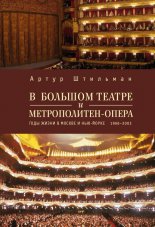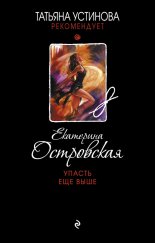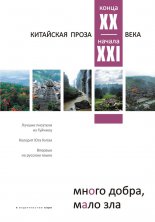Кассия Сенина Татьяна

Раздев палестинцев, двое воинов принялись бичевать Феодора по спине и по груди, а Феофан, со скрученными за спиной руками, смотрел на истязание брата и кусал губы. Феодор поначалу терпел молча, а потом воскликнул:
– Мы ничем не согрешили против твоей власти, государь!
«Вот как, ты заговорил, наконец!» – подумал император со злобной иронией и чуть нахмурился. Воины продолжали бить монаха, на пол закапала кровь. Тогда Феодор принялся молиться вслух:
– Господи, помилуй! Святая Богородице, приди на помощь нам!
«А, вздумали подражать древним мученикам?» – подумал Феофил и, видя, что один из бичевавших, услышав из уст монаха молитвы, стал бить менее решительно, принялся громко подзадоривать:
– Так-то ты меня любишь?! Дай хорошенько!
Бившие удвоили старание, а немного спустя, по знаку императора оставив старшего брата, принялись за младшего. Феодор после истязания едва держался на ногах и, вероятно, упал бы, если бы стражники, надев на него хитон с мантией и сунув в руки параман и пояс, не поддерживали его с обеих сторон. Избиваемый Феофан тоже стал молиться вслух, восклицая:
– Святая Богородица, Ты бежала в Египет, унося Сына… Призри на меня, мучимого ради подобного Твоему бегства! Господи, Господи, «избавляющий нищего от руки сильнейших его», не удали помощь Твою от нас!
Когда второй монах был избит подобно первому, император велел увести обоих в тюрьму. Братьев снова повели тем же путем, но в Юстиниановом триклине их нагнал логофет дрома и приказал возвращаться. Палестинцы едва волочили ноги, и Феофан поглядел на логофета почти с отчаянием, подумав: «Неужели еще не конец?» Однако их не повели опять к василевсу, но, препроводили в одно из небольших помещений при Лавсиаке, где Арсавир, оглядев монахов, сказал с усмешкой:
– Ну что, я вижу, вам не очень понравился прием у августейшего? Зато теперь, думаю, вы будете с большей готовностью отвечать на вопросы. Почему вы радовались смерти императора Льва? Говорите! И почему, взыскав у него убежища, вы не преданы одной с ним вере?
– Мы не радовались смерти Льва и не искали у него убежища, – ответил Феодор. – Но мы не опустимся до того, чтобы отвергнуть или изменить веру из-за вас, меняющихся в угоду времени!
Арсавир смерил их взглядом.
– Вот как! «Исповедники»! – он презрительно скривился. – Ну, положим. Так что же, значит, вы пришли сюда не к государю Льву?
– Конечно, нет, – сказал Феофан, – но к царствовавшему до него.
– Хм… Ну, ладно, ладно…
Логофет вышел, не сказав больше ни слова, а братьев повели в Преторий; на улице уже стемнело.
18 июля их привели к эпарху. Тот пригрозил им мучениями, сказал, что начертает им лица и отдаст в руки арабов, и призвал принять «общую веру Церкви» и согласиться с императором. Тут же стоял и Христодул со своим отцом-протоспафарием.
– Нет, – ответил Феодор, – мы никогда не осквернимся общением с теми, кто изменил христианской вере, отвергнув образ Христов!
– Да хоть бы ты, господин эпарх, нас пугал бесчисленными смертями! – воскликнул Феофан. – Убить ты нас всё равно можешь только один раз, зато мука или блаженство по смерти бесконечны. Неужели ты думаешь, что ради похвалы императора и временного успокоения мы согласимся изменить Христу, чтобы потом пойти на вечные мучения?
– Тем более, – добавил Феодор, чуть улыбнувшись, – что мы уже, как видишь, стары и долго всё равно не проживем. Твои посулы имели бы еще какой-то смысл, если б мы были молоды, хотя, – тут он взглянул на Христодула, – юношам тоже неплохо бы думать о путях, которые они выбирают!
Христодул смутился. Его отец, видимо, стало жаль монахов, и он сказал эпарху:
– Да ведь эти люди никогда не поклонялись иконам! Просто когда с ними что-то там случилось – не знаю, что, – они пришли сюда…
– Отойди отсюда, – сурово сказал ему Феодор. – Ты не знаешь, ни о чем говоришь, ни что утверждаешь!
Эпарх оглядел палестинцев и вдруг переменил тон на более ласковый:
– Отцы, вступите в общение один раз, один только раз, и другого мы не требуем! Вот, я пойду вместе с вами в церковь, а потом ступайте, куда вам угодно.
Феодор рассмеялся:
– Ты, господин эпарх, говоришь что-то подобное тому, как если бы некто, желая завлечь другого, сказал: «Я ничего не прошу у тебя, только отрубить тебе голову, а после этого иди, куда хочешь». Знай же, что для нас уже и то бесчестие, когда вообще кто-либо осмеливается склонять нас к общению, в которое ты, сам не понимая как, увещеваешь нас вступить. И таковой не издалека убедится, что легче ему землю поднять наверх, а небо свести вниз, чем нас отвратить от благочестия!
Эпарх пожал плечами и, взяв у Христодула лист с текстом ямбов, велел приступить к начертанию. Тут только палестинцы и поняли, что их ждет. Несмотря на то, что их раны от бичей еще были воспалены и причиняли страдания, монахов растянули рядом на двух скамьях головой к окну, в изголовье на столике поместили листок с ямбами, и двое служителей Претория железными иглами принялись накалывать палестинцам на лицах текст стихов. Истязание длилось несколько часов и было столь мучительным, что монахи несколько раз теряли сознание. Христодул с отцом ушли почти сразу: протоспафарий, по природе мягкосердечный, не мог без слез смотреть на это начертание, а Христодула охватило смятение при виде того, как «увековечивается» его сочинение…
Конец начертанию положил заход солнца, когда в помещении стало темно, а при светильниках проделывать столь тонкую работу было не так удобно, да и сами исполнители казни уже порядком устали, хотя эпарх и был недоволен, что начертание не завершено. Когда монахов, с распухшими и обезображенными лицами, отвязали от скамей и уже собирались увести, Феодор сказал эпарху и всем бывшим в помещении:
– Знайте, что, увидев эти надписи, херувимы отступят и пламенный меч, отвратившись, откроет нам вход в рай, устыдившись наших лиц, вот так позорно начертанных ради общего Владыки! Ибо от века с нами одними сотворили это, и было придумано это новшество! Хотя вы и провозгласили «человеколюбивыми» всех тех, кто возбезумствовал против нашего божественного догмата… И вы непременно узнаете эти надписи на лице Христа, выставленные вам на прочтение! Ведь Он сказал: «Что вы сотворили одному из малых сих, то вы сотворили Мне».
Эпарх в то же вечер пересказал императору эти слова палестинца.
– Что ж, – Феофил усмехнулся, – если б я знал, что это истинно, я бы начертал так на всем моем народе!
– Э-э… – эпарх растерялся. – Так что же, государь, теперь отдать их агарянам?
– Нет, – ответил василевс после небольшого молчания, – оставь их в Претории.
…Довольно поздним вечером император зашел пожелать жене спокойной ночи. Дети уже спали; Феодора лежала в постели и пыталась читать «Параллельные жизнеописания» Плутарха, но мысли ее витали далеко от книги. История с наказанием палестинцев уже несколько дней была предметом обсуждения всего двора, в том числе его женской половины, где монахов жалели, хотя не осмеливались напрямую порицать императора. Феодора и хотела, и боялась поговорить об этом с мужем. Когда он вошел, августа отложила книгу и села на постели. Феофил присел на край ложа, спросил о самочувствии, о том, как вели себя дети, и умолк. Феодора заметила, что он выглядит невесело, и не знала, стоит ли говаривать с ним о том, что в последнее время обсуждали все. Император внимательно посмотрел на жену и усмехнулся:
– Что, хочешь спросить о палестинцах? Сегодня им накололи стихи на лицах, дело сделано.
– Ах! – вырвалось у Феодоры. – Ведь это, наверное, больно?
– Я думаю, – ответил Феофил со странной усмешкой.
– И тебе их совсем не жаль? – робко спросила императрица.
– Жаль? – император встал, отошел к стене, некоторое время рассматривал мозаику на золоченом фоне, изображавшую пастухов с овцами на фоне гор, и повернулся к жене. – Ты ведь когда-то сама говорила, что я жесток, не так ли? Что я тебя никогда не жалел – это ты тоже говорила, не правда ли? А ведь жена – это всё равно что собственная плоть, как сказал апостол. И если уж я свою плоть не щажу, как ты хочешь, чтобы я щадил чужую?
Императрица растерялась. Она смотрела на мужа широко распахнутыми глазами и не находила, что сказать.
– Да, я ведь еретик, антихрист, со мной даже общаться грех, знаешь ли ты об этом, моя дорогая? – он подошел к жаровне, поворошил угли и продолжал. – Я тупой, безбожный и безжалостный тиран, нечестивый боритель, богоненавистник, и все возрадуются в день моей смерти!
Феодора вдруг поняла, что Феофилу больно, и ее захлестнуло ответной болью.
– Нет! – воскликнула она, вставая с постели.
Он взглянул на нее. Она стремительно подошла и бросилась ему на грудь.
– Ты хороший! – в ее глазах заблестели слезы, она провела рукой по его щеке и проговорила. – Ты не жестокий, нет!
– Нет? – спросил он глядя ей в глаза.
– Нет! – она поднялась на цыпочки и поцеловала его, а потом уткнулась носом ему в плечо и прошептала: – Нет, нет!
Они молча постояли, обнявшись, а потом император взял жену на руки, отнес на постель и укутал одеялом.
– Доброй ночи, августейшая, – сказал он с улыбкой.
– Доброй ночи! Только… – она умолкла.
– Что?
– Не отдавай этих монахов агарянам, – попросила Феодора совсем тихо.
– Я и сам уже решил не отдавать их, – улыбнулся император.
23. Дилеммы
(Николай Гумилев)
- Но мы спокойны, мы поспорим
- Со стражами Господня гнева,
- И пахнет звездами и морем
- Твой плащ широкий, Женевьева.
Странное наказание, присужденное двум палестинским монахам, вызвало в Городе множество толков. Иконоборцы находили историю довольно забавной и считали, что император поступил остроумно. Иконопочитатели обвиняли василевса в бесчеловечии и варварстве. Об авторстве стихов говорили разное: одни называли их сочинением самого Феофила, другие считали, что их придумал «проклятый колдун»; редко кто поминал имя их настоящего сочинителя. Синкелл Михаил, узнав о случившемся, написал ученикам ободрительное письмо. «Чту пресвятые и любезные мне лица, – говорилось в нем, – начертанные за святой образ Христов, лобызаю эти одушевленные образы и изображения, уязвленные железом и вычерненные им за воздвигнутый и написанный образ и лик Искупителя моего и Спасителя…»
Хинолаккский игумен, сидевший в той же тюрьме, послал братьям хвалебное письмо, а про императора с гневом подумал, что, видно, напрасно надеяться на то, что «этот окаянный» придет когда-нибудь к разумению истины. Мефодий и не подозревал, что своим содержанием в значительно лучших условиях, чем Михаил и его ученики – игумен сидел в камере с большим окном, и к нему пускали посетителей, хотя позволяли разговаривать только через окошечко в двери – он было обязан не кому иному, как василевсу: Феофил пожалел узника, за более чем десятилетнее заключение в «гробу» превратившегося в живой скелет…
Кассия узнала историю «Начертанных» братьев почти сразу, во всех красочных подробностях, и от потрясения целый день пролежала больная.
Феофил хладнокровно наблюдает, как перед ним бьют по лицу и бичуют двух седовласых монахов! Да еще подзадоривает бичущих! Феофил повелевает выколоть им на лицах издевательские стихи!.. Да разве это возможно?! Как мог он поступить с ними так жестоко? Ведь он не такой! Она же знала, какой он…
Две стороны одного человека, столь противоположные, не вмещались в ее сознание. Каким образом Феофил, которого она знала – умный, утонченный, великодушный, справедливый, благочестивый, если, конечно, не принимать в расчет его ересь, – мог быть Феофилом, который кричал «Дай хорошенько!» и приказал эпарху мучить палестинских монахов таким изощренным способом?..
«А каким образом этот “хороший” Феофил развратил Евфимию и тут же забыл о ней, даже не подумав, как на ней могло сказаться то, что он сделал? – вдруг пришел ей помысел. – Видно, не такой уж он и хороший? Он хороший по отношению ко мне, потому что он меня любит, поэтому он меня жалеет… Евфимию он не любит, вот и не пожалел ее… Впрочем, так ли он пожалел и меня, когда я тут умоляла его не искушать меня?.. Он не тронул нашу обитель из любви ко мне, а других иконопочитателей он не любит, так почему я жду, что он будет их жалеть? Владыку Евфимия засекли не по его ли приказу? Конечно, он хорош во многом, но далеко не во всем… С чего я взяла, что он должен быть совершенством? Не иначе как потому, что я всё такая же влюбленная дурочка, какой была в семнадцать лет! А ведь уже пора образумиться и посмотреть на вещи трезво…»
Трезво – это как? Еретик, тиран, самодур, развратник, жестокий, самоуверенный, мстительный, тщеславный?
Нет!..
Попытки понять не приносили ничего, кроме душевного страдания.
Вероятно, многим из единоверцев Кассии и в голову не приходили подобные дилеммы, но она не завидовала им. Мир не делится на черное и белое, и надо учиться любить живых людей, а не фантазии… Однако сознание этого не облегчало боль. В то же время к боли примешивалась и растерянность: «Получается, я всё-таки не знаю его так хорошо, как мне показалось… Видно, всё-таки одного “платонизма” мало, нужно и общение “устами к устам”, чтобы понять до конца… А этого никогда не будет! По крайней мере, на этом свете…»
Не надо пытаться это понять, – внушала она себе, – не надо об этом размышлять. Лучше просто молиться за Феофила, за Льва, за всех и предавать всё Богу – «и Он сотворит»… Но сердце ныло от недоумения, боли и тоски. Лев тоже ничего не смог объяснить Кассии, он лишь заметил в письме, что император, вероятно, был сильно раздражен против палестинцев, но что именно его так разгневало, Математик сказать не мог. Впрочем, последнюю часть задуманной кары – отдать братьев в руки агарян – василевс всё же отменил, и это, как думал Философ, показывало, что у августейшего действительно был припадок гнева, но быстро прошел. Однако всё это было лишь предположениями и в любом случае мало утешало.
Лев между тем в последние полгода стал писать реже. Возможно, он и не замечал этого, да и где ему было заметить: преподавание, участие в благоукрашении дворца, императорская и патриаршая библиотеки, наконец, общение с василевсом и синкеллом, ставшее гораздо более свободным после перехода Математика к иконоборцам, – живое общение, чей голос, разумеется, звучал громче, чем тихий шелест писем…
Начался декабрь, и Кассия взялась перечитывать жития святых, чья память праздновалась в этот месяц: ей пришла мысль сказать сестрам несколько поучений на основе разных случаев из жизни подвижников. Когда она перечла житие Пяточисленных мучеников, ей захотелось написать в честь них стихиру, тем более что приближался день их памяти – 13 декабря. Однажды днем, когда игуменья была у себя в келье, Анна зашла к ней с письмами, только что принесенными в обитель.
– Взгляни, – сказала Кассия сестре, – я написала стихиру святым Евстратию, Мардарию и прочим, скоро их память, помнишь?
– Да, я очень люблю их житие! Это ведь там Евстратий говорит про Платона и Гесиода?
– Там, да, – игуменья улыбнулась, но как-то невесело, встала и подошла к окну.
Анна взяла лист и прочла:
- «Выше образованности эллинов
- вознесли святые мученики мудрость апостолов,
- книги риторские оставив
- и в рыбарских отличившись,
- ибо в тех – словесное красноречие,
- в богоречии же некнижных
- научились они богопознанию Троицы,
- в нем и молят сохраниться в мире душам нашим».
– Красиво! Но… что это ты вдруг напала на эллинскую образованность?
– А какой от нее прок, Анна? – со вздохом спросила игуменья, и в ее голосе прозвучала досада. – Можно подумать, она кому-нибудь помогла спасти душу! Не чаще ли мешала?
– Мать, ты что? – удивилась Анна. – Что опять случилось? – она с тревогой глядела на сестру. – Ты что, всё расстраиваешься из-за Льва, да?
– Из-за него тоже. Но не только, – Кассия села на кровать и устало откинулась спиной к стене. – Садись, что ли, – Анна села на стул. – Ты водила меня на беседу с философом, а теперь куда поведешь? Теперь идти не к кому, а вопросы остаются… хоть и другие, но разве легче!.. Лучший друг ушел к еретикам. Тот, кто мог бы стать моим мужем – еретик с самого детства. Человек, который был бы для меня лучшим духовным наставником – начальник ереси!.. Зато с моими единоверцами мне сложно дружить, потому что нам, по большому счету, не о чем говорить… А почему не о чем? Потому что я… слишком полюбила всю эту эллинскую образованность, а они читают жития и поучения отцов и тем довольны бывают… Знаешь, мне иногда кажется, что они разумнее меня! А еще они любят рассуждать о том, когда же «Бог поразит нечестивых еретиков», а я тоскую оттого, что не могу встречаться и беседовать с этими самыми еретиками об «эллинских баснях» и обо всем прочем… Один из моих родственников лишен церковного поминовения, потому что общался перед смертью с еретиками, и его запретил поминать не кто иной, как мой духовный отец… которого я каждый день прошу вымолить мне у Бога хоть малюсенькое местечко рядом с той небесной обителью, где он сейчас живет… А ведь он, после того как стал монахом, не читал никаких Платонов и Гесиодов…
Голос игуменьи задрожал, и она умолкла.
– Но ведь отец Феодор сам благословил тебя когда-то изучать философию, а не идти скорей в монастырь, как ты хотела, – сказала Анна. – Значит, он провидел, что тебе предназначен от Бога другой путь! Ты же всегда верила в это, ты сама говорила, что видишь промысел в том, как всё вышло, да и другие говорили тебе об этом – и Лев, и Иоанн! Что ж ты засомневалась? Ведь ничто не изменилось! А если что-то и неприятно, так ведь жизнь не может состоять из одних приятностей, – Анна воодушевилась. – Ты выбрала этот путь, и я думаю, тут как с земными дорогами, когда несколько дорог ведут в один город: каждая идет по своей местности, со своими красотами и трудностями, идущий через горы не увидит моря, а идущий вдоль моря не полюбуется на горы… Может, это иногда и горько, но ведь мы идем по дороге, чтобы в город попасть, а не просто на окружающую красоту поглядеть!
Кассия подняла глаза на сестру.
– Как ты хорошо сказала про дороги!.. Кажется, пора избрать тебя игуменьей вместо меня, а то я совсем перестала что-либо понимать…
– Глупости! Просто иногда и сильные нуждаются в поддержке, пусть и самой слабенькой… Даже Спасителю понадобился Симон Киринейский, чтобы помочь понести крест! А что люди живут в ереси или в грехах, так мы же не знаем, что с ними дальше будет, может, они еще быстрее нас покаются и спасутся!.. Зато, по крайней мере, есть повод молиться! Я вот, знаешь, мать, за себя так никогда не молилась, как иной раз молюсь за других… Даже вот и за моего Михаила, хотя при жизни-то я его не особенно любила…
– Да, ты права… Так что, плохую я стихиру написала, по-твоему?
– Что ты, очень хорошую! Не переделывай, Кассия! Да ведь там, в общем, всё правильно сказано, с другой-то стороны, – Анна улыбнулась.
Когда сестра ушла, игуменья некоторое время сидела, задумавшись, а потом достала тетрадку, куда записывала эпиграммы, раскрыла и написала:
- «Оградою встает друзей любовь.
- Друг друга и страна страну спасает».
На следующий день Кассия перечитала в Послании апостола Павла к римлянам то место, где говорилось о рождении Ревеккой Иакова и Исава: «Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого – дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от Призывающего, – сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего, как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел…»
Эти слова всегда казалось ей страшными, а теперь она совсем перестала понимать их. Толкование Златоуста, что Бог предвидел добродетель Иакова и злонравие Исава, а потому одного возлюбил, а другого нет, мало что объясняло. Может быть, легко так рассуждать, когда речь идет о явных святых или злодеях, но ведь большинство людей не таковы, в них есть и хорошее, и плохое… Притом многие святые учили, что жизненные бедствия и даже внешне «дурная» смерть – еще не свидетельство гнева Божия, а благополучная жизнь и «красивая» кончина – не свидетельство Его благоволения…
«Итак, не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает…»
Когда-то Кассии думалось, что эти слова применимы к убитому императору Льву, и ей это казалось понятным и справедливым. Сейчас, когда она думала, что то же самое может случиться с Феофилом, ей уже так не казалось. Вроде бы понятный ответ на вопрос, зачем живут злодеи или приносящие вред Церкви… те же иконоборцы. Они гонят верных, и через это имя Божие «проповедуется по всей земле», возвеличиваясь во святых. А потом «ожесточившиеся» получают справедливое возмездие… Ожесточившиеся или ожесточенные? Ведь это не одно и то же!..
Златоуст говорил, что человек благоразумный, если иногда и грешит, «скоро исправляется и, хотя бы ему и случилось закоснеть в пороке, не будет презрен, но всеведущий Бог скоро вспомнит о нем», а «человек развращенный, хотя бы и сделал что-нибудь по-видимому доброе, погибнет, потому что делает это с дурным расположением». Но что значит – «с дурным расположением»? Тот же Феофил верит в иконоборчество, как в истину, и защищает его потому, что верит в его истинность – дурное ли это расположение?..
«Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников?..»
Был ли император Лев «сосудом гнева»?.. Ведь, действительно, он до самой своей смерти преследовал православных, и через него Господь явил «богатство славы Своей на сосудах милости» – исповедниках веры, воссиявших в то гонение. Но… что же Феофил? Неужели то же самое? Неужели только для того он и живет, чтобы просияли исповедники, как братья Феодор и Феофан, как игумен Мефодий или синкелл Михаил, а сам государь – сосуд погибели?.. Это зависит от него, конечно, от того, покается ли он… Ведь покаялись же сыновья Льва Армянина!.. Феофил говорил, что это были его лучшие друзья… Неужели он так и останется иконоборцем?..
А Иоанн Грамматик?.. А Лев?!..
«Изделие скажет ли сделавшему его: “зачем ты меня так сделал?”…»
Кассия вспомнила, что игумен Феодор говорил ей о природной горячности нрава, из-за которой страсть мучила ее гораздо сильнее, чем более «холодных» людей. Да, иногда она была готова роптать: «Зачем Ты меня такой сделал?» Но раз сотворил – значит, так было нужно…
«Если в отношении себя мы не можем роптать, – думала она, – то тем более в отношении других, ведь мы знаем о них так мало или вообще ничего… Мне казалось, что я знаю Феофила, почти как себя, а теперь не понимаю, как он мог сделать то, что сделал – значит, я всё-таки не всё знаю, что в нем. Да и возможно ли это? “Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем”… и кроме Бога. Мы не верим Богу, не доверяемся Ему, мы хотим сами печься о наших ближних, думаем, что лучше знаем, когда и как их помиловать… А надо просто предать всех Богу и молиться…»
В тот же вечер она написала еще одну стихиру Пяточисленным мученикам:
- «Пятиструнную лиру и пятисветный светильник Божией Церкви
- символически воспоем и благочестно восхвалим.
- Радуйся, прекрасно Богом зачисленный в небесное воинство,
- и Зачислившему тебя в войско угодивший,
- в риторах ритор, Евстратий богомудрый!
- Радуйся, вверенный тебе от Бога талант возрастивший во множество,
- Авксентий блаженный!
- Радуйся, прекраснейшаяветвь божественного благородия,
- Евгений богомудрый!
- Радуйся, цветущий внешностью,
- разумом же наипрекраснейший, и обоюдоискусный,
- всецело обитающий в божественных горах,
- всеблаженный Орест!
- Радуйся, сияющий и прозрачныйжемчуг,
- мучения тяжкие радостно претерпевший,
- Мардарий непобедимый!
- Радуйся, равночисленных мудрым девам хор,
- коих умоляем избавить всякого гнева и скорби
- и сотворить сопричастниками неизреченной вашей славы
- почитающих ежегодную вашу память».
Кассия тихонько спела готовый гимн и подумала, что писала его с мыслью о том, чтобы мученики помолились за тех, кого она любила и за кого опасалась, что они могут умереть в ереси – и вот, стихира получилась гораздо красивее, чем первая, написанная с как будто бы благочестивой мыслью о бесполезности эллинской образованности для спасения души.
«Что ж, – подумала игуменья, улыбнувшись, – видно, так тому и быть! Это мой путь, его открыл передо мной Господь, и не стоит рассуждать, лучше он или хуже путей моих единоверцев. Главное, что он – мой, – Кассия подняла глаза на икону. – Господи, помоги мне пройти этот путь достойно! Вразуми всех отступивших от истинной веры, ведь Ты хочешь всем спасения! И да будет воля Твоя на земле, как на небе!»
…Патриарх умирал – медленно и почти безболезненно угасал, как догорающая свеча. За три дня до Рождества Христова он захотел исповедаться у синкелла, и за Иоанном тут же послали в Сергие-Вакхов монастырь.
– Вот, отче, – сказал Антоний, когда исповедь окончилась и игумен преподал ему причастие, – и не заметно, как жизнь прошла… Иные бы сказали, что жизнь моя была завидной, но, хоть я уже и при конце, и вроде бы чего уж теперь, всё равно… А все-таки есть, по крайней мере, один человек, которому я очень завидую! Наш Лев Философ, – патриарх помолчал немного. – Будь это в моей власти, я бы никогда не променял Сфоракий на монастырь и долю преподавателя на патриаршую кафедру! И уж кому я не завидую, так это тебе… Впрочем, ты – другое дело: для тебя это будет очередной опыт, возможно, интересный… Зачем он был нужен мне, я так и не постиг, сказать честно.
– Я тебя понимаю, – кивнул Иоанн. – Но ведь, с другой стороны, святейший, нельзя сказать, что твоя жизнь была скучной с внешней стороны и бесплодной с внутренней?
– Нет, слава Богу.
– А большего можно ли и желать в мире сем? – Грамматик улыбнулся. – Ведь наше дело – «хорошо исполнить свою роль, выбор роли – дело другого».
24. Патриарх
На вопрос, какую пользу принесла ему философия, Аристипп Киренский ответил: «Дала способность смело говорить с кем угодно». …На вопрос, чем философы превосходят остальных людей, он ответил: «Если все законы уничтожатся, мы одни будем жить по-прежнему».
(Диоген Лаэртий)
Патриарх Антоний умер в ночь на праздник Обрезания Господня и был, по собственному завещанию, погребен в Митрополичьем монастыре, где когда-то игуменствовал.
На другой день после его похорон император вызвал к себе синкелла и сказал:
– Тебя дважды обошли, Иоанн, но сейчас судьба, наконец, готова даровать тебе то, что ты получил бы гораздо раньше, если б не известные обстоятельства.
– Судьба в лице тебя, государь?
– Почему бы и нет? – с улыбкой ответил Феофил. – Царь земной есть образ Царя Небесного, не так ли? Лучшего патриарха нам всё равно не найти, да никто теперь и не предложит иного.
– Что ж, не буду говорить, что я не готов или не способен к такому высокому служению, это было бы лицемерием. Но у меня всё же есть вопрос: ты действительно хочешь этого всей душой, августейший?
Император усмехнулся.
– Мне давно не двадцать лет, Иоанн. И я научился смотреть на жизнь проще, потому что она слишком сложна.
– В этом есть мудрость.
– Возможно. Но, по-моему, скорее, стремление не наживать лишних неприятностей.
– И это тоже. Но если у тебя всё еще есть ко мне вопросы, государь, самое время их задать.
– Чародей! – улыбнулся Феофил. – Да, меня иногда занимает один вопрос, и теперь я его всё же задам… На самом деле до того, как я сам пошел на «маневр», я, признаюсь, часто вспоминал твои слова, что Аристотель не назвал бы тебя распущенным, и его рассуждение об отличии распущенного человека от нераспущенного: «Распущенный с необходимостью не склонен к раскаянию, а следовательно, неисцелим»…
– И думал, что я неисцелим?
– Да. Конечно, я был уже достаточно наказан за свое высокомерие! Но тем не менее, у меня остался один вопрос к тебе… Точнее, два вопроса, – император помолчал несколько мгновений. – Скажи… ты очень любил ее?
– Очень. Как больше никогда в жизни.
– Прости! Я виноват перед тобой. Тот разговор, все эти обвинения…
– О, я никогда не сердился на тебя за них государь! Ведь это было так понятно. Но каков твой второй вопрос?
– Какую епитимию ты назначил сам себе? Насчет поста я уже догадался. Молитвы, разумеется. А еще?
Иоанн выставил вперед согнутую руку.
– Сожми здесь, государь, покрепче.
Феофил, немного удивленный, стиснул руку синкелла чуть повыше локтя и тут же выпустил: сквозь шерстяной хитон он ощутил что-то жесткое и колючее. «Власяница, и очень грубая!» – догадался он.
– Я ношу ее тринадцатый год и в ней надеюсь быть похороненным, – игумен убрал руку под мантию. – Я знаю, государь, ты склонен думать, что я брал от жизни много и почти ничем не платил за это. Но на самом деле я внес предоплату, когда тебя еще не было на свете. И те вещи, что случились позже и особенно были тебе неприятны, тоже не достались мне бесплатно, как видишь.
– Что ж, – Феофил улыбнулся, – я получил ответы на свои вопросы. И я действительно хочу, чтобы ты был патриархом, Иоанн. Всей душой.
Смерть Антония не вызвала никакого движения ни в церковных, ни в мирских кругах: все хорошо понимали, что вопрос о преемнике предрешен уже давно, и решение не могло вызвать возражений ни у кого, кроме иконопочитателей, но их мнения в расчет, разумеется, никто не думал принимать. 16 января на южных галереях Святой Софии состоялся собор епископов, и, по обычаю, было предложено три кандидата в патриархи. Все понимали, что это было лишь формальностью, но император пожелал, чтобы избрание совершалось по чину. Хартофилакс записал и подсчитал поданные голоса, после чего с епископами Хрисополя и Никеи отправился к василевсу и доложил о результатах собора. Они услышали от императора то, чего ждали все:
– Я желаю, чтобы был Иоанн.
Немедленно те же трое в сопровождении нескольких высших членов Синклита, указанных василевсом, были посланы в Сергие-Вакхов монастырь. Игумена нашли в библиотеке, и когда все поприветствовали друг друга, хартофилакс вышел вперед и торжественно объявил:
– Державный и святой наш император и самодержец и божественный, священный и великий собор приглашают твое святейшество на высочайший престол патриаршества Константинопольского!
– Благодарю великого самодержца и императора и священный собор и покоряюсь их божественному и поклоняемому определению, – ответил синкелл и склонил голову.
Наречение нового патриарха состоялось наутро в храме Святых Апостолов, в присутствии епископов, всего городского клира, синклитиков и множества народа. На другой день состоялся торжественный прием в тронном зале Магнавры, куда явились все бывшие в Городе архиереи, чины патриархии, Синклит в полном составе и клирики. Император, одетый в скарамангий и пурпурный плащ с золотой каймой, выйдя из внутренних покоев, встал перед собравшимися и, когда все воздали ему поклонение и славословия, сказал:
– Божественная благодать и наше от нее царство производит благоговейнейшего сего, – он указал на предстоявшего здесь же Иоанна, – в патриарха Константинопольского!
– Достойнейший после достойного! – раздались возгласы, и все присутствовавшие выразили одобрение выбору василевса.
Император сам подвел будущего патриарха по очереди к препозиту, первенствующим кувикулариям, силенциариям, и те принимали от Иоанна благословение. Затем препозит и один из силенциариев, взяв избранного под руки, в сопровождении чинов патриархии отвели его в патриаршие палаты, а император возвратился в свои покои. Рукоположение Иоанна в епископа и возведение на патриарший трон было намечено на ближайшее воскресенье.
Сергие-Вакховы монахи плакали – одновременно от радости за игумена и от скорби, что он покидает обитель. Вернувшись в монастырь после наречения, Иоанн простился со всеми, каждому преподав наедине краткие наставления и перед всеми сообща произнеся пространное слово, а относительно нового игумена сказал, что братия вольны избрать, кого хотят. Но монахи принялись умолять, чтобы он указал хотя бы троих из тех, кто, по его мнению, достоин стать его преемником, и тогда Иоанн назвал эконома, старшего больничника и старшего каллиграфа. Вечером, когда все уже разошлись по кельям, к игумену постучался Кледоний, его келейник, который ни разу за все эти годы так и не побывал в кельях настоятеля, хотя выполнял разные его частные поручения и вел от его имени кое-какую переписку. Иоанн, открыв, оглядел взволнованного монаха и сказал:
– Что ж, брат, входи, – и впустил его к себе.
Как только игумен затворил дверь, Кледоний бросился ему в ноги:
– Отче, возьми меня к себе туда келейником!
– Ты, Кледоний, – улыбнулся Грамматик, поднимая его с пола, – уже сколько лет мой келейник, вне кельи пребывающий, неужто еще не надоело?
– Да разве мне твоя келья нужна, отче! – со слезами сказал монах. – Я столько лет прожил «среди бессмертных благ»… Когда я думаю о том, что теперь это кончится, мне хочется умереть.
Иоанн внимательно посмотрел на него: у Кледония был такой вид, словно ему сейчас должны были зачитать решение суда, и он не знал, какое – о казни или о помиловании. Этот монах был из числа тех братий, которые не просто жили под руководством Грамматика всё то время, пока он был игуменом, но доверились ему совершенно, открывая не только все свои дела, но и всякий помысел, пожелание, скорбь и следовали его указаниям и советам беспрекословно. Когда Кледоний стал келейником Сергие-Вакхова игумена, ему шел двадцать первый год, и многие из братий про себя удивлялись выбору настоятеля: этот довольно легкомысленный молодой человек из очень богатой семьи поступил в монастырь не столько по своему желанию, сколько по воле родителей, обещавших посвятить сына на служение Богу еще до его рождения, был несколько болтлив, нравом прост, характером открыт, образован довольно прилично, но в основном по части грамматики и риторики, любил поесть и поспать, и было непонятно, что в нем особенного нашел игумен – казалось, между ними было так мало общего… Но за прошедшие с того дня два десятка лет, проведенных под руководством Иоанна, Кледоний так изменился, что прежний игумен обители, принявший его семнадцатилетним розовощеким юношей и частенько налагавший на него епитимии за разные проступки, сейчас вряд ли узнал бы его: бывший обжора и соня стал настоящим аскетом и, хотя сохранил прежнюю простоту, открытость и добродушие, однако знал «время молчать и время говорить», был начитан как в отцах Церкви, так и в эллинских философах и настолько преуспел в умной молитве, что игумен даже поставил под его начало нескольких молодых послушников для обучения молитвенному деланию.
– Столько лет «жил, как бог среди людей», и не хочешь опять «уподобиться смертным»? – с улыбкой спросил Иоанн.
– Нет, куда мне до этого! – тихо проговорил Кледоний. – «Как бог среди людей» живешь ты, отче, а я… мне бы просто быть рядом… как верная собака… Мне и этого довольно, – он поднял глаза и добавил почти с отчаянием: – Ты ведь знаешь, отче, что я говорю не из лести и не по пристрастию!
– Знаю. Хорошо, брат, я возьму тебя в патриархию.
Лицо монаха просияло.
– Благодарю, отче! – и он низко склонился перед будущим патриархом.
Воскресным утром 21 января император совершил торжественный выход в храм Святой Софии. Облачившись в Золотом триклине в расшитый золотом плащ, Феофил в сопровождении препозитов, кувикулариев, папии и прочих чинов кувуклия проследовал в Магнавру, по обычаю останавливаясь в разных залах, чтобы принять приветствия и поклонение придворных чинов, а из Магнавры прошел в южные катехумении Великой церкви. Воздав поклонение Богу в своей молельне, переоблаченный веститорами в парадный скарамангий, император сел дожидаться времени малого входа литургии.
Между тем Иоанна уже облачили в алтаре во все епископские одеяния, кроме омофора, и будущий патриарх произнес перед всеми исповедание веры: оно начиналось символом веры, далее принимались догматы шести вселенских соборов, а также Иерийского собора, состоявшегося при Константине Исаврийце, собора в Великой церкви, бывшего при Льве Армянине, и святоотеческие писания; ставленник обещал хранить церковные каноны, апостольские и отеческие предания. «Верно и подписано моей рукой, – так кончалось исповедание, – в месяце январе, 15-го индикта 6345 года. Иоанн иеромонах, милостью Божией нареченный Константинополя, Нового Рима, и вселенский патриарх». После этого епископы поклонились ему и, отойдя на свои места, надели полные архиерейские облачения, и литургия началась.
Когда препозит доложил, что подошло время малого входа, василевса облачили в белую хламиду, и по витой деревянной лестнице, встречаемый и приветствуемый магистрами и патрикиями, Феофил спустился с галерей. В пропилее препозит снял с него корону, и император с зажженной свечой в руке через Красивые двери вошел в нартекс, где прямо его ожидал нареченный патриарх вместе с клиром.
Иоанн держал крест, архидиакон Евангелие, диаконы несли кадила и тяжелые витые свечи. Император приложился к Евангелию и кресту, и они со ставленником приветствовали друг друга. Будущий патриарх покадил императора, вернул кадило диакону и облобызался с василевсом. Иоанн выглядел спокойным, как всегда, но внимательный взгляд императора отметил, что философ был бледней обычного, и Феофил понял, что Грамматик волнуется. Когда они взялись за руки, чтобы идти к царским дверям, ведшим из нартекса в храм, император чуть сжал пальцы Иоанна и боковым зрением заметил, как мгновенная, почти неуловимая улыбка пробежала по его губам. У царских дверей они остановились, император, снова приняв от препозита свечу, трижды поклонился пред вратами, а нареченный патриарх тихо прочел входную молитву:
– Владыка, Господи Боже наш, уставивший на небесах чины и воинства ангелов и архангелов на служение Твоей славы, сотвори со входом нашим быть входу святых ангелов, сослужащих нам и славословящих Твою благость. Ибо подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков!
– Благослови, владыка, святой вход! – сказал протодиакон.
– Благословен вход святых Твоих всегда, ныне и присно, и во веки веков! – произнес Иоанн, осеняя крестным знамением вход в неф.
Когда протодиакон, подняв большое Евангелие в золотом окладе, украшенном драгоценными камнями и жемчугом, сделал им крест, Феофил мысленно в который раз изумился, как он поднимает такую тяжесть да еще умудряется возглашать столь громогласно:
– Прему-у-удрость!
Начатое Иоанном и подхваченное всем клиром, грянуло медленное: «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу…» Архиереи и все клирики вошли в храм боковыми дверями, после чего центральными в Великую церковь вступили нареченный патриарх с императором, снова взявшись за руки; процессию замыкали кувикуларии василевса. Храм был залит светом и полон народа. Синклитики и прочие чины уже стояли на своих местах по правой стороне согласно рангам и, когда император с будущим патриархом проходили мимо, направляясь к алтарю, хором произносили:
– Да продлит Бог святое царство ваше на многие и долгие времена! – а певчие пели многолетие.
Пройдя посреди храма и обойдя с правой стороны амвон, Феофил с Иоанном взошли на солею и остановились перед святыми вратами. Нареченный патриарх, произнеся псаломские слова: «Войду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страхе Твоем», – вошел в алтарь и поклонился перед престолом, а василевс, стоя пред вратами на вделанной в пол круглой порфировой плите, взял у препозита свечу, трижды поклонился и, вернув свечу препозиту, тоже вошел в алтарь. Всё это император проделывал много раз, но сегодня у престола Святой Софии стоял человек, которого Феофил больше всего хотел видеть здесь, и сердце его стучало в радостном волнении.
Архиереи, по приглашению хартофилакса, входили в алтарь южной дверью, кланялись нареченному патриарху и вставали по чину. Всем были розданы зажженные свечи, и после пения «Святый Боже» началась хиротония. По обычаю, ее возглавил митрополит Ираклийский. Он встал на ступеньку перед алтарем, Иоанна подвели к нему справа три митрополита, а слева хартофилакс подал хартию, и рукополагавший, запечатлев рукополагаемого крестным знамением, прочел:
– Избранием и испытаним боголюбивых митрополитов, архиепископов и епископов, божественная благодать, всегда немощное врачующая и оскудевающее восполняющая, проручествует Иоанна, боголюбивого иеромонаха, во епископа богоспасаемого Константинова Града, помолимся же о нем, да приидет на него благодать Всесвятого Духа!
– Господи, помилуй! – трижды пропели все бывшие в алтаре.
Ираклийский митрополит раскрыл Евангелие, положил его на склоненную голову Иоанна и возложил сверху руку, возложили руки и прочие архиереи, а Ираклийский, вторично знаменав рукополагаемого крестом, прочел первую молитву:
– Владыка Господи Боже наш, законоположивший нам через всехвального Твоего апостола Павла степеней и чинов чин, чтобы служить и литургисать честным и пречистым Твоим Тайнам во святом Твоем жертвеннике: во-первых апостолов, во-вторых учителей, в-третьих пророков, – Сам, Владыка всех, и сего избранного и сподобившегося придти под евангельское иго и к архиерейскому достоинству, через рукоположение нас, соприсутствующих здесь соепископов и сослужителей, нашествием и силою и благодатью Святого Твоего Духа укрепи, как укрепил Ты святых апостолов и пророков, как помазал царя, как освятил архиереев, и непорочно его архиерейство покажи, и всякой честностью украсив, свята представи, да достойно просит он того, что ко спасению народа, и да послушаешь Ты его. Ибо освятилось Твое имя и прославилось Твое царство, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков, аминь!
Никейский митрополит произнес ектению, а все архиереи на каждое прошение отвечали: «Господи, помилуй!» – после чего Ираклийский владыка, не снимая руки с головы Иоанна, прочел вторую молитву рукоположения и, в третий раз перекрестив рукополагаемого, сняв с его головы Евангелие, положил обратно на престол и возложил на новорукоположенного омофор, возгласив:
– Достоин! – и то же спели сначала трижды в алтаре все епископы, а затем все бывшие в храме.
Ираклийский митрополит сошел с подножия престола, и его место занял новый патриарх. Иоанн положил руку на престол, и рукоположивший его подошел уже как подчиненный, поцеловал престол и руку патриарха и дал ему целование, то же по очереди сделали и все остальные архиереи. Император между тем, пройдя мимо горнего места, вошел в молельню при алтаре, где стояло большое серебряное Распятие, и со свечами в руках трижды поклонился пред ним, принося благодарение Богу за дарование нового патриарха, после чего поздравил новорукоположенного. Его оставалось посадить на престол, и два первенствующих митрополита возвели Иоанна под руки на горнее место и трижды усадили на патриарший трон, каждый раз возглашая: «Достоин!» – и этот возглас трижды пелся в алтаре и вне его. Наконец, было пропето многолетие императору и патриарху, и протодиакон произнес:
– Премудрость, вонмем!
Патриарх, стоя на горнем месте, возгласил, благословляя народ:
– Мир всем!
– И духу твоему! – ответили все епископы и иереи, а затем то же самое воскликнул народ в храме.
Феофил ощутил, как на глаза у него наворачиваются слезы. Началось чтение Апостола, и литургия продолжилась обычным порядком, теперь ее возглавлял новый патриарх.
Императрица не смогла присутствовать на торжествах: она ожидала родов, и действительно, на другой день произвела на свет девочку. Снова дочь! Феодора уже сама была не рада такому обороту событий и ожидала прихода мужа даже с некоторым страхом. Император, узнав о рождении девочки, сказал:
– Слава Богу! – а про себя подумал: «Какой-то рок!»
Но жизнь научила его терпению, поэтому опасения августы были напрасны: если муж и был недоволен, то никак не выказал этого. Новорожденная удивила всех тем, что у нее, в отличие от сестер, стали расти белокурые волосы, а глаза оказались такими же голубыми, как у императорской сестры. Девочку решили назвать Пульхерией.
– В переводе с латыни значит «прекрасная», – объяснил Феофил жене.
После рождения пятой дочери император почти целую неделю ходил задумчивый, а за десять дней до начала Великого поста вызвал к себе Кринита и сказал:
– Господин Алексей, я хочу задать тебе один важный вопрос, отвечай честно.
– Клянусь, государь, я буду говорить только правду! – с жаром ответил молодой человек.
– Как ты относишься к Марии, моей дочери?
Муселе вздрогнул от неожиданности, на его щеках выступил румянец.
– Государь, я… – проговорил он и умолк.
– Ты обещал говорить правду.
Алексей набрал побольше воздуха, словно собирался нырнуть, и выдохнул, глядя в пол:
– Я люблю ее, государь.
– Хорошо. А она тебя?
Кринит, чуть осмелев, взглянул на императора: глаза Феофила улыбались.
– Смею надеяться, что она… тоже…
– Алексей, ты ведь храбрый воин и хороший полководец, – сказал василевс, – а тут робеешь, будто новобранец. «Смею надеяться»!.. Вот что: выясните-ка друг с другом этот вопрос, а послезавтра я хотел бы услышать от вас более четкий ответ. Если я его услышу, то после Пасхи святейший обвенчает вас.
– О, государь! – только и мог сказать Муселе.
Следующий вечер император, как это часто случалось зимой, проводил с книгой перед камином. Было уже довольно поздно, и Феофил как раз закрыл рукопись и встал, собираясь затвориться в своей молельне, когда раздался тихий стук в дверь.
– Да! – сказал василевс.
В комнату вошла Мария, закрыла за собой дверь, подбежала к отцу и обняла его.
– Папа! – она смотрела на него большими темными глазами, полными счастья, не замечая, что по ее щекам текут слезы. – Я уже говорила тебе, что ты самый лучший папа в мире… Но ты не просто лучший, ты – само совершенство!
– Совершенством быть страшновато, – улыбнулся Феофил, погладив дочь по голове. – Просто иногда даже героев бывает нужно ободрить, а это можно сделать, и не будучи совершенством.
Через три дня Алексей Кринит был помолвлен со старшей дочерью императора. Венчание назначили на первое воскресенье после Пасхи.
С началом поста императрица собралась на исповедь к новому патриарху, решив не нарушать традиции, хотя по-прежнему робела перед Иоанном. Они встретились в часовне Святого Феодора при Золотом триклине. Августу особенно мучил вопрос о том, почему Бог не дает им с Феофилом сына. Если прежде она опасалась, что после рождения наследника муж совсем ее «бросит», то теперь она, напротив, стала бояться, что он это сделает из-за ее неспособности этого наследника родить. Правда, она не знала, как высказать свое опасение, чтобы при не углубляться в вопросы слишком личного свойства, которые она с прежним патриархом никогда не обсуждала и лишь намеками затронула единственный раз в разговоре с Математиком. «Ладно, будь, что будет! – подумала она, наконец. – Скажу, что скажется, а там…»
– Я всё думаю, почему у нас рождаются только девочки, – сказала Феодора после краткой исповеди. – Даже роптать начинаю… Я боюсь… что Феофил станет ко мне плохо относиться, раз я не могу родить сына, – августа чуть покраснела.