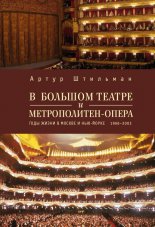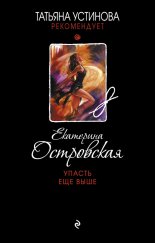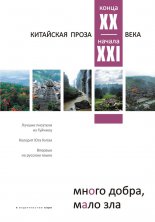Кассия Сенина Татьяна

– И больше ничего?
– Нет… То есть… Он еще добавил, что… императору… не отказывают…
«Простые мысли и читать нетрудно! – подумал Феофил, чуть вздрогнув. – Ну, что ж…»
– И ты с этим согласна, Евфимия? – спросил он, сбрасывая длинный пурпурный плащ.
Кувикулария побледнела, подняла глаза и увидела, что император одет только в одну тонкую полупрозрачную нижнюю тунику без рукавов, длиной чуть выше колен, простую, не украшенную никаким шитьем или узором. Краска снова бросилась в лицо Евфимии, она прижала руки к груди, губы ее приоткрылись, но что-либо произнести она, видимо, была не в силах. Вдруг ноги ее подкосились, и она упала на колени. Феофил смотрел на нее всё так же пристально.
– И чего ты у меня просишь, госпожа Евфимия? – спросил он чуть насмешливо. – Чтобы я отпустил тебя или наоборот? Скажи-ка! Обещаю, что исполню твою просьбу!
По щекам девушки потекли слезы. «А я жесток!» – подумал Феофил.
– Встань! – сказал он.
Евфимия поднялась медленно, словно во сне.
– Подойди, – приказал император.
Она подошла, глядя в пол, и было видно, что ноги не слушаются ее. Феофил взял ее за подбородок и посмотрел ей в глаза долгим взглядом, а потом медленно нарисовал кончиками пальцев волнистую линию на ее щеке, а затем от уха вниз по шее, провел рукой по плечу, прикоснулся к груди, ощущая, как дрожь волнами проходит по телу девушки, и отступил на шаг.
– Так как, госпожа Евфимия, отпустить тебя или нет? Если ты ответишь «да», можешь немедленно уходить тем же путем, каким пришла.
Они продолжали смотреть в глаза друг другу. Евфимия побледнела, опять покраснела и, помолчав несколько мгновений, чуть слышно шепнула:
– Нет.
Феофил усмехнулся, опять шагнул к ней, неторопливо снял с нее мафорий и кинул на стол, поверх книг.
– Ты девушка?
– Да, государь.
– Что ж, тем лучше, – сказал он будто про себя и положил руки ей на плечи.
Не в силах больше выносить его взгляд, она закрыла глаза и в следующий миг ощутила губы императора на своих губах.
Утром, когда Евфимия выскользнула из спальни, Феофил почувствовал отвращение к самому себе. И тут ему пришла в голову мысль, что он поступил бесчестно по отношению к Кассии. Он, будучи не в силах удержать собственную похоть, утолил ее с этой девицей… К тому же у него есть жена, всегда к его услугам… А Кассия? Какое утешение, какое облегчение она может иметь в одиночестве своей кельи?.. Он распалил ее, искусил, соблазнил – и оставил одну пожинать плоды падения… Она осталась там с тем же пламенем страсти, что горит и в нем, – а ведь выхода у нее нет!.. Он вспомнил жар в ее глазах и умоляющий шепот: «Не надо!»…
Феофил встал с постели, надел хитон и заходил от одной стены к другой. Но кто бы на его месте удержался? Нет, никто, никто, это невозможно!.. Ему вновь представилась Кассия в его объятиях, совлекшаяся черных одеяний… Он провел рукой по лбу. Да… что же потом? Ее отлучили бы от причастия, ведь она призналась бы в своем падении… Феофил плохо помнил каноны, связанные с монашескими грехами, но знал, что сроки отлучения там были порядочными. Игуменства она лишилась бы, в монастыре началась бы смута… Пожалуй, его бы тогда легко было закрыть – мечта патриарха! «Поражу пастыря, и рассеются овцы…» А вот ему – что бы было ему?.. Собственно, вот даже сейчас – он совершил прелюбодеяние… А ведь ему ничего не будет за это. Патриарх, конечно, на всё закроет глаза… Патриарх!.. А что сказал бы Иоанн?
Император остановился перед кроватью, где пурпурные простыни впервые за много ночей были совершенно смяты и влажны от пота. Нет, вопрос надо ставить иначе: что скажет Иоанн? В этот миг Феофил ясно понял: исповедь неизбежна и необходима, и открыться он не сможет никому, кроме синкелла. И на вопрос, что скажет игумен, император не знал даже примерного ответа.
А что сказала бы Кассия, если б узнала? Эта мысль поразила Феофила. Он говорил ей, что любит ее одну – и что?.. Он вдруг ощутил себя изменником. Да, он изменил Кассии, не захотел наравне с ней нести последствия того, что сделал, распалив себя и ее… Узнай она, так подумала бы, верно, что хорошо сделала, не уступив его страсти – ни тогда, в Золотом триклине, ни теперь, в своей келье…
Прелюбодей, развратник, «конь женонеистовый»!..
Но она! Она!.. Он снова видел перед собой синие глаза, полыхавшие жаром страсти, бессильно опустившиеся ресницы… Как мог он тогда не поцеловать ее?! Она же сама хотела!..
Что за казнь!.. Феофил тряхнул головой, пытаясь прогнать из мыслей образ Кассии. И тут он вспомнил о Феодоре. Вот третья жертва Киприды! Что делать с ней? Как она страдала, должно быть, всё это время!.. А он уже не сможет дать ей и того, что давал раньше… Всё кончено!.. Какая-то безысходность… Где выход? Куда бежать от этой бури страстей? Монахи спасались от женщин в пустынях и горах… А ему что делать? Уйти во внутреннюю клеть, как учат отцы-аскеты? И что он там найдет, в этой своей клети? Ничего, кроме нее! А нужно, чтобы ее там не было… Но такая аскетика ему не по силам! Феофил прижался лбом к холодному золоту тонкой витой колонны, поддерживавшей полог над ложем, и ему опять вспомнились слова Константина: «Придет время – и на стенку полезешь!» Да, это время пришло…
Выйдя из покоев василевса, Евфимия прислонилась к стене в проходе между столовой и Золотым триклином и попыталась хоть немного придти в себя и собраться с мыслями. Она только что впала в блуд. Лишилась девственности. Отдалась императору, причем совершенно добровольно. Нет нужды, что он выглядел так соблазнительно, а его взгляд и несколько прикосновений каким-то совсем непонятным образом точно свели ее с ума, – всё равно последнее слово он оставил за ней, и она сказала это слово сама, без всякого принуждения… А теперь надо идти прислуживать его жене. Как ни в чем не бывало. Да разве это возможно?! О, Господи!.. Что же делать?.. «Будь мягкой, послушной, услужливой, никогда не пытайся плыть против волн», – так учила ее мать, напутствуя перед отправкой во дворец. И вот, она не пыталась! О, она совсем не пыталась… Она отдалась этой волне страсти, исходившей от василевса, с головой… Всё прошло почти безболезненно – император был с ней очень нежен и осторожен… Господи, она и не подозревала, что такое бывает между мужчиной и женщиной!.. Но что теперь?!..
Евфимия не любила долго задумываться над случавшимися неприятностями; еще в детстве, когда она падала или больно ударялась обо что-нибудь, она редко плакала, сразу вставала и продолжала путь, только упрямо сжимала губы. И сейчас у нее не было никакого желания рвать на себе волосы, бить себя в грудь или совершать другие не менее бесполезные действия. Что случилось, то случилось, а теперь… надо идти исполнять обязанности по службе. А там, может, подхватит другая волна, и станет понятно, что делать… По крайней мере, ей всё равно ничего не придумать сейчас! Не бежать же из дворца! А раз так, надо идти к августе.
«Но почему я?!..» Это было непонятно. Евфимия, конечно, знала, что она красива, но прекрасно понимала, что императрица красивее, поэтому внезапное увлечение василевса казалось странным – тем более странным, что, как девушке было известно, Феофил вовсе не отличался легкомыслием. За те дни, что Евфимия прослужила во дворце, она успела узнать от других кувикуларий, что в сентябре у августы произошла размолвка с мужем и с тех пор дело не уладилось; но в чем причина ссоры, никто не знал, не было даже никаких правдоподобных догадок.
Быть может, ключ к разгадке – то имя, которое император произнес в полудреме сегодня утром, когда она, проснувшись и обнаружив себя лежащей рядом с мужчиной, едва не подскочила на постели, только в следующий миг вспомнив, каким образом тут очутилась?..
Евфимия переоценила свои силы. Когда она оказалась в покоях женщины, с чьим мужем только что спала, она не смогла делать вид, будто ничего не произошло. Императрица, заметив, что кувикулария то краснеет, то бледнеет и вообще словно охвачена лихорадкой, спросила, уж не заболела ли она, намереваясь отпустить ее. И вдруг Евфимия умоляюще сложила на груди руки и сказала:
– Государыня, позволь мне поговорить с тобой наедине!
Когда они с Феодорой закрылись в спальне августы, девушка помолчала, собираясь с духом, пыталась подобрать слова, но так и не сумела, упала в ноги императрице и выдохнула:
– Сегодня ночью я была у государя.
– Что?!.. – Феодора смотрела на нее, не веря своим ушам.
Но Евфимия явно не лгала. Императрица схватила ее за руку и подняла с пола.
– Ты была у государя? Он что, сам позвал тебя? Сам?!..
Девушка залилась слезами и, всхлипывая, с трудом рассказала всё, как было, и прошептала:
– Государыня, пощади меня! Я не знаю, как это могло случиться… почему государь захотел… Мне даже показалось…
– Что? Говори же!
– Что он словно… вовсе и не обо мне думал, когда… – Евфимия покраснела и замолкла.
– Не о тебе?! А о ком? Что он говорил? Он говорил что-нибудь?
– Ничего такого… Но под утро… я слышала, как во сне он… произнес имя…
– Какое?
– Кассия.
У Феодоры всё оборвалось внутри. Она внимательнее оглядела Евфимию и вдруг поняла, кого ей напомнила кувикулария при знакомстве: это сходство по фигуре, оттенку глаз и цвету волос – Феодора внезапно вспомнила, какого цвета волосы были у Кассии, – именно оно привлекло Феофила. Выходит, на самом деле он хотел не Евфимию… Но что же это значит? Значит, Кассия… отказала ему? И он теперь пытается найти замену… Но что же там случилось, когда он был у нее в монастыре? Феодора чуть не топнула ногой. Неужели она никогда не узнает, что там у них произошло?!..
– Государыня, – еле слышно сказала Евфимия, – боюсь, я больше не смогу… служить здесь…
– Да, конечно. Можешь сейчас же собираться. Я скажу Софии… что ты не сошлась с некоторыми кувикулариями и тебе тяжело здесь служить.
– Благодарю, августейшая! – девушка опять упала ей в ноги.
Когда Евфимия ушла, Феодора стиснула руки и некоторое время стояла неподвижно, а потом тряхнула головой:
– Нет! Я должна это узнать!
…Пост подходил к концу. Императрица, узнав от своего препозита, что император спрашивал о Евфимии накануне ее грехопадения, выжидала, не захочет ли Феофил еще раз встретиться с ней. Но василевс поинтересовался судьбой кувикуларии только спустя три недели после того, как лишил ее невинности, спросив у препозита августы, служит ли еще Евфимия во дворце. Услышав, что она уволена, император усмехнулся и заметил:
– Прекрасно, я так и думал.
По-видимому, он вовсе не собирался продолжать эту связь, но попыток примирения с женой тоже не предпринимал и с каждым днем становился всё мрачнее – пожалуй, он вообще никогда еще не бывал настолько не в духе, чтобы это так бросалось в глаза окружающим, как теперь. Рождество вышло грустным, даже суровым, несмотря на то что богослужения, церемонии, поздравления и приемы шли заведенным порядком и Дендрис был в ударе, так что над его шутками и выходками за праздничным обедом смеялись даже самые сдержанные из придворных… А император молча пил вино и изредка усмехался, но его усмешка была такой мрачной, что в конце концов шут сел на пол у его ног и всем своим видом изобразил глубокую печаль. Феофил потрепал его по голове и приказал налить всем еще вина…
На другой день после Рождества императрица в сопровождении небольшой свиты отправилась в Кассиину обитель. Когда она с несколькими кувикулариями вступила во врата монастыря, игуменье тут же доложили, и Кассия сразу вышла из библиотеки. Феодора смотрела, как она подходит – не медленно, но и не торопясь, изящная, тонкая, легкая, – и ощущала холодок в груди.
– На многие лета да продлит Господь ваше царство! – сказала игуменья и поклонилась императрице. – Чем мы, смиренные, обязаны столь высокому посещению?
– Поговорить нам нужно, мать, – ответила Феодора, не спуская глаз с лица соперницы. – И… я хотела бы взглянуть на твою келью.
– Хорошо, государыня, – ответила Кассия спокойно, лишь чуть побледнев. – В таком случае пойдем, это там.
Когда августа переступила порог Кассииного обиталища, игуменья затворила дверь, и воцарилось молчание. Феодора осматривала келью, а Кассия подошла к столу, отодвинула стул для императрицы и стояла, глядя в пол, неподвижная и немного бледная.
– Сядем, – сказала Феодора.
Она села на стул, а Кассия – на край постели. Феодора опять внимательно и с плохо скрытой враждебностью оглядела игуменью с головы до ног, с недовольством и почти с негодованием отметив, что Кассия по-прежнему чрезвычайно красива. «Видно, плохо подвизается, раз монашеская жизнь не изменила ее!.. Прежние подвижницы, если верить житиям, высыхали так, что их даже родные не узнавали! А эта… цветет!»
– Вот, значит, где ты теперь обитаешь… Спасаешься?
– Пытаюсь.
– И как, получается? – в голосе августы прозвучала насмешка. – Ты хорошо выглядишь!
Кассия чуть покраснела, но промолчала. «Ладно, нечего разводить долгие предисловия!» – подумала Феодора и спросила:
– Феофил был здесь?
Игуменья вздрогнула. Хотя она догадалась, из-за чего пришла августа, но рана была слишком свежа, и Кассия не могла совершенно взять себя в руки.
– Знаю, что был! – императрица говорила отрывисто, стараясь не выдать неприязни, хотя у нее плохо получалось. – Что он здесь делал?
– Государыня, – Кассия взглянула на нее, – до того, о чем ты думаешь, не дошло… И больше уже ничего не будет. Вот всё, что я могу сказать.
– До того, о чем я думаю? Откуда ты знаешь, о чем я думаю?.. И что тут у вас было? Зачем он приходил?
– Он приходил… чтобы узнать… почему я отказалась от брака с ним, – с трудом произнесла Кассия.
– О-о, – протянула Феодора и вдруг умолкла; до нее не сразу дошел смысл сказанного. – Отказалась?! То есть…
– Да, отказалась.
Феодора чувствовала себя так, будто перед ней ударила молния. Она внезапно поняла всё, что произошло на смотринах – смысл вопроса Феофила и ответа Кассии… Отказалась!.. А он хотел узнать, почему… И правда – почему?
– Это интересно, – наконец, проговорила императрица как можно небрежнее, хотя Кассия видела, что она глубоко поражена. – И почему же?
– Я еще в ранней юности решила стать монахиней.
– О! – воскликнула августа. – Как просто! И как благочестиво!.. Оплевать императора, отвергнуть пурпур, отказаться от мира! Да ты прямо святая, мать! – она наблюдала, как Кассия всё больше бледнеет. – И что же? Ты сказала ему это, и он, уцеломудрившись, покинул твою келью?
Кассия молчала. Рассказать императрице хоть о чем-то из происшедшего между ней и Феофилом в тот злосчастный день было невозможно. «Что за мучение!» – подумала игуменья.
– Молчишь? – спросила Феодора. – А перстень где?
Она невольно посмотрела на руки Кассии, словно ожидала увидеть на ее пальце подарок Феофила. Игуменья вздрогнула и убрала руки под мантию.
– Государь, как я поняла, пожертвовал его на нужды обители. Но мы продали его в пользу нищих, чтобы…
Она не договорила.
– Чтобы что? Скрыть следы преступления?
Щеки игуменьи покрылись румянцем, но она продолжала молчать. Слова императрицы были как удары бича – и она не могла отрицать их справедливость: да, она была преступницей… И не важно, что до того не дошло…
– Если ты, – Феодора злобно глядела на Кассию, – собиралась стать монахиней, то зачем ты вообще явилась на те смотрины? О, если бы не ты!.. Зачем ты всё испортила?!
– Августейшая, – тихо ответила игуменья, – когда императорские посланцы собирали девушек, их намерениями никто не интересовался, ведь ты и сама это, наверное, знаешь… Я никогда по своей воле не пошла бы на это! Но тут многое подстроил мой дядя. Он служит при дворе и мечтал… породниться с императором…
– Всё равно! Ты должна была отказаться раньше и не являться на смотрины!
– Да, ты права, государыня. Я действительно должна была сделать именно так. Это моя мать убедила меня не отказываться, она боялась императорского гнева… Но я сделала, что могла… чтобы государь не выбрал меня.
– Когда всё равно всё было уже испорчено!.. Вот из-за таких… добродетельных… и происходят тучи неприятностей!
– Ты ошибаешься, я совсем не добродетельна, – ответ Кассии прозвучал устало и зло.
Черные и синие глаза встретились в немом поединке.
– Ты его… – еле выговорила Феодора и не смогла продолжить.
– Да! – Кассия не могла больше сдерживаться. – Я не бесстрастна, государыня. Я тогда отказала ему, но если ты думаешь, что мне было легко это сделать, ты ошибаешься. К сожалению, это не так… И не так легко всё забывается… Но оставим это! – ее голос задрожал. – Я только одно могу сказать: он больше никогда не придет сюда.
Она передернула плечами, словно внезапно озябла. Императрица видела, как то загорались, то гасли на щеках игуменьи пятна румянца. Да, несомненно, под черной мантией жила та же страсть, что и под пурпурной. «Боже! – пронеслось в голове у Феодоры. – Значит, она тоже его любит… полюбила тогда, как и я… И она отказалась от него! Но если это так… и если они встретились здесь, в этой келье… Могли ли они удержаться… от чего бы то ни было?» Ревность поворачивалась в ее сердце острым ножом. Как могли бы они устоять?..
– Тогда зачем ты лжешь? – спросила она тихо. – Если это так… разве могли вы удержаться?
Кассия вздрогнула и так побледнела, что августе на миг показалось – игуменья сейчас лишится чувств. Этот вопрос игуменья постоянно задавала сама себе: «Можно ли было удержаться?» Вся ее внутренность вопила: нет! это было выше сил человеческих! – Но неумолимая совесть твердила другое: раз этого требовала заповедь, значит, это было в твоих силах…
– Всё-таки ты с ним… – Феодора уже опять не верила, что того не было. – Ты ему… отдалась? – наконец, выговорила она и сама испугалась своих слов и того, что она может услышать в ответ.
– Нет! – Кассия встала и отвернулась к окну.
Щеки ее горели. «Боже! Какой стыд! Но поделом мне! Видно, надо еще и этот позор вынести…»
Феодоре было стыдно самой, и она несколько мгновений молча созерцала спину игуменьи. «Нет, всё-таки она не лжет… но…»
– Но что-то всё же было?
«Господи! я сейчас упаду…» – подумала Кассия и оперлась рукой об стол. Почему эта женщина хочет знать то, что ее не касается?! Он ее муж… Муж волею случая… Нелепость! Хотя… если зачем-то была нужна встреча Феофила с Кассией, значит, для чего-то нужен был и его брак с Феодорой?.. Как всё странно… Как больно! Невыносимо! Как вырвать всё это из себя, чтобы ничего не чувствовать, ни о чем не жалеть, ничего не хотеть?..
– Молчишь? – Феодора хотела сказать это суровым тоном, но вместо этого в ее голосе зазвучали жалобные нотки.
Кассия не ответила. Феодора встала и подошла к ней. И увидела, что она плачет.
Это было уже слишком для обеих. Императрица упала на стул и разрыдалась сама. Игуменья посмотрела на нее и закусила губу. Конечно, она была виновата перед Феодорой, но в сердце у нее в этот миг не было никакой жалости. Она внезапно ощутила приступ жестокой ревности, какой до сих пор никогда не знала: слова августы воскресили в ней все чувства выплеснувшиеся наружу, когда император оказался в этой келье, и она думала о том, что перед ней сидела женщина, пусть и не любимая Феофилом, но с которой он… Кассия отвернулась.
Теперь в келье не было ни игуменьи, ни императрицы – были только две женщины, одержимые страстью, снедаемые ревностью… Кассия чувствовала, что еще немного, и она наговорит Феодоре каких-нибудь ужасных слов. Ей даже пришел помысел рассказать, что произошло между ней и Феофилом, что он говорил про Феодору и про свою жизнь с ней, – и пусть бы императрица помучилась!.. «Молчи, молчи! – повторяла она мысленно, стиснув зубы. – Господи, спаси меня!..»
Наконец, Феодора успокоилась. В келье воцарилось мертвое молчание. Феодора смотрела на Кассию. Кассия смотрела в окно.
Что же было?.. Феодора догадывалась, что совсем безгрешно не могла окончиться встреча тех, кто уже много лет носил в себе такую страсть. Но она понимала, что подробностей не узнает – более того, она не имеет права их знать, потому что это ее не касается, как бы ни было ей неприятно сознавать это. И она отступила.
Однако перед ней встал другой вопрос.
– Как же ты жила всё это время? – спросила императрица. – Ведь это… невозможно!.. Кассия обернулась к ней.
– Как я жила?.. – она помолчала и вдруг решительно подошла к шкафчику, открыла его, вытащила книгу с синими закладками и положила на стол. – Вот, почитай, августейшая, особенно там, где закладки, – с этими словами она села на постель и сложила руки на коленях.
Слезы текли по щекам императрицы, когда она дочитывала конец трагедии:
- «А мне – увы! – Киприда
- Страдания оставила клеймо…»
Феодора замерла над рукописью. Теперь она понимала, что Кассия страдала все эти годы, боролась со страстью и не могла побороть, но будет бороться и дальше… И всё это…
– Ради чего всё это?
– Что? – спросила игуменья устало.
– Я понимаю, что если монахиня… кого-нибудь полюбит… то это грех… Но ведь тогда ты не была монахиней… не давала обетов… Почему же ты отказалась еще тогда?
– Я уже решила к тому времени стать монахиней, это была воля Божия. Я не могу объяснить… но я знаю, что Господь призвал меня именно к монашеству. Если б я отвергла это призвание, я была бы такой же отступницей, как если бы пала уже после пострига… Впрочем, я, конечно, совершила ошибку, пойдя на смотрины. Но это уже не исправить. Должно быть, так зачем-то было нужно…
– Но зачем?!
– Не знаю, государыня. Может быть, когда-нибудь мы поймем это.
Поздним вечером Феодора сидела одна в своей спальне на краю широкого ложа и готовилась лечь. Быстро заснуть она, впрочем, не надеялась и медленно вынимала из волос шпильки и выплетала золотые ленты, аккуратно складывая их на столик у кровати. Наконец, водопад черного шелка рассыпался по ее плечам, и она, уронив руки на колени, устремила взгляд на огонь масляной лампы, стоявшей на столике. Кувикуларий она отослала, и надо было самой заплести на ночь косы, но у нее не было сил шевелиться: последние силы словно исчезли с последней вынутой шпилькой… Вдруг она услышала, как без стука отворяется дверь в спальню. «Неужели?!..» – пронеслось в голове у августы. Она вскочила на ноги.
Феофил, затворив за собой дверь, повернулся к жене, и оба замерли. Феодора была в одной прозрачной нижней тунике из тончайшего льна, волосы падали на плечи и грудь, глаза блестели… Она была обольстительна, но сейчас не думала об этом. Ее сердце бешено колотилось, она почти задыхалась.
«Вот как! – вспыхивали у нее мысли. – Теперь я буду играть роль императорской подстилки… Когда ему станет невмоготу терпеть, он будет приходить ко мне… И это – всё, что мне осталось!.. Его тело!»
Феофил за последнее время даже спал с лица – впрочем, как и Феодора, – темные тени залегли у него под глазами: она знала, что его снедает страсть – но страсть не к ней… Император между тем отстегнул фибулу и скинул плащ на ковер и остался в одной нижней тунике, такой же прозрачной, как у августы. Феодоре стало жарко.
«Но разве это так уж мало?.. – продолжила она свою мысль, сгорая под взглядом устремленных на нее темных глаз. – По крайней мере, уж это – всё-таки мое!»
И она шагнула ему навстречу.
14. Урок философии
Добро и зло разумного и гражданственного существа не в испытываемом состоянии, а в деятельности; точно так же как и добродетель, и порок его не в испытываемом состоянии, а в деятельности.
(Марк Аврелий)
После истории с Евфимией император понял, что больше никогда не изменит Феодоре. Первый и последний опыт такого рода научил его, что это не дает ни облегчения, ни развлечения; даже тело Кассии никакая женщина своим телом заменить не могла, а потому логично было довольствоваться телом женщины, принадлежавшей императору по законному праву… Вечером того дня, когда Феодора побывала в Кассином монастыре, Феофил пришел к ней, готовый даже к тому, что она станет выгонять его и придется взять ее силой – настолько его измучила страсть, – и увидел, что жена не в состоянии отказать ему даже после всего бывшего. Потом она рыдала в подушку, отвернувшись от него, а он пытался ее утешить, гладил по голове, как ребенка, и пообещал больше никогда не изменять. Тогда она села на постели, завернувшись в одеяло, и обратила к нему заплаканное лицо:
– Ты думаешь, меня больше всего волнует твоя измена с этой кувикуларией?!
Он опустил голову и ответил, помолчав:
– Нет, я понимаю, что тебя волнует другое.
– Да! А потому что толку, что ты не будешь больше изменять мне… со служанками? Да хоть бы ты и в блудилище пошел! Разве дело в этом?!
– Думаю, если б я пошел в блудилище или спал со служанками, а не с тобой, тебя это не оставило бы равнодушной, – усмехнулся Феофил.
– Ты всегда, всегда издевался надо мной! За что только? Что я сделала тебе?! Мало того, что ты меня не любишь, так еще и издеваешься! Уходи! Уходи сейчас же! Убирайся в блудилище, к служанкам, куда хочешь! Я не хочу быть твоей подстилкой!
Феофил слез с постели и надел хитон.
– Ты действительно хочешь, чтобы я ушел и больше не приходил?
Она смотрела на него и молчала.
– Скажи правду. Если ты хочешь этого, я больше не приду… никогда.
Феодора стиснула зубы. Он смотрел на нее и ждал.
– Ты жесток! – проговорила она.
– Не жесточе, чем судьба, которая всё это так подстроила!
– Разве это повод вымещать свои страдания на других?
– Не повод. Только всё равно ты будешь страдать в любом случае… буду ли я ходить в блудилище или к тебе, или не буду ходить вообще ни к кому.
– Ты не сможешь! Думаешь, я поверю в твое целомудрие? Уж кто, как не я, знаю, что монаха из тебя не выйдет!
Он чуть побледнел. Феодора смотрела на него со злорадством.
– Погляди на себя! – продолжала она. – Ты голодный, как зверь! Тебе и целого блудилищного дома не хватит… чтобы заесть ту горечь, которой эта монашка тебя напоила! А ты, видно, думал, идя к ней, отведать долгожданного мёду, ха-ха!
Феофил побледнел еще больше, но по-прежнему стоял, не шевелясь, и в его лице ничто не дрогнуло, однако его раздирали столь сильные и противоречивые чувства – от жалости и всё еще не утоленной страсти до неистового гнева и почти ненависти, – что от усилия не выдать их его взгляд на несколько мгновений словно остекленел. Феодора заметила это и испуганно умолкла, но Феофил быстро справился с собой и сказал спокойно и немного усмешливо:
– Ты так не любишь монахов, Феодора… А если я действительно решу превратить дворец в монастырь? Хотя бы внешне, например. Мой отец любил «представления», и я, знаешь ли, всё больше его понимаю, хотя когда-то осуждал. Настоящее благочестие в этом дворце мало кому снилось, хотя все более или менее успешно делают вид… Это понятно, но скучно. Так что иной раз очень хочется пошутить с этими людьми… Посмотреть, до чего они могут дойти в своей покорности перед августейшим государем! Вот, скажем, господа препозиты, твой и мой. Когда мне захотелось переспать с кувикуларией, они и бровью не повели, не так ли? Да еще знаешь, что Никифор сказал Евфимии, передавая ей мое приглашение? Что императору не отказывают! И он прав, дорогая. Это даже и нынешняя ночь явила, кстати, – заметив, что глаза Феодоры гневно сверкнули, и она уже собирается что-то сказать, он чуть приподнял руку. – Подожди, я договорю, а потом ты скажешь мне всё, что ты обо мне думаешь, хорошо? Мне сейчас пришла в голову забавная мысль: издать указ, чтобы все придворные стригли коротко волосы и не носили длинной бороды. Это будет хорошей шуткой! Прикажу завтра меня подстричь «по-монашески», ведь мне такая прическа пойдет, как ты думаешь? – он чуть улыбнулся. – А потом издам указ. Как по-твоему, кто-нибудь посмеет ослушаться?
Феодора от удивления даже забыла, что хотела сказать мужу, какой он несносный негодяй. Несколько мгновений она смотрела на него, чуть приоткрыв рот, пытаясь понять, серьезно он говорит или нет, и, наконец, спросила:
– Ты шутишь?!
– Ничуть. Вот увидишь, – он улыбнулся, но в следующий миг улыбка исчезла с его губ. – Но это я немного отвлекся. Вернемся к прежней теме, – его взгляд стал жестким. – Итак, ты меня выгоняешь? Ты не ответила. Буду или не буду я ходить куда-нибудь, смогу или не смогу… быть «монахом», это не твое дело. Твое дело – сказать мне, хочешь ли ты еще видеть меня по ночам. Так как?
Она смотрела на него и ненавидела себя за то, что не могла сказать «нет».
Он отвернулся и отошел к окну. Отодвинув занавесь из тяжелого плотного шелка, затканного золотым узором, подышал на стекло, пальцем нарисовал на запотевшем месте крест и смотрел, как он постепенно исчезал. В спальной было тепло от двух больших жаровен, но у окна тянуло холодом. Императору вспомнилось утро после первой брачной ночи, когда он точно так же стоял у окна и думал, что бы он сделал, если б на месте Феодоры была Кассия… Да, жена права: ему и целого блудилища не хватит, чтобы утолить эту страсть. Только она не понимает, что страсть эта – не просто к телу, потому и не хватит… Кассия! Император закрыл глаза и прижался лбом к оконному стеклу. Он не мог сказать, сколько простоял так, прежде чем обернулся к Феодоре.
– Так ты мне не ответила.
– А ты, – спросила она, глядя ему в глаза, – ты хочешь видеть меня по ночам?
Феофил вздрогнул. Только что он думал о другой, а теперь эта женщина – нелюбимая жена, «чужая половина» – бросила ему в лицо его собственный вопрос… И что он мог ответить? Нет? Но это… он вдруг осознал, что это было бы неправдой. Евфимия оставила у него чувство, близкое к разочарованию. Мысль о блудилище внушала ему омерзение. Другие женщины вообще никогда не интересовали его. Но Феодора… Он всегда думал, что пользуется ее «услугами» лишь «блудодеяния ради», и только… Но вот готов ли он был, если б она действительно решила его «выгнать», променять ее на какую бы то ни было другую женщину? Казалось бы, не всё ли равно, кто, если не Кассия? Но нет – после измены с кувикуларией он ощутил достаточно ясно, чтобы не обманывать себя: это было не всё равно! И это было странно. Что же, значит, всё-таки он любит и жену? Что за нелепость! Как можно любить двоих?.. Или она ему просто ближе… привычнее? Но если это только привычка, то так «привыкнуть» можно и к другой женщине – а между тем, он сознавал, что, например, к той же Евфимии не привык бы… Он смотрел на Феодору и вспоминал первую ночь, проведенную с ней. Отец накануне дня свадьбы объяснил ему, как надо обращаться с девственницей, чтоб ей было не слишком больно, однако Феофил всё же несколько опасался насчет того, как пройдет этот первый опыт. Но когда они прикоснулись друг к другу, его словно захватило и понесло, всё получилось как-то само собой… С Евфимией было не так: приходилось думать, как обращаться с ней… Хотя, казалось бы, он одинаково не любил обеих!.. Двенадцать лет он роптал на то, что Кассия, «созданная для него», ему не принадлежала, но теперь внезапно понял, что и его жена была – по крайней мере, в некотором смысле – создана для него: оба очень страстные от природы, этим они, безусловно, подходили друг другу…
Так что ответить Феодоре на ее вопрос?.. Он смотрел на нее и молчал.
– Совсем не хочешь? – в ее глазах заплясали огонечки, и она скинула с себя одеяло.
На щеках Феофила загорелись два красных пятна, несколько мгновений он смотрел на жену, потом усмехнулся и, сняв хитон, шагнул к постели.
С той ночи и до самого начала Великого поста они предавались утехам Афродиты с пылом юных любовников, словно наверстывая упущенное за время ссоры, и встречались каждую ночь, кроме дней накануне причастия по праздникам и воскресеньям. На первой седмице поста Феодора поняла, что беременна.
С началом поста император в очередной раз задумался об исповеди. После нескольких недель бурной супружеской жизни телесное вожделение перестало его мучить, но теперь гораздо сильнее его стали терзать два помысла: что он свою встречу с Кассией свел, по сути, к плотской похоти, а ее вверг в огромное искушение – и Бог знает, какие последствия оно имело для нее! Да, правильность выбора, любовь, сознание внутренней близости и душевного сродства – всё это было настолько прекрасным, что никакая горечь и скорбь уже не могли заглушить это ощущение. Но в то же время – что он сделал, чего добивался от Кассии и почти добился? Того самого дара «Афродиты пошлой», за пристрастие к которому подтрунивал когда-то над Константином! Кассия была права, когда упрекала его, что он пришел к ней за «телесной сластью»!.. Он вспоминал, как она побледнела, проговорив: «И мне предстоит тяжелая борьба… особенно теперь», – сознавал, что ввел ее в искушение почти невыносимое, но понимал, что не мог в тех обстоятельствах не сделать этого: не было сил удержаться, да и она сама тоже не могла… Значит, оставался всего один ответ: не надо было второй раз приходить в ее келью. Но… тогда не было бы и того невыразимо прекрасного чувства совершенного понимания и близости, испытанного ими, – нет, такой ценой избежать греха он был не готов. «Но ведь за любое счастье такого рода приходится платить», – вспоминались ему слова Евфросины. Да, и он не отказывался платить. Но мысль о том, как дорого должны были обойтись Кассии эти мгновения счастья, терзала его невыносимо.
В среду второй седмицы поста император, поупражнявшись в очередной раз в метании кинжалов по мишени, с усмешкой подумал, что это неподходящее занятие для «весны постной» и на его месте благочестивому христианину следовало бы бороться с осаждавшими его мыслями молитвой, мысленным преданием себя и всех в волю Божию… Впрочем, забавы с кинжалами лишь слегка отвлекали, и только. Всадив несколько кинжалов в центр мишени, Феофил отступил чуть вбок, метнув еще один, так чтоб он воткнулся наискось и выбил какой-нибудь из торчавших в доске, а потом подошел и подобрал упавший. Это был трофейный арабский кинжал с позолоченной рукояткой, украшенной пурпурными аметистами и монограммой настолько замысловатой, что даже самый опытный придворный переводчик так и не смог ее прочесть. Император смотрел на монограмму и думал, что его жизнь запуталась точно так же, как эта немыслимая сарацинская вязь, и как ее распутать?.. Да, осталось испробовать последний выход – исповедь у синкелла. Император вышел из оружейного триклина и велел слуге позвать Иоанна – игумен как раз должен был закончить занятия с Еленой и Марией. Когда Грамматик пришел, император задал несколько вопросов о том, как идут уроки, а потом сказал:
– А я тут развлекаюсь, видишь? – он кивнул на мишень, где вонзенными кинжалами был начерчен крест в круге. – Непостное занятие, правда?
– Думаю, постность или непостность занятия зависит от того, что оно дает для души, государь: у одних и такие упражнения содействуют внутреннему воспитанию, а другим и молитва бывает не впрок.
– Должно быть, ты прав, – Феофил отошел к окну, постоял немного, глядя в сад, и вновь повернулся к синкеллу. – Скажи мне, Иоанн, с тобой случалось когда-нибудь так, что ты был на грани получения того, чего очень сильно хотел, но ты отказался… например, из благочестия… и не взял, хотя мог бы?
– Да, – ответил игумен, внимательно глядя на императора.
– И чего тебе это стоило, кроме усилия воли?
– Разбитой склянки с уксусом и порезанной руки, – усмехнулся Грамматик.
– Вот как? – Феофил посмотрел на игумена чуть удивленно и тут вспомнил, как Иоанн когда-то, незадолго до первой осады Города мятежниками, несколько дней ходил с забинтованной рукой, в ответ на вопросы говоря, что «допустил неосторожность во время одного опыта». – И что же, помогло удержаться?
– На время.
– А потом?
– Потом я получил желаемое. Потому что решил взять.
– Значит, брать или не брать, зависело только от твоего решения?
– Да.
Император пристально глянул на Иоанна и вдруг понял, что тот имеет в виду. Он снова отвернулся и некоторое время смотрел в окно, повоачивая в руках арабский кинжал.
– А я вот мог взять, но не взял. Хотя всё тоже зависело только от моего решения. Благочестиво, правда? – Феофил повернулся и плашмя прижал лезвие к ладони. – Смотри! Если я сейчас сожму руку и порежусь, будет больно. Но, во-первых, это не поможет, а если б и помогло, так ведь меня тут же начнут лечить, поднимется шум, беспокойство… В общем, лучше и не начинать, правда?
– Такое лучше не начинать в любом случае, августейший. Это действительно не поможет. Помогает только Бог, молитва и сила воли, а кинжалы или уксус… это символические жесты, не более.
Император вздохнул, посмотрел в глаза синкеллу и тихо сказал:
– Я приду к тебе на исповедь, отче. Завтра утром.
На другой день после приема чинов Феофил отправился в Сергие-Вакхов монастырь обычным путем – дворцовым переходом, соединявшимся прямо с храмом. Игумен ждал императора в маленькой часовне Богоматери на западной галерее главного храма. Феофил не был на исповеди уже полгода; сердце его глухо колотилось, пока синкелл читал положенные молитвы. Наконец, игумен повернулся к императору:
– Возможно, тебе будет удобнее рассказывать сидя, государь.
– Пожалуй, – Феофил сел на деревянную скамью у стены и указал синкеллу место рядом. – Садись и ты. Разговор будет некратким.
Он стал рассказывать всё с самого начала – о первой встрече с Кассией в портике, о разговоре с Константином про любовь, о собственных мыслях по поводу выбора невесты, о самом выборе, об отношениях с женой, о попытках после смерти отца «стать любящим мужем», о посещении Кассииной обители, о ссоре с Феодорой, о Евфимии, о примирении с женой… Наконец, он откинулся на спинку скамьи, очень бледный.
– Итак, я развратитель и прелюбодей… а кроме того, ненасытный сладострастник. Правду говорят отцы: кого за что осудишь, в то сам и впадешь! А самое печальное… хотя, надо признаться, меня это нимало не печалит, а должно бы… что я ни о чем не жалею!.. Нет, пожалуй, жалею, что растлил эту девочку… Но о том, что было в монастыре, я жалеть не могу. Напротив, я часто жалею о том, что не довел дело до конца… Вот, собственно, и всё. Это исповедь, да, но не знаю, можно ли назвать это покаянием.
– Покаяние состоит, прежде всего, в том, чтобы не делать прежних грехов, государь, – тихо сказал игумен. – Хотя бы каких-то, если невозможно не повторять всех. Хотя бы меньше, если невозможно совсем не повторять.
– Что ж, – усмехнулся Феофил, – кое-каких грехов я уже точно не повторю. Например, я никогда больше не буду прелюбодействовать… по крайней мере, делом… И никогда не приду в ее монастырь.
Он оперся локтями о колени и опустил голову на руки. В часовне повисло молчание: Иоанн ждал, пока у императора пройдет всплеск душевной боли. Когда Феофил вздохнул чуть глубже, игумен сказал:
– Видишь, государь, значит, происшедшее чему-то научило тебя. И это самое главное. Из любых искушений, которые попускаются нам, даже самых невыносимых, даже тех, что доводят нас до тяжких грехов, надо уметь извлекать нужные выводы. Что до сожаления о содеянном… думаю, было бы неразумно требовать этого сейчас. Я даже не уверен, можно ли вообще этого требовать.
– Да, происшедшее меня многому научило, – глухо сказал император, – и многое открыло мне в себе самом… Но что я принес ей?! Каково ей было после того, как я ушел, каково ей теперь? Что она должна была вынести после нашей встречи! Ведь у нее нет даже такого выхода для страсти, какой есть у меня! Конечно, она должна была сразу покаяться… Но разве ей от этого стало намного легче? Не думаю! Об этом-то я могу судить по себе – ведь она любит меня так же, как я ее… А ты видишь, до чего дошел я!.. Можно представить, что пришлось вытерпеть ей! И всё из-за меня! Что ей принесла моя любовь, которой я пред ней похвалялся?.. Она была права: я приходил к ней за плотской сластью и всю нашу встречу свел именно к этому… А разве этого я хотел? Разве прежде всего поэтому я люблю ее?!.. Но почему это так выходит?..
– В нас слишком много тела, государь.
– Да, – император стиснул зубы и закрыл глаза.
– Но ведь не одно тело. Голос плоти очень громок и как будто заглушает все другие голоса, но это не значит, что плоть сильнее всего. Сила слова – в содержании, а не в голосе. И вы оба это понимаете, государь, как бы вам ни было тяжело.
– Какой в этом смысл, Иоанн? Зачем вообще мы с ней встретились тринадцать лет назад?! Она должна была стать моей женой! Или мы с ней не должны были встречаться никогда! За что это мучение?!
– Государь, а ты бы согласился на иную жизнь? – тихо спросил синкелл. – Представь, что… например, я сказал бы тогда твоей матери, что эта девушка не подходит тебе в невесты – допустим, по своему своенравию – и ее бы отстранили от участия в смотринах. Ты выбрал бы твою нынешнюю супругу, а может быть, кого-то еще, жил бы с ней спокойно и, вероятно, более или менее счастливо. Госпожа Кассия, как и собиралась, ушла бы в монастырь. Скорее всего, вы никогда в жизни не встретились бы с ней. Ты бы никогда ее не полюбил и был бы избавлен от всех этих «мучений». Ты бы согласился на это?
Император опустил голову, долго молчал и, наконец, сказал чуть слышно:
– Нет.
– Вот ты сам и дал ответ на свой вопрос, августейший. Всё произошло единственным образом, каким оно могло произойти, и другого не дано. Если ты не согласен променять свою нынешнюю жизнь на иную, значит, ты понимаешь, что многое приобрел, живя этой жизнью – такой, какова она есть. В этом и заключается смысл. Один из смыслов. Все испытания случаются с человеком для того, чтобы он что-то понял, сделал определенные выводы, чему-нибудь научился. Если даже кажется, что не научился ничему, то, во-первых, это чаще всего только кажется, а во-вторых, путь долог, уроки жизни усваиваются не сразу, и даже не сразу можно осознать, что ты получил тот или иной урок. Если о чем тебе и надо молиться, государь, то, прежде всего, о терпении. Для понимания тоже нужно время. Иногда много времени.
– Возможно… Но грех от этого не перестает быть грехом. И за него полагается епитимия. Конечно, – Феофил усмехнулся, – как император, я вполне могу ее избежать, но я не хочу. Ведь Кассия наверняка понесла какое-то наказание. А значит, нужно нести и мне. Тем более, что я нагрешил гораздо больше.
– Относительно епитимии, государь, я могу сказать тебе лишь то, что когда-то святейший в сходных обстоятельствах сказал мне: епитимию ты заслужил, но назначь ее себе сам.
Император и синкелл несколько мгновений смотрели в глаза друг другу.