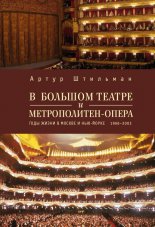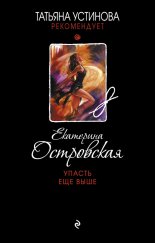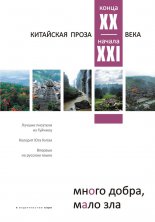Кассия Сенина Татьяна

– Просто чудеса! Что же… значит, мать игуменья не отказалась получить духовный совет… от «еретика»?
– Что госпоже Кассии не свойственно, так это узость ума, – Иоанн улыбнулся.
Император помолчал и задумчиво проговорил:
– А ведь еще не так давно при мысли о ней я страдал и роптал на то, что в моей жизни было всего три часа счастья…
– Ты становишься мудрее, августейший. А «из всего, что дает мудрость для счастья всей жизни, величайшее – это обретение дружбы».
– Но Аристотель говорил, что недостаток общения убивает дружбу… Видно, он и здесь был большим практиком, чем Платон, сказавший: «всегда помня о своем друге, где бы тот ни был – далеко или близко»…
– Разумеется, Платон более «наш», чем Стагирит. Дружба между взыскующими существует постольку, поскольку они взыскуют одного и того же и имеют сходное внутреннее устроение, вкусы и склонности. А взыскующих небесного Града соединяет Сам Бог, и тут уже точно не могут играть роли никакие расстояния. Помнишь: «Возведем же самих себя молитвами в высочайшую высь божественных и благих лучей, словно бы всегда перехватывая руками свешенную с высочайшего неба и досюда достигшую многосияющую цепь…» Это вертикальные цепи, а есть и горизонтальные – между молящимися друг за друга: кто выше поднялся по вертикали, тот помогает взойти и другому.
– Да, Ареопагит божественно прекрасен! И твое дополнение красиво… Золотая сеть молитв, висящая между небом и землей! Истинный платонизм – «слиться и сплавиться с возлюбленным в единое существо» не телом, а духом – в Боге… А как же «разная вера»? – Феофил посмотрел в глаза синкеллу.
– Здесь всё не так просто, как обычно проповедуется перед толпой, августейший, – ответил Иоанн с улыбкой. – Анафема – вещь очень нужная для практической жизни Церкви в здешнем мире, прежде всего для воспитательных целей, но лично я не рискнул бы с уверенностью заявлять, что те, кто в настоящей жизни находится во враждующих станах, в будущей непременно окажутся в разных местах, а если и окажутся, то именно из-за разной веры. Во-первых, суд будет по делам, и самая вера, по апостолу, показывается из дел. Во-вторых, очень редкие люди, даже содержащие истинную веру, достигают в суждениях беспристрастия. В-третьих, даже беспристрастные могут заблуждаться и делать неверные выводы – в силу особенностей воспитания, недостатка образования, частичного неведения и просто из-за ограниченности человеческой природы. А Бог знает эту ограниченность и потому смотрит, прежде всего, на намерение человека. Мне кажется, прекрасно сказал об этом Евагрий Схоластик: «Да не посмеется над нами никто из идолопоклонников, что последующие у нас низлагают прежних, и что к вере нашей всегда присоединяется нечто новое…» Помнишь, государь?
– Признаться, не помню. Это из «Церковной истории»?
– Да, из первой книги. Позволю себе напомнить: «Ни один изобретатель ереси между христианами не хотел умышленно произнести хулу, ни один не решался намеренно уничтожать божественное, но всякий думал, что, утверждая это, говорит лучше предшественников. Впрочем, существенное и главное исповедуется сообща всеми», то есть вера в Троицу и в воплощение Бога-Слова. Затем Евагрий говорит: «Если же в ином отношении постановлялось новое, то и это бывало потому, что Спаситель наш Бог касательно того даровал нам свободу, дабы святая вселенская и апостольская Церковь говоримое так или иначе приводила к надлежащему разумению и благочестию, и через то выходила на один открытый и прямой путь. Вот что заставило апостола очень ясно сказать: “ибо подобает у вас быть и ересям, чтобы явились между вами искусные”». А дальше он добавляет, что самые церковные смуты в итоге содействуют утверждению правых догматов, и «тем самым вселенская и апостольская Церковь Божия возбуждается к возрастанию и восхождению на небо».
– Да, неплохо сказано! Надо будет перечитать… Так что же, ты думаешь, что еретик, искренне верующий в свою ересь и думающий, что она служит к возвышению Бога, а не к хуле, имеет такую же возможность спастись, как и православный?
– Точно сказать, имеет или нет он эту возможность, я не могу, конечно, но думаю, что может иметь. А имеет ли – это зависит от разных привходящих обстоятельств, и разбираться в них – уж точно не наше дело, а Божие. Когда некто присоединяется к еретической части, мы обычно говорим, что он впал в ересь и отпал от спасения, и чаще всего это бывает верно, потому что в большинстве случаев человек принимает ту или иную сторону, руководствуясь соображениями отнюдь не небесными – страхом, корыстью, ленью, нежеланием думать, желанием быть с большинством, с уважаемыми или любимыми им по-человечески людьми. Но ведь по этим же соображением большинство принимает и православие – сомневаюсь, что пред Богом это многоценно. С другой стороны, человек может принять ересь потому, что счел ее за истину, что она показалась ему убедительнее православия, с готовностью стоять за нее, как за истину, не так ли? Разумеется, в глазах Божиих он не равен еретику, отпавшему от веры из соображений, скажем, земных выгод. Великий Григорий говорил: «Как многие из наших бывают не от нас, потому что жизнь делает их чуждыми общему телу, так многие из не принадлежащих к нам бывают наши, поскольку добрыми нравами предваряют веру, и обладая самой вещью, не имеют только имени», – и это о язычниках. Тем более так можно сказать и о тех, кто, хотя и неправильно верит во Христа, но живет благочестиво.
– Значит, встреча на небесах возможна даже при разной вере?.. Конечно, звучит обнадеживающе, но вряд ли эту мысль стоит доносить до толпы, которая и так-то к истинам веры равнодушна!
– Где ты здесь видишь толпу, августейший? – улыбнулся синкелл. – А двум философам вполне позволительно обсуждать между собой скользкие вопросы.
Император рассмеялся, потом задумался и, немного помолчав, сказал:
– Иногда я думаю о том, что Кассия отказалась от брака потому, что уже обещала посвятить себя Богу, и потому, что я – «еретик», то есть отвергла эту любовь ради Бога и догматов. Но интересно, смогла бы она сделать то же самое из-за одних догматов?
– Вряд ли. Ведь разная вера не мешает ей до сих пор любить тебя. Правда, четырнадцать лет назад она была в гораздо большей степени зависима от воззрений своих единоверцев, чем теперь… Например, она тогда считала меня почти антихристом, по ее собственному признанию. Впрочем, это неудивительно, ведь ее духовный наставник называл меня одной из глав «колесницы дьявола»!
– А кто он был?
– Не кто иной, как Феодор Студит. Впрочем, он так честил меня для пущего воздействия на тех, кому писал. Когда мы с ним встретились во время осады Города, то побеседовали весьма любезно, хотя и не убедили друг друга.
– Вот как! Какое сплетение судеб… А ты, я вижу, о многом беседовал с Кассией?
– Не то, чтобы о многом. Но беседа умных людей тем и хороша, что они в немногих словах дают понять и могут понять многое.
– Никогда бы не подумал, что ты общаешься с ней! Пожалуй, – император чуть улыбнулся, – мне впору тебе завидовать!
– О, не стоит! Я встречался с госпожой Касией после нашего первого знакомства только дважды, случайно, и все три раза мы, в сущности, говорили о тебе, государь. Не знаю, встретимся ли мы с ней еще когда-нибудь.
– Жаль! Мне пришла мысль сделать ей ответный подарок… Кстати, ты скоро услышишь его, в Цветоносную неделю. Мы с певчими уже начали разучивать.
– Тоже стихира?
– Да.
– Думаю, твой подарок госпоже Кассии сможет передать наш Математик.
– Лев?! Еще одна неожиданность!.. Они знакомы?
– Да, и общаются довольно часто. Она училась у него в юности. Я сам недавно узнал об этом: именно зайдя к нему в гости, я и встретил там ее. Она пришла к нему потому, что нуждалась в беседе с философом, но вместо одного философа перед ней оказались два, и она сочла, что беседа со вторым ей будет полезнее.
– Ты колдун! – рассмеялся император. – А ты, случайно, идя ко Льву… не знал уже, что встретишь там ее?
– Чародеи своих тайн не выдают, – Иоанн улыбнулся. – Как бы то ни было, я рад, что побеседовал с ней. Это одна из редких женщин, беседа с которыми может доставить философу удовольствие. Должен заметить, что, в некотором смысле, и любить такую женщину для философа незазорно, особенно если следовать мнению стоиков, что «любовь это стремление к сближению, вызванная лицезрением красоты, и направлена она не к соитию, а к дружбе», а «красота есть цвет добродетели».
– Хорошо сказано, только… Я недавно перечитывал Лаэртия и подумал, что на меня больше похоже Антисфеновское: «мудрец женится, чтобы иметь детей, притом от самых красивых женщин»… В любом случае, если я даже неплох как язычник, до христианина мне далеко!.. Но, с другой стороны, есть, куда совершенствоваться, – с улыбкой добавил император. – Кстати, о чародействе. Давно хотел тебя спросить: при твоей любви к опытам и, так сказать, известного рода бесстрашии… тебе никогда не хотелось совершить какое-нибудь гадание, хотя бы ради интереса? На печени, например, или на блюде с водой… Мне порой становится любопытно, когда попадаются рассказы об этом в книгах: что они там видели, эти прорицатели? Действительно что-то видели или просто обманывали народ… как тот «чудотворец» с иконой в Дорилее?
– Мысль о таком опыте мне приходила еще в юности. Но, поразмыслив, я решил, что это будет неинтересно.
– Почему?
– Видишь ли, августейший, опыты над веществами, растениями, зверями и людьми так или иначе подразумевают изучение некоторых закономерностей происходящего в мире сем, тогда как колдовство и гадания, если даже оставить в стороне вопрос о нечестивости подобных занятий, неизбежно приобщают к миру падших духов. А мы о них, в общем, почти ничего не знаем, кроме того, что они весьма злобны и изобретательны. Что им, так сказать, может взбрести в голову, совершенно неизвестно. Получается, что через подобные опыты ты ставишь себя в зависимость от каких-то непонятных сил – это и неприятно, и небезопасно. Разумеется, опыты обычного земного порядка тоже могут обернуться неприятностями и опасностями, но тут есть существенное отличие: последние неизбежно приводят к тем или иным выводам и урокам, более или менее полезным, а вот первые никакого познания сущего не дают. В то, что с помощью гаданий можно действительно узнать будущее, я не верю, а изучать таким способом поведение демонов – занятие бесполезное. Поэтому я подобными вещами никогда не занимался.
– Что ж, разумно, – Феофил улыбнулся. – Ты, как Сократ, колдуешь над людскими душами!
– Да, пожалуй, как и он, я «принимаю роды у душ»… А заодно помогаю приносить плоды и своей душе. Думаю, не самое плохое занятие в жизни!
– Одно из лучших, философ!
…В среду четвертой седмицы поста, накануне праздника Благовещения, синкелл, совершая утреню в Сергие-Вакховом храме, ближе к концу службы заметил у самых дверей в церковь Математика и был несколько удивлен, но не потому, что Лев пришел в его монастырь – это бывало уже несколько раз, хотя и не так рано поутру, – а потому, что Философ не просто стоял, наблюдая и слушая пение, как в прежние посещения, но молился. После окончания службы, когда монахи разошлись, игумен подошел к племяннику.
– Здравствуй, Лев, – улыбнулся синкелл. – Какими судьбами?
– Я хотел бы исповедаться у тебя и присоединиться к вам.
– Что ж, – Иоанн пристально взглянул на него, – это можно сделать прямо сейчас.
Они поднялись на галереи.
– Что заставило тебя решиться на это, Лев? – спросил игумен. – Ведь ты всегда был иконопочитателем, как я понимаю.
– Да, но в последнее время я осознал, что, во-первых, не разделяю ревности о вере в том виде, в каком она чаще всего проявляется у моих единоверцев, а во-вторых, среди твоих единоверцев ведь тоже немало верящих так же, как я, мы отличаемся только поминовением епископов. Но ваши епископы применяют в вопросе об иконах широкое снисхождение, несмотря даже на последний указ государя насчет иконопочитания, а наши… Не то, чтобы я был против строгости вообще, но я не готов отождествлять исповедничество с умственным рабством. Как говорится:
«Робким, ничтожным меня справедливо бы все называли, Если б во всем, что ни скажешь, тебе угождал я, безмолвный!»
– Как видно, иконопоклонники вывели из терпения даже такого кроткого мужа, как ты, – усмехнулся синкелл. – Позволю себе полюбопытствовать о подробностях.
– О, это не тайна, – Математик вздохнул и принялся рассказывать.
19. Через границы
Множество людей озабочено вопросом, смеялся ли Христос… Думаю, что вряд ли, поскольку был всеведущ, как положено Сыну Божию, и мог предусмотреть, до чего дойдем мы, христиане.
(У. Эко, «Имя розы»)
После смерти Сардского архиепископа Евфимия Лев ходил на исповедь к разным православным священникам, которые продолжали жить в Городе, более или менее открыто служили и принимали духовных чад. Настоящего духовного руководства Философ, однако, никогда не искал, довольствуясь советами, почерпнутыми из книг, а иной раз обсуждая интересующие его вопросы в переписке с Кассией. Довольно большая община иконопочитателей собралась при Свято-Антипьевском храме – церквушке на склоне Ксиролофа, недалеко от храма и цистерны Святого Мокия, и в последние два года Лев ходил туда. После императорского указа против икон община поначалу затаилась, ожидая преследований, но служить им по-прежнему не воспрещали, хотя следили за тем, не прибавляется ли у них новых верующих. Но их не прибавлялось, да и вообще, в последнее время в церковной жизни наступило затишье. Кто как устроился еще во времена императора Михаила, так и продолжал жить; не было ни особенных стычек, ни каких-либо прений; даже студиты после кончины Феодора попритихли – сначала, конечно, от уныния, а потом уже как бы по привычке. Впрочем, ужесточив отношение к иконопочитанию, Феофил приказал студийским монахам, жившим большой общиной на Принкипо при гробе почившего игумена, удалиться оттуда, поскольку к ним стекалось слишком много людей. Игумен Навкратий, правда, остался на острове, но остальные почти все разъехались; даже Николай счел за лучшее перебраться во Фракию и в конце концов устроился в Фирмополе; прочие братия рассеялись по разным местам. Некоторые из православных сами покинули столицу после постановления василевса об иконах. Ожидали возобновления гонений, но было сослано всего нескольких человек – в основном те, кого посещало слишком много иконопочитателей или кто распространял писания, порицавшие императора и его предшественников на престоле за иконоборчество.
Будущее виделось неясным; иногда в разговорах православных проскальзывало раздражение против василевса именно из-за того, что он мало кого преследовал, а народная любовь к нему только росла. Если кто и осуждал отдельные стороны императорской политики, то это были некоторые люди из числа знати, недовольные «чрезмерной» любовью Феофила к «иноземцам и неверным» и «неуважением к благородным гражданам». Они распространяли о василевсе разные слухи: например, его указ коротко стричь волосы и бороду истолковали так, будто у императора стали выпадать волосы и он решил таким образом «скрыть скудость красы своей головы»… Впрочем, всерьез это почти никто не принимал, а Феофил, узнавая о подобных россказнях, лишь усмехался. Вопросы веры, казалось, мало кого из влиятельных лиц действительно интересовали: большинство довольствовалось тем, что частным образом у себя дома желающие могли почитать иконы, как угодно, и было ясно, что уже не вернутся времена Льва Армянина, когда о таких случаях выведывали и доносили, в результате чего провинившиеся могли в одночасье лишиться своего положения и имущества. Пророчество о скорой смерти императора не сбылось, равно как и надежды на то, что Господь вот-вот «поразит оставшихся главарей нечестия»: хотя в начале единоличного царствования Феофила патриарх едва не отдал Богу душу, после этого он больше ни разу серьезно не болел, а синкеллу, казалось, вообще было неведомо, что такое недуги. Мало того, по Городу стали ходить рассказы о том, что Сергие-Вакхов игумен прозорлив – теперь об этом говорили уже не только его монахи, но и люди сторонние, в том числе некоторые синклитики. Патриарх после «чудесного преображения» императора стал иногда посылать к игумену за духовными советами кое-кого из тех, кто обращался к нему самому, и слава Грамматика как человека не только ученого, но и духовно опытного, всё росла. Вспомнили и предсказание синкелла, сделанное после смерти халифа Мамуна, что агаряне оставят в покое восточные границы Империи…
Как мог еретик и даже ересиарх быть прозорливцем? Это нуждалось в объяснениях, и они не замедлили появиться: разумеется, «Ианний» узнавал будущее с помощью нечистой силы! Поползли слухи, что синкелл гадает по воде и занимается вызыванием бесов; тут же вспомнили и «Трофониевы пещеры» в особняке его брата, где игумен по-прежнему любил отдыхать, и «мастерскую» в его монастыре…
И вот, в очередной раз придя к вечерне в Свято-Антипьевский храм, Лев подвергся допросу со стороны тамошнего священника и нескольких монахов: зная, что он иногда встречается и общается с синкеллом, они принялись расспрашивать, не известно ли ему, что за колдовские опыты Иоанн проводит у себя в монастыре, чтобы предсказывать будущее, и каким образом он внушает императору еретические взгляды. Математик сначала подумал, что его собеседники шутят, а убедившись в обратном, попытался уверить их, что никаким колдовством синкелл не занимается, его опыты носят чисто научный характер, а император привязан к нему потому, что Иоанн, во-первых, его бывший учитель, во-вторых, человек очень умный и начитанный и, кроме того, приятный собеседник, поэтому в симпатии к нему василевса нет ничего странного.
– Нет, что-то тут нечисто! – покачал головой один из монахов. – Как же он предсказывает будущее? Прозорливым он быть не может… Значит, колдун!
Лев ощутил, как в нем поднимается глухое раздражение, однако улыбнулся и спросил:
– Почему же он не может быть прозорливым? Ведь он монах, упражняется в умной молитве и большой аскет, насколько мне известно. Да, он еретик, но ведь Сам Христос сказал, что даже многие беззаконные люди будут творить великие чудеса Его именем и изгонять бесов.
– Это не объяснение, – сказал священник. – Чудеса творятся именем Христовым, поэтому тут еще можно понять: имя Божие может творить чудеса независимо от добродетели призывающих его… Вот и таинства совершаются именем Господним, даже если священник грешен и недостоин. Но ведь провидеть будущее можно, только если его тебе кто-то откроет…
– Вот именно, отче! – кивнул монах. – А станет ли Бог открывать будущее хулителю Его икон и гонителю исповедников?! Конечно, нет! Значит, тут открыть будущее могут только бесы!
– Это по-своему логично, – сказал Философ, – но разве отсюда могут прямо следовать занятия колдовством? В конце концов, бывало, что подвижники просто впадали в прелесть, и бесы что-нибудь открывали им без всяких волхвований.
– Но об этом все говорят, что он колдун! – вмешался другой монах. – И что там он за опыты проводит? Монах ночами должен молиться, а не химией заниматься! Если б там не было ничего подозрительного, так разве стал бы он скрытничать? Наверняка он предается какому-нибудь нечестию… А в имении на Босфоре, куда он ездит, у него притон, он туда женщин возил, мой дядя сам видел его в лодке с монашкой, правда, уж давно, лет десять назад… Но какая разница! Он, видно, не только еретик, но и блудник!
– Что он колдун, мне один монах из Диева монастыря рассказывал! – воскликнул третий инок. – Этот Ианний тамошнего эконома сам пугал, что порчу на него нашлет!
Лев слушал своих собеседников и поневоле сравнивал их с синкеллом: сравнение складывалось определенно не в пользу первых.
– Знаете, что? – сказал он. – Я вот вас слушаю… Вы, наверное, встретив Иоанна на улице, разве что не плюнули бы в его сторону, а если б он вздумал с вами заговорить, вы бы ему тут же дали понять, какой он «проклятый еретик и мучитель», должно быть? И сейчас вы его поносите, передаете о нем всякие слухи, даже и не задумываясь особенно, правда это или клевета… У вас всё просто: если еретик, то молитвенником быть не может, непременно с бесами связан… Если б кого-нибудь из наших вы увидели вместе с монахиней или женщиной, вы бы подумали, что у них духовная беседа; а если еретика увидели с женщиной, то он, конечно, блудник… И вы, должно быть, думаете, что живете и угождаете Богу? Но среди вас прозорливцев я что-то не вижу. А про Иоанна говорят, что он прозорлив и дает хорошие духовные советы, и вам это непонятно? Что ж, я вам, пожалуй, объясню, почему это так. Я с господином Иоанном общался не раз, и он знает, что я с ним не одной веры. Но он никогда – заметьте, никогда! – ничего мне не говорил на этот счет, никогда не давал мне понять, что считает меня порочным человеком, и никогда, по крайней мере, при мне, он не поносил иконопочитателей так, как вы любите ругать иконоборцев… Кстати, я сам видел не так давно, как он своими советами помог одному человеку, который из-за постигших его искушений был почти в отчаянии, и этот человек был из иконопочитателей. Зачем Иоанн стал бы тут помогать, если он слуга бесов? Если он такой отъявленный злодей, как вы думаете, то почему же он до сих пор не внушил государю разогнать всех иконопочитателей из Города? Ведь вы сейчас будете в этом храме служить и спокойно молиться… А я, пожалуй, с вами молиться не буду. Если правда, что «по делам познаете их», то… мне кажется, Бог скорее услышит Иоанна, чем вас! Простите за прямоту! – и, поклонившись, Лев вышел, предоставив своих ошарашенных собеседников самим себе.
Он вернулся домой в таком сильном раздражении, какое, пожалуй, не охватывало его еще никогда в жизни. Более всего его вывели из себя не столько услышанные глупости и сплетни, сколько мысль, что этих людей невозможно разубедить. Даже его последняя речь перед уходом не окажет на них воздействия: разумеется, подумав, они решат, что Грамматик и Льва уже успел «заколдовать»… или что-нибудь в таком роде… Если б он рассказал им подробнее о том, как синкелл сумел за краткое время вывести Кассию из тяжелого душевного состояния, они бы, вероятно, тоже всё списали на «колдовство»… Пожалуй, еще и осудили бы ее за то, что она обратилась за помощью к еретику, вместо того чтобы «смиренно нести тяготу душевную»…
Лев ходил по своей небольшой гостиной от окна к двери и обратно. Кассия! Вот кто огорчится, если он последует тому желанию, которое овладевало им всё больше… Вряд ли осудит, но расстроится… Конечно, мысль, что он доставит ей скорбь, тяжела, но… В конце концов, общаться они всё равно будут по-прежнему. А что касается разной веры… Что вообще представляет собой эта граница? Где она проходит? Возможно ли ее определить так четко, как хочется этим ненавистникам «колдунов и еретиков»?.. Ведь очевидно, что действие Бога не ограничивается той чертой, над которой написано слово «анафема»! Иов не принадлежал к избранному народу, но оказался самым праведным человеком своего времени… Корнилий сотник был язычником, но молился Богу и старался жить благочестиво, в меру своего понимания, и молитва его была услышана… Синесия Киренского рукоположили в епископа, хотя он отрицал воскресение и уверовал лишь потом… Императрица Федора покровительствовала и православным, и монофизитам, а ныне чтится во святых… Конечно, проще всего возглашать, что все еретики – злонамеренные богохульники, «жестоковыйный род», «прущий против рожна» и не желающий услышать голос истины… Только почему эти борцы за истину не догадываются посмотреть на себя со стороны и подумать, многим ли, по крайней мере из числа людей, умеющих мыслить, захочется внимать истине, изрекаемой таким образом и в сопровождении таких доводов?..
Вечером Лев долго читал Псалтирь, после каждой кафизмы молясь о вразумлении, как дальше поступить. Ходить в Свято-Антипьевский храм ему больше не хотелось. В Городе были и другие общины православных, однако Философ подозревал, что его речь в защиту «колдуна» вскоре станет известна всем столичным иконопочитателям… Правда, можно ездить за окормлением куда-нибудь на Принцевы или в Хрисополь, но… Нужно ли, когда почти рядом находится Сергие-Вакхов монастырь?..
Теперь Лев окончательно осознал, насколько обитель, где игуменствовал Грамматик, привлекала его. Ему нравилось там всё: богослужение, пение, братия, «философские» проповеди настоятеля и общий дух в целом… Лев был там четыре раза, хотя, отправляясь туда впервые после знакомства с синкеллом, думал, что только посмотрит на знаменитое «гнездо ереси», и всё… Но потом его тянуло туда снова и снова, хотя он сдерживал это стремление и даже Кассии не признался в том, что обитель «великого софиста», можно сказать, покорила его, хотя иногда ему хотелось поделиться с ней этим впечатлением. «Во мне говорит любовь к красоте, – думал он. – Но ведь не всегда внешняя красота свидетельствует о внутренней. И красивое яблоко может быть внутри червивым… К тому же на любви к красоте я уже один раз обжегся… Это слишком затягивает!..» Но дело было не только в «Ианнии» и его монастыре. Патриарх Антоний, с которым Лев несколько раз сталкивался во дворце, тоже произвел на Математика очень приятное впечатление. Об императоре же что говорить – Лев мог им только восхищаться, а беседы с ним и с Грамматиком доставляли ему такую радость, какой он никогда не ощущал при общении с единоверцами, за исключением Кассии.
Но игуменья была за монастырскими стенами, откуда ко Льву доходили лишь письма. У писем, конечно, была своя прекрасная сторона, о чем Кассия однажды написала ему: «Тебе не кажется, Лев, что письменное общение располагает к более свободному выражению мыслей? И более чистому. Это как бы общение ума с умом непосредственно, без отвлечения на что-либо телесное и внешнее…» Безусловно, это было так, однако далеко не всё можно было выразить в письме. И если даже апостол Иоанн жаждал говорить со своими адресатами «устами к устам», то должен ли человек, от святости весьма далекий, укорять себя за подобное желание? Лев любил книги и не любил толпу, но по душевному складу он не был «отшельником»… Внутренние весы в его душе колебались уже давно, и чем дальше, тем больше, хотя он до поры, до времени пытался не думать об этом. Однако настала пора определиться.
Лев взял свечу и отправился в библиотеку. Перекрестившись, не глядя протянул руку и снял с крючка связку ключей от книжных шкафов. Первый попавшийся ключ был от шкафа с философскими рукописями. Открыв его, Математик так же наудачу снял с третьей полки книгу, взглянул и улыбнулся: это был Диоген Лаэртий. Лев открыл рукопись наугад и прочел вверху страницы: «…однажды Кратет схватил его за плащ, чтобы оттащить от Стильпона. “Нет, Кратет, философов мало хватать за уши: убеди и уведи! – сказал ему Зенон. – А если ты оттащишь меня силой, то телом я буду с тобой, а душой со Стильпоном”».
– Что ж, так и есть! – прошептал Лев.
Он убрал книгу на место, вернулся к себе, еще немного помолился и лег спать. На следующее утро он был в Сергие-Вакховой обители.
– Вероятно, мои бывшие единоверцы, если только не припишут всё твоему «колдовству», скажут, что «умственная гордыня» во мне оказалась сильнее смирения перед «евангельской простотой», – усмехнулся Философ, рассказав синкеллу об обстоятельствах, подвигших его сделать окончательный выбор.
– Признаюсь, я ждал, что рано или поздно это случится, – улыбнулся Иоанн. – Но что до единоверцев… Ты ведь не собираешься выбрасывать из дома иконы, верно?
– Разве ты будешь этого требовать?
– Нет. Это я к тому, что граница более тонка, чем этого хочется твоим бывшим единоверцам, – сказал игумен с едва уловимой улыбкой. – «А давать всему этому простейшее объяснение пристало разве лишь тем, кто хочет морочить толпу».
– Вот это точно! – Лев помолчал и тихо рассмеялся. – Собрались два еретика и пришли к согласию, процитировав древнего безбожника!.. Так ты исповедуешь меня?
– Да.
После исповеди игумен сказал племяннику:
– Не скорби о госпоже Кассии. Она, разумеется, огорчится, но поймет тебя. А ей, думаю, это огорчение принесет и определенную пользу. Зато для государя твое обращение будет поистине благой вестью! – он улыбнулся. – Придешь завтра в Халкопратию?
– Да, я и на выход в Великую церковь собираюсь придти.
На Благовещение, по обычаю, император с синклитиками и чинами ранним утром совершал торжественный выход в Святую Софию, а оттуда крестным ходом вместе с патриархом все отправлялись в Халкопратийский храм Богоматери на литургию.
– Кстати, ты передал госпоже Кассии подарок государя? – спросил синкелл.
– На другой же день лично отнес. Она позавчера написала мне, что уже разучивает стихиру с сестрами.
– Августейший будет рад узнать об этом.
– Я скажу ему при встрече… Послушай, Иоанн, я давно хотел задать тебе один вопрос, но не решался. Быть может, это слишком личная история… В любом случае, разумеется, ты можешь не отвечать, если не хочешь.
– Что за вопрос?
Лев поднял глаза на синкелла.
– Чем ты обидел мою мать во время оно?
– Твою мать? – Грамматик чуть приподнял бровь. – Почему ты думаешь, что я ее чем-то обидел?
– Судя по тому, что она запретила мне в юности идти к тебе учиться и едва простила тебя на смертном одре, ты обидел ее очень сильно. Перед смертью она попросила меня передать тебе, что она тебя простила.
Иоанн молчал; Лев пристально смотрел на него, но не заметил на его лице никаких признаков волнения или замешательства: Грамматик просто раздумывал.
– Видишь ли, – сказал он, наконец, – с юности, даже с детства я любил проводить разнообразные опыты. Некоторые из этих опытов касались и женщин и оканчивались для них малоприятно… Впрочем, довольно скоро я понял, что с женщинами опытов лучше не совершать.
– Почему?
– Во-первых, после нескольких опытов я решил, что итог один и тот же, а потому это неинтересно; а во-вторых, – синкелл усмехнулся, – я понял, что такого рода опыты не всегда бывает легко удержать в изначально поставленных рамках… Ты говоришь, Каллиста запретила тебе учиться у меня? Когда же это было?
– Мне было тогда пятнадцать, я искал учителя философии, случайно узнал о нашем с тобой родстве и подумал, что, быть может, ты снизойдешь со своих высот до нищего племянника, – Математик улыбнулся. – А мать никогда не упоминала о тебе. Когда я заговорил с ней об этом, она взяла с меня клятву, что я никогда не буду учиться у тебя. Должно быть, боялась, что ты будешь… ставить надо мной опыты?
– Возможно, – задумчиво сказал Иоанн.
– Это после… случая с ней ты понял, что лучше не ставить опытов с женщинами?
– Нет.
«Не человек, а глубокий колодец! – подумал Лев. – А ведь у него, наверное, были в жизни свои страдания… и страсти…»
Синкелл взглянул на него.
– Простила перед смертью, говоришь? Что ж, благодарю, что сказал, – он помолчал. – Нелегкого нрава была женщина!.. Впрочем, – Иоанн усмехнулся, – в молодости и я был не подарок!
…На Благовещение после праздничного обеда Лев, тоже оказавшийся среди приглашенных, попросил позволения поговорить с императором и, когда они остались вдвоем, достав из холщовой сумы книгу в синей с золотым узором обложке, с поклоном протянул ее Феофилу.
– Государь, позволь мне сделать тебе подарок.
– Подарок? Ты сегодня уже сделал мне подарок, Философ, чего же лучше? – император лыбнулся и раскрыл книгу на первой странице. – Но, разумеется, и этот с благодарностью приму! О, тут еще и дарственная надпись!
– Да, – сказал Математик. – Да не прогневается твое величество на мое скромное сочинение.
– Как можно, Лев! – и Феофил прочел:
- «Страсть горькую, но жизнь воздержную
- Нам Клитофонта здесь показывает слово.
- Левкиппы ж непорочнейшая жизнь
- всех изумляет: как она избита,
- острижена, унижена же зло,
- А главное – и умирает трижды.
- И если, друг, благоразумным хочешь быть и ты,
- не внешность слова маловажную исследуй,
- но выводу из повести ты научись:
- она ведь браком сочетает любящих разумно».
– Пожалуй, пришлось вовремя, – тихо проговорил император, еще раз перечитал эпиграмму и взглянул на Математика. – Благодарю, Лев! – Феофил принялся листать книгу. – Хм, занятно!.. Я знаю об этой повести, но до сих пор так и не прочел… Благодарю еще раз; кажется, это действительно весьма интересно!.. Только возникает вопрос, что же такое разумная любовь. Если, скажем, как у мучеников Хрисанфа и Дарии, то ко мне это точно отношения не имеет, – император чуть усмехнулся. – Но к этой повести, как я вижу даже при беглом просмотре, это тоже не относится.
– В повести, государь, имеется в виду хранение верности друг другу, несмотря на испытания и даже мучения. Это верно для земной любви, но если подняться до символического истолкования, то есть и иной брак. Истинный брак – только один, и на нем сочетаются любящие разумно… Тот вечный брак, где всем нам нужно встретиться, и ради него мы должны переносить здешние горести. Вот, примерно так…
– Да, хорошее толкование, – сказал Феофил. – Брак как встреча на небесах… – он опять раскрыл повесть ближе к началу, вчитался и усмехнулся. – Экая тут апология женоненавистничества! Но повесть всё же не про это?
– Нет, не про это. Она про любовь, преодолевающую все препоны. Влюбленные герои воссоединились, но прежде им пришлось много всего претерпеть.
– Пост еще не окончился, а ты подсунул мне такое непостное чтение, Философ! – император чуть улыбнулся.
– Истинный пост внутри, государь, и он или всегда есть, или его никогда нет, а перемена в еде – это ведь только вспомогательное средство.
– Да, я тоже думаю, что если ты считаешь, что какие-то книги читать не стоит, то их не нужно читать никогда, а не только в пост; если же читать их всё же можно, то тогда можно и в пост, не так ли?
– Именно, августейший, – с улыбкой кивнул Лев. – Но я решил подарить тебе эту книгу потому, что недавно узнал некоторые подробности одной истории, которая отчасти протекала на моих глазах… В этой книге есть еще одна дарственная надпись, сделанная когда-то для меня, но думаю, на самом деле она по праву принадлежит тебе.
В тот день, когда у него в доме Кассия встретилась с синкеллом, после ухода Грамматика она, наконец, в нескольких словах рассказала Льву о своем участии в выборе невесты императору и о последствиях этого, и он понял, что книга, подаренная ему ею, скоро обретет своего настоящего владельца – недаром Математику всегда странным образом казалось, что этот подарок предназначался на самом деле не ему…
Лев открыл книгу в самом конце. Император посмотрел и вздрогнул. Он сразу узнал почерк, но если бы даже и возникли сомнения – в молодости рука писавшей выводила буквы более округло, – им не дала бы места подпись чуть ниже: «От Кассии на молитвенную память».
– И какой же из эпиграмм ты посоветуешь больше верить, Лев? – спросил Феофил после небольшого молчания. – Твоей или ее? Признаться, я долгое время склонялся к мысли, что «жена, сияющая видом», – хотя и умеренное, но всё же зло… А теперь иногда думаю: не затем ли мы склонны считать нечто злом, чтобы причинять зло другим, не только не ощущая особых угрызений совести, но даже думая, что совершаем добродетели?.. Однажды в молодости я произнес довольно пылкую речь о христианской любви и о воздержании, но на самом деле мною тогда двигали чувства, весьма далекие от благочестия… Впрочем, – он усмехнулся, – такое бывает сплошь и рядом. Жизнь… похожа на кристалл хрусталя неправильной формы: посмотришь через него с одной стороны – вроде бы чудятся одни очертания, а повернешь – уже иные… Или вот еще есть такие странные оттенки глаз: на солнце они кажутся одного цвета, при свечах другого… А каков их цвет на самом деле, даже и понять трудно. Зависит от угла зрения.
Император отошел к окну. Что знал Математик об этой истории? Кассия что-то рассказала ему… впрочем, скорее всего, лишь в общих словах… Какое всё-таки странное переплетение судеб!..
– Да, но это понятно, – сказал Лев. – Мудрецы говорили, что советовать другим легко, а познать себя трудно, но познать себя и достичь счастья можно только через деятельность «в согласии с правильными понятиями». Счастье – плод деятельности, и у апостола сказано, что «трудящемуся делателю первому подобает вкусить от плода». Когда мы начинаем осуществлять то, что сочли правильным, мы неизбежно сталкиваемся со множеством оттенков, которых раньше не замечали, так что иногда приходится пересматривать свои понятия о правильном. Младенцы умом и душой рассуждают по-детски и часто смотрят на жизнь слишком упрощенно, но, придя в совершенный разум, мы «оставляем младенческое».
– Да, простота и упрощенность – далеко не одно и то же… Хотя мудрость и софистику не всегда легко различить, даже в собственных рассуждениях, – Феофил чуть заметно усмехнулся. – Для этого нужен жизненный опыт. Иной раз думаешь, что уподобляешься той самой мудрой и рассудительной змее, о которой Христос говорит, а потом оказывается, что подражал в лукавстве змию…
– Жизнь на то и дана, чтобы мы, проходя через испытания и получая разные уроки, поняли, что нами движет на самом деле, какие из наших побуждений истинны, а какие ложны… И чтобы, поняв это, мы постарались исправить те ошибки, которые, быть может, успели сделать раньше, пока этого не понимали.
Феофил пристально взглянул на Математика.
– Думаешь, Лев, их действительно можно исправить?
– Я уверен, государь, что в наших силах исправить многое, а в остальном поможет Бог, если увидит старание человека. Закхей всего лишь влез на дерево, а Христос тут же пришел к нему в дом, а когда Закхей выразил желание исправить прежние свои злые деяния и ошибки, Господь сказал, что пришло спасение не только самому Закхею, но и всему его дому… О том же, кажется, сказал и Гомер:
«Шествуй, о друг! а когда что суровое сказано ныне, После исправим; но пусть то бессмертные всё уничтожат!»
– Что ж, будем надеяться, Философ, – задумчиво проговорил император.
20. Дружба и вера
Те, кто желает друзьям блага ради них, друзья по преимуществу. Действительно, они относятся так друг к другу благодаря себе самим и не в силу посторонних обстоятельств, потому и дружба их остается постоянной, покуда они добродетельны, а добродетель это нечто постоянное.
(Аристотель, «Никомахова этика»)
Кассия сидела у себя в келье и читала письма игумена Феодора из сборника, составленного студитами после его кончины; копию этого сборника недавно сделал для ее обители Николай. Собрание было объемистым: Николай, находясь рядом с Феодором и исполняя послушание писца, копировал письма, казавшиеся ему важными, а когда братия и почитатели Студита узнали, что игумен Навкратий хочет собрать писания исповедника, они стали приносить сохранившиеся у них послания или их копии.
«Нет ничего похвальнее истинного друга, – так начиналось одно из писем. – Но когда среди любящих возникает разногласие из-за веры, тогда, естественно, вместе с верой разрывается и любовь. Но зачем мы сделали это вступление, господин? Твоему почтенству хорошо известны и прежняя дружба, и последующее разделение. Поэтому мы сомневались, можно ли тотчас принять посылки от твоего превосходства…»
«“Естественно”? – подумала Кассия. – Почему же тогда мне это вовсе не кажется естественным?..»
Действительно, хотя пришедшее вечером Благовещения письмо от Льва, где он сообщал, что присоединился к иконоборцам, и подробно рассказывал историю своего «обращения», стало для игуменьи вестью вовсе не благой, у Кассии и мысли не возникло, что ей нужно прекратить с Математиком все отношения. Он просил в письме прощения за то, что вынужден огорчить ее, но уверял, что не мог поступить иначе и теперь ясно сознаёт, что этот шаг уже давно был всего лишь вопросом времени… Она прекрасно его понимала и не могла осуждать, особенно после своей недавней встречи с «Ианнием». Когда ее разговор наедине с синкеллом окончился, они позвали Льва и втроем еще долго, до самой темноты сидели в гостиной и беседовали. Кассия попросила у Математика пергамента и чернил и написала для императора стихиру про жену-грешницу, после чего разговор какое-то время вращался вокруг гимносложения. Потом Грамматик рассказал, что недавно Евфросина, бывшая императрица, прислала Феофилу очень любопытную рукопись, переданную ей родственником: это был сборник кратких историй, точнее, забавных рассказов, касавшихся различных построек Константинополя, особенно много места там уделялось статуям, украшавшим Город, и связанным с ними поверьям. Судя по всему, автор жил в царствование Константина Исаврийца: в рукописи он именовался императором «нашего времени», а его отец Лев упоминался как уже умерший. Сборник представлял собой причудливую смесь разных сведений, почерпнутых из исторических сочинений или устных преданий, сплетение фантастических подробностей и суеверий, рассказов о «чудесах» от различных статуй, легенд об основателе древнего Византия, насмешек над высокопоставленными лицами, даже над императорами, о которых подчас сообщались сведения самые странные. Например, о Константине Великом рассказывалось, будто он воцарился, победив Византа не то в вооруженном поединке, не то на скачках, причем автор сборника уверял, что венеты приветствовали императора-победителя криками: «Ты вновь с кнутом в руке выходишь на арену, как будто получил вторую молодость!»
– А ведь это не что иное, как начало эпиграммы, начертанной на статуе возницы Порфирия на Ипподроме, – сказал синкелл. – Вообще, эта книга чрезвычайна забавна! Давно я не читал столь затейливого переплетения вымыслов и действительности. Причем автор, похоже, сам верил в большинство выдумок, которые пересказывает.
– Действительно любопытно! – улыбнулся Лев, – Впрочем, для большинства народа история существует именно в виде подобного смешения сказок и были.
– Я бы сказал, что не только для народа, но и для людей весьма образованных и, так сказать, избранных, – заметил Иоанн. – Исторические сочинения – вообще очень коварная вещь. Стоит историку хотя бы лет на пять-десять удалиться от событий, как быль уже начинает уступать место вымыслам или натянутым и извращенным толкованиям, особенно если меняется обстановка в государстве или в Церкви, например. Трудно встретить изложение хотя бы не очень предвзятое!
– Мне иногда кажется, – сказала Кассия, – что люди вообще гораздо охотнее верят выдумкам, чем правде. Удобнее верить в привычное, в общепринятые представления о жизни и людях… А ведь жизнь не всегда идет по привычным дорогам!
– Так и есть, – кивнул игумен. – Но иной раз склонность людей верить в общепринятое можно неплохо использовать.
– Каким образом? – поинтересовалась Кассия.
– Например, не всегда нужно разуверять того, кто превратно думает о тебе. Скажем, многие невежды считают меня колдуном, но мне это только на руку – избавляет от необходимости лишний раз сталкиваться с ними, ведь они сами обходят меня стороной!
Все трое рассмеялись.
– Да, – сказал Лев, – пожалуй, если б ты не имел дурной славы в некоторых кругах, то, при твоем образе жизни, многие из этих невежд рвались бы к тебе за духовными советами…
– Вот именно. Зато, будучи «волхвом», я могу позволить себе давать советы только тем, кому они действительно нужны и послужат на пользу, – синкелл с улыбкой взглянул на Кассию, и она улыбнулась в ответ.
Теперь она снова вспоминала эту беседу, за которой незаметно пролетели несколько часов, и разговор со Львом после ухода Грамматика.
– Помнишь, я спрашивала тебя, что делать, если встречаешь свою «половину», а ты сказал, что нужно вступать в брак? Я потом долго мучилась этим вопросом… И позже, в монастыре, когда всё вернулось, и потом, когда государь приходил… И только сегодня, наконец, кажется, всё объяснилось!.. Ну, почти всё… кроме разной веры, – она вздохнула. – Но может быть, и здесь со временем всё устроится…
– Думаю, устроится! – ответил Философ. – Тебе выпал путь не из легких… Но вам с государем можно только завидовать!
– А я иногда очень завидую тебе, Лев, – тихо проговорила игуменья. – Ты так много общаешься с такими людьми… В юности, когда я мечтала о монашестве, мне и в голову не пришло бы, что я буду завидовать мирянину, причем из-за того, что он общается с умными еретиками! – она грустно улыбнулась. – Всё-таки я плохая Христова невеста…
– Я не стал бы утверждать это с такой уверенностью. Вся наша жизнь это, в сущности, Троянская война, так или иначе она продолжается до самой смерти. Так что, пока мы живы, не стоит спешить с выводами: «Впрочем, еще то лежит у бессмертных богов на коленях: мчись и мое копие, а Кронион решит остальное!» А что до общения с умными людьми… Оно, разумеется, великий дар Божий, но ведь всяким даром нужно уметь воспользоваться… Кто знает, не истяжут ли меня на том свете за то, что я не использовал его так, как нужно?..
Так, как нужно!.. А как нужно?.. Вернувшись в обитель в тот день, Кассия записала в тетрадь очередную эпиграмму:
- «Питать мне зависть не давай, Христе, до смерти,
- Но даруй, чтоб завидовали мне: ведь я сего желаю —
- Всецело зависть вызывать в божественных делах».
«Смотря у кого вызывать зависть! – думала она теперь. – Если жить добродетельно, понимая добродетель так, как эти монахи, из-за которых Лев ушел из Антипьевской общины… Нет, так “добродетельно” я уже никогда не буду жить! А они вряд ли будут мне завидовать. Завидуют ведь тому, кто имеет что-то ценное, с твоей точки зрения, а для них ученость не имеет особой ценности… Пожалуй, они даже будут относиться к ней с подозрением! Она ведь одних до “волхвования” доводит, а других уводит от православия в ересь… Лев сказал, что завидует мне… Но добродетель тут, строго говоря, не при чем! Общение душ?.. Что в нем пользы, если, умри мы с Феофилом сейчас, на небесах нам не встретиться?! И изменится ли это к тому моменту, когда мы действительно умрем, неизвестно… Должно быть, владыка Евфимий был прав, когда сказал, что Иоанн “закрыл государю все входы и исходы”… Только ведь это так понятно! Вот и Лев не устоял…»
– «Колдун»! – прошептала Кассия, грустно улыбнулась и смахнула слезы с ресниц.
Она закрыла сборник писем Студита, встала и подошла к окну. Что ж, значит, у нее с отцом Феодором разные понятия о дружбе, если он мог сразу прекратить дружеское общение при разрыве общения церковного и даже подарков не принимал, а ей такая мысль не только кажется странной, но… Знали бы ее единоверцы, что она обменивается подарками с «предтечей антихриста» и разучивает с сестрами написанную им стихиру!..
«Вместе с верой разрывается и любовь»… С этой точки зрения весь ее разговор с Грамматиком был весьма неблагочестив – ведь, в сущности, они обсуждали вопрос дружбы между православной и еретиком… А всё, как будто бы, должно быть понятно: их любовь – греховная страсть, с которой надо бороться, а дружбы между ними не может быть в силу разности веры… И никаких вопросов, не так ли?..
Конечно, если бы речь шла не о дружбе вообще, а о дружбе ради борьбы за веру, утверждения православия и подобных вещей, то это, наверное, так. Такие друзья, встречаясь, конечно, обсуждали бы церковные вопросы, говорили о гонениях на веру, о доводах в защиту иконопочитания, о том, когда кончится еретическая зима…
Ни о чем таком Кассия с тем же Львом почти никогда не разговаривала. Это не значило, что состояние церковных дел не интересовало ее. Она просто не видела смысла рассуждать об этом. Как говорил о торжестве иконопочитания игумен Феодор, Бог «не поспешит, хотя бы мы и молились об ускорении, и не замедлит, хотя бы мы умоляли о том, но придет тогда, когда это полезно», – если же это так, какой смысл рассуждать о сроках, и о том, «доколе»? Держаться своей веры, исповедовать ее, пытаться обратить непонимающих – всё это можно делать без праздных разговоров и пересудов. Кассия обсуждала со Львом совсем иные вопросы, не имевшие отношения к догматам, и могла бы их обсуждать и с «Ианнием», и с Феофилом… Как тут разная вера может мешать общению? Это нелепо!..
«Дружба существует только между взыскующими, в силу их сходства». Сходства характеров, занятий, умонастроения, стремления к истине, как бы ее ни понимать… Разумеется, древние философы не имели здесь в виду сходства догматов… Но ведь и Феофил, и Иоанн, и Лев в конечном счете, взыскуют Небесного Града, хотя у нее с ними и разная вера… Разная вера не мешала ей обсуждать с Грамматиком даже духовные и аскетические вопросы! Так не бессмысленно ли в таком случае думать о прекращении дружбы со Львом или о невозможности дружбы с Феофилом из-за разной веры?..
Пытаться убедить в догматических истинах людей, которые сами знают, может быть, лучше тебя, все те доводы, какие ты можешь выдвинуть, – не смешно ли? Именно потому ей не хотелось обсуждать с Грамматиком вопрос об иконах и представлялась неуместной попытка «образумить» Математика… А Феофил? Любой из исповедников, разумеется, счел бы необходимым постараться обратить василевса, если б ему представился случай… Счел бы это своим непременным долгом! Только почему? Разумеется, потому, что в деле торжества православия от самодержца зависело слишком многое, если не всё… Но вот вопрос: кого волновала вечная участь души императора сама по себе?..
А если бы случай обратить Феофила представился ей?..
Кассия повернулась и взяла со стола окрашенный в пурпур лист пергамента, где, в нарисованной серебром рамке из виноградных лоз, золотом была написана стихира с серебряной разметкой мелодии – рукой некогда вписавшей три слова в стихиру про жену-грешницу. Общение душ… Конечно, если б она общалась с Феофилом хотя бы письменно, она бы попыталась отвратить его от иконоборчества… Но к чему бы это привело? Возможно, император прислушался бы к ней больше, чем к другим… Только из любви ли к истине или… из любви к женщине?.. Впрочем, не то же ли самое у нее? Ей не хотелось, чтобы сбылось пророчество о его смерти, – значит, спасения любимого человека ей хотелось больше, чем скорейшего торжества истинной веры… Но можно ли это разделить? Разве Бог не любит каждого человека так, что за каждого снова претерпел бы распятие, как о том писал Ареопагит?
А может быть, православные до сих пор гонимы потому, что все хотят торжества веры, а о спасении отдельных людей, особенно врагов, думают гораздо меньше?..
В любом случае, если бы возможность обратить Феофила к православию ей действительно представилась, то вместо бесед с Иоанном об аскетике ей пришлось бы вступить с ним в диспут об иконах!.. Впрочем, нет, до этого бы не дошло, наверное. Но таких дружеских бесед, как теперь, вероятно, им вести бы не пришлось…
– Дружба с ересиархом! – она усмехнулась.
Она говорила с этим человеком три раза в жизни и, скорее всего, больше никогда не встретится, и этот человек принимал самое непосредственное участие в гонениях на дорогих ей исповедников, ее единоверцев!.. Что же? Разве она поколебалась в догматах веры? Нисколько. Разве отцы Навкратий, Николай, Дорофей и другие или память об отце Феодоре и прочих почивших исповедниках стали ей менее дороги? Нимало. Она по-прежнему любила их, а они – она знала это хорошо – любили ее и всячески сочувствовали ей и желали ее спасения. Но – теперь она это тоже хорошо сознавала – никто из них не смог бы ей помочь так, как помог «великий софист». Почему? Потому что он был ей ближе по умонастроению, по образу жизни? Или потому, что он смотрел на всё более философски и более широко, если можно так выразиться? Или потому, что у него самого был подобный опыт?.. Кассия смутно догадывалась, что Грамматик, говоря о любви и дружбе, исходил не только из теоретических познаний, но, разумеется, узнать что-нибудь о частной жизни игумена не представлялось возможным: Лев уже давно написал ей, что синкелл – «самый загадочный человек на свете»…
Как бы то ни было, существовало три человека, наиболее близких ей умственно и душевно, и все они сейчас находились в стане еретиков, а большинство собственных единоверцев внутренне ей были гораздо менее близки…
«Вот жизнь! – подумала Кассия. – Только разрешились одни мучительные вопросы, как тут же на их место пришли другие! И эти, кажется, я должна буду разрешать сама… А ведь было бы интересно обсудить всё это со Львом и с Иоанном… и с государем… Но это невозможно… Остается только молиться… Ведь, в конце концов, молитва сильнее слов!»
Эти сложности были не единственными. Игуменью беспокоила Евфимия: хотя она довольно легко приспособилась к новой жизни, радостно исполняла все послушания, какие бы ей ни давали, с сестрами была кротка, и все ее любили, но на девушку часто нападала тоска. Кассия слишком хорошо была знакома с этой тоской и скорбела оттого, что даже при своем знании могла помочь послушнице разве что понимающим сочувствием. Духовные средства борьбы были известны – молитва, терпение, откровение помыслов, – но Кассия знала, что нужны месяцы и годы труда, прежде чем станут явно ощутимы плоды. Особенно ее угнетала мысль, что Евфимия не могла иметь даже того «человеческого» утешения, что было у нее самой, – сознания внутреннего сродства, душевной близости, дружбы, которой не мешало расстояние: Евфимия была уверена – и, видимо, справедливо, – что история ее падения для императора явилась только случайным происшествием, что он сошелся с ней невзначай и расстался без каких бы то ни было сожалений. Скорее всего, он даже не подозревал, что не только вторгся в ее тело, но и перевернул всю ее душу… И теперь она мучилась воспоминаниями о человеке, для которого была пустым местом!
– Иногда я начинаю его ненавидеть, – призналась она как-то игуменье. – Но это, верно, обратная сторона страсти. Я не могу его ненавидеть. Да ведь это и грех… Куда ни посмотри, с какой стороны не зайди, везде один грех!.. Что за безысходность!.. Я не должна о нем думать… должна испытывать только сожаление о том, что согрешила, каяться… А я… иногда… жалею, что это было только раз и больше уже не будет… И я всё равно никогда его не забуду! – она расплакалась.
– Нельзя требовать от себя невозможного, Евфимия, – тихо сказала Кассия. – Это признак не раскаяния, а гордости. Помнишь, мы недавно читали у святого Макария: благодать Божия не сразу овладевает всеми пажитями сердца, не сразу воцаряется в нас, а постепенно. И даже если нам кажется, что мы уже изжили грех, это еще ни о чем не говорит: возможно, греховные желания просто спят в нас до времени, а потом придет случай, и всё обнаружится, да еще с такой силой, с какой никогда и не бывало раньше. «Как вода течет в трубе, так и грех – в сердце и помыслах». Но тот же святой говорит, что человек драгоценнее не только всех видимых тварей, но и ангелов. Если Бог даже грешников, не знающих и не желающих Его, питает и вразумляет, то оставит ли Он тех, кто каждый день устремляет к Нему мысль? Делай то, что можешь, молись, как получается. Бог смотрит на старания сеятеля, а не на то, сколь много возрастет из того, что мы сеем, – она помолчала. – И за государя молись, чтоб Господь вразумил его, прежде всего относительно веры. Всё, что бывает в этой жизни, плохое или хорошее, когда-нибудь окончится, может быть, гораздо быстрее, чем мы думаем… Надо больше думать о встрече на небесах.
– Я думаю, матушка, – прошептала Евфимия. – И я за него молюсь.
В Цветоносную неделю на утрени в обители спели новую стихиру. Поначалу игуменья колебалась, говорить ли сестрам, чьим сочинением она была, но потом решила, что туманные отговорки могут породить больше толков, чем правда, тем более, что всех монахинь стихира просто восхитила. К некоторому удивлению Кассии, известие об авторстве сестры приняли тоже с восторгом, наперебой стали вспоминать, как император посетил монастырь, как хвалил их занятия, и тут же все признались, что молятся за государя, чтобы он обратился к истинной вере и не умер в ереси. Игуменья едва не расплакалась: в этот день она ясно поняла, что обитель, в которую она столько лет вкладывала свою жизнь, теперь отдавала ей сторицею – и, может быть, не только ей, но и тем, кто был ей дорог… Ведь, в конечном счете, есть ли на свете что-нибудь дороже молитвы, хотя люди так часто презирают ее и не верят в ее силу!..
- «Изыдите, язычники, изыдите и люди,
- и узрите днесь Царя Небесного
- словно на престоле высоком,
- на простом осленке в Иерусалим входящего.
- Род иудейский, неверный и прелюбодейный,
- прииди, узри Того, Кого видел Исаия
- во плоти нас ради явившегося,
- как Он обручает Себе целомудренный Новый Сион
- и отвергает осужденное сонмище…»
На этих словах слезы подступили к горлу Кассии, но она усилием воли сдержалась – надо было допеть. «Нет, не может быть, чтобы Господь оставил его! – мелькнуло у нее в голове. – Разве можно сочинить такое без Божией помощи?.. Это слишком прекрасно!..»
- «…как в нетленном же браке и нескверном,
- нескверные стеклись, славословя, неискусозлобные дети.
- С ними же мы, поя, возопиим песнь ангельскую:
- осанна в вышних
- Имущему великую милость!»
…Вечером Великой среды игуменья получила письмо от Льва. «Сегодня твою стихиру пели в Святой Софии. Государь захотел быть на службе там, а не в дворцовой церкви, и сам управлял хором. Стихира великолепна! В храме многие плакали, и я тоже».
«Вот и сбылась детская мечта! – подумала Кассия. – Но как! Знала бы я, когда мы говорили об этом с мамой и отцом Симеоном, что мою стихиру будут петь в Великой церкви иконоборцы!.. Пожалуй, я бы страшно возмутилась…»
Стихира действительно произвела на слышавших ее в Святой Софии необычайно сильное впечатление, особенно на женщин – на галереях пролились потоки слез. Императрица тоже пришла в такое умиление и сокрушение, какое давно уже не посещало ее. Августа догадалась, что хор пел ту самую стихиру, о которой Феофил говорил ей, вернувшись после посещения Кассииной обители, но, хотя это вызвало у императрицы некоторую ревность – впрочем, к ее собственному удивлению, не такую уж острую, – Феодора ничего не стала говорить мужу. Сначала она хотела расспросить его и, быть может, немного съязвить или как-то выразить свою обиду, но вдруг подумала, что это будет выглядеть глупо и ни к чему хорошему не приведет: «Я только лишний раз покажу себя сварливой ревнивицей, а что в том пользы? Ведь он же честно сказал мне, что нельзя требовать от него того, чего он не может дать…» Однако главное было даже не в этих соображениях, а в том, что Феодора боялась порвать незримую нить, тончайшую, почти неопределимую, которая протянулась между нею и Феофилом, помимо плотского влечения, связывавшего их всегда. Она сама не могла пока понять, что это за нить, какова ее природа, что следовало из этой связи, но ясно ощущала, что связь существует, и старалась гасить свои обидчивые порывы. Но стала ли она сдерживаться потому, что ощутила эту возникшую связь, – или может быть, напротив, осознала существование этой связи потому, что сумела выйти из замкнутого круга своих оскорбленных чувств и взглянуть на мужа другими глазами? Как бы то ни было, появление этого другого зрения определенно было связано с попыткой соблазнить Евдокима, потому что теперь императрица уже не ощущала себя столь «невинной», как прежде. Феофил сказал, что «всё знает» о ее неудавшейся попытке измены, – но догадывался ли он о том, что, обняв комита схол, она ощущала не просто желание отомстить? Она хотела Евдокима – и то, что измена не состоялась, нимало не оправдывало ее, ведь это случилось не по ее желанию, а вопреки ему… Вряд ли влечение к этому «мальчику» можно было назвать любовью, но всё же красивый каппадокиец, с его страстью, нежностью, сочувствием, преданностью и проницательностью, не оставил ее равнодушной – она понимала это слишком ясно, и это сознание не давало ей судить Феофила так легко, как это она делала раньше…
На второй седмице после Пасхи Феодора зашла в императорскую библиотеку положить на место «Пир» Платона и встретилась там с Математиком. Феофил разрешил ему посещать библиотеку в любое время, и августа нередко видела его там. Вот и теперь Лев сидел за столом и просматривал какую-то книгу, а перед ним лежали еще несколько рукописей. Увидев августу, он встал и поклонился.
– Здравствуй, господин Лев, – улыбнулась Феодора. – Что ты так прилежно изучаешь? Должно быть, что-то философское?
Она не так уж часто общалась с Философом, но он внушал ей симпатию и очень располагал к себе. Августа радовалась, что теперь они были и в церковном общении, и ей уже не раз приходила в голову мысль задать Льву кое-какие занимавшие ее вопросы. Вероятно, на них мог бы ответить и синкелл, но его Феодора всё же побаивалась; ей казалось, что Лев, много лет учивший самых разных людей, проявит больше снисходительности, если она вдруг скажет какую-нибудь глупость…
– Нет, августейшая, – ответил Математик. – Хочу подобрать несколько толковых сочинений о составлении гороскопов и сравнить их.
– Ты думаешь, что наша судьба зависит от звезд? – недоверчиво спросила императрица.
– Нет, в прямую зависимость и в то, что вся жизнь человека с рождения подчинена движению светил, я не верю, разумеется. Но мне думается, что время рождения оказывает определенное влияние на характер или, по крайней мере, может оказывать… как например урожай пшеницы зависит от времени посева. А те или иные черты характера впоследствии влияют на жизнь человека. Хотя тут, конечно, всё небезусловно, но некие закономерности, тем не менее, существуют.
– Хм… Моя мать всегда говорила, что гороскопы это «бесовские суеверия», а мне самой казалось, что это очень обидно – зависеть от бездушных звезд! Если всё предопределено, то зачем пытаться что-то изменить в своей жизни? Но ты интересно объяснил… Характер, конечно, влияет… А я вот читала Платона. Захотелось немного приобщиться к философии.
– Весьма разумный шаг, августейшая!
Императрица усмехнулась.
– Мне, вероятно, стоило бы заняться этим гораздо раньше… Но в юности я считала, что женщинам философию знать не нужно, – она помолчала. – Возможно, если б я думала иначе, я бы избежала многих неприятностей в жизни… Впрочем, – добавила она с горечью, – это всё равно было невозможно! У нас в семье никому в голову не приходило учить девочек таким вещам.
Лев внимательно посмотрел на августу.
– Мне кажется, государыня, что полезнее учиться чему-либо тогда, когда сам осознаёшь в том нужду. Сейчас ты видишь, что тебе нужна философия, и ты будешь внимательно изучать ее, а если б тебя пытались учить ей в юности…
– Когда я засыпала над Аристотелем! – Феодора грустно улыбнулась. – У отца в библиотеке была его книга «О душе», и я однажды попробовала почитать ее… С тех пор больше не пробовала. У меня никогда не было склонности к таким вещам! А потом… потом оказалось, что мне бы весьма пригодились философские познания… только уже было поздно.
– Думаю, пока мы живы, научиться чему бы то ни было никогда не поздно, так говорил еще Сократ. Когда его укоряли, что он в старости стал учиться играть на лире, он ответил: «Разве неприлично узнавать то, чего не знал?» А мудрец Фалес сказал, что счастлив тот, кто «здоров телом, восприимчив душой и податлив на воспитание». Но некоторые души, по разным причинам, бывают поначалу невосприимчивы и, как следствие, неспособны к обучению, это развивается в них только с годами. Души, они как нити, августейшая. Шелковую производит сама природа, и эта нить наиболее тонка, мягка и красива; шерсть мягка, но ее нужно чесать и обрабатывать, прежде чем прясть; лен груб и жёсток, и его приходится долго трепать и, можно сказать, всячески издеваться над ним, прежде чем он умягчится и станет пригоден для тканья, но зато из него потом выходят ткани тончайшие и легкие, мало уступающие шелковым.
– А есть еще пенька, из нее только веревки плетут, – с усмешкой сказала августа. – Боюсь, я и сейчас невосприимчива ко всей этой философии, хотя вроде бы есть и стремление понять… А что толку? У меня мысли… слишком прямые! Вот, прочла «Пир» и подумала… что вообще-то… эти пирующие – обыкновенные мужеложники! – она чуть покраснела. – Какую любовь они там хвалят как «небесную»?!
– Так считалось у древних эллинов. Но разумнее всего толковать это символически, – сказал Лев с улыбкой.
– Как именно?
– «Афродита пошлая» вызывает любовь к женщинам вообще, так сказать, без разбора, «Афродита небесная» – только к таким, которых принято называть «мужеумными»… Как сказала святая Сарра: «Я женщина по телу, а не по уму».
– То есть… получается, что «небесно», не для одной похоти, любить можно только умных женщин?
– По крайней мере, умному мужчине, – улыбнулся Математик. – И в этом смысле такую любовь можно назвать «мужской». Но, как видно из сказанного Диотимой в «Пире», это только начало восхождения.
– А прочие смертные влачатся в прахе и им питаются, – пробормотала императрица.
– Только пока хотят этого, – возразил Лев. – К тому же надо помнить, что ум – это вовсе не совокупность многих знаний как таковая. Один философ сказал, что «ученый – это не тот, кто много читает, а тот, кто читает с пользой».
– Возможно, ты и прав относительно… размягчения души через трепку, – проговорила Феодора. – Только всё не так просто! Бывает, что ощущаешь что-то… а понять, объяснить не можешь! Прости, что я так, – добавила она, немного смутившись. – Мне давно хотелось… поговорить об этом с кем-нибудь…
– Не нужно извиняться, августейшая, – тихо сказал Философ. – Я постараюсь помочь, если смогу.
– Благодарю, Лев! Так вот… если не можешь понять свои ощущения, то что за польза в такой восприимчивости?