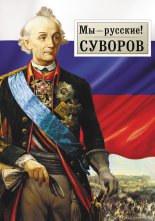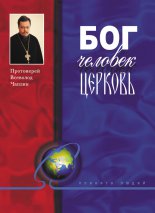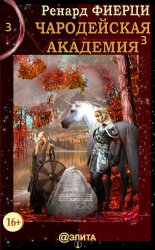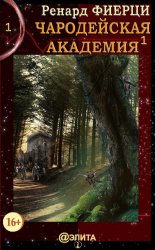Символисты и другие. Статьи. Разыскания. Публикации Лавров Александр
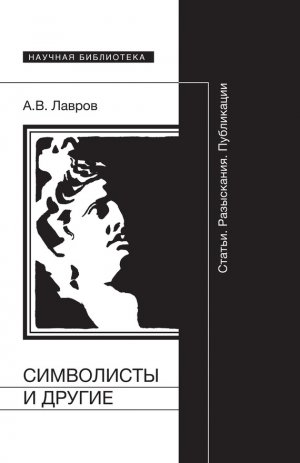
Людмила (до перехода в 1891 г. из иудейского в православное вероисповедание – Изабелла; Бэла,[308] как ее называли близкие) Вилькина (1873–1920) родилась в Петербурге в семье коллежского асессора Николая Львовича Вилькина. Мать ее, Елизавета Афанасьевна, урожденная Венгерова, была дочерью общественного деятеля и директора банка в Минске Афанасия Леонтьевича Венгерова; в числе ее семи братьев и сестер – историк русской литературы и библиограф Семен Афанасьевич Венгеров, пианистка и преподавательница музыки Изабелла Афанасьевна Венгерова, историк западноевропейских литератур, критик и переводчица Зинаида Афанасьевна Венгерова.
С детских лет Изабеллу – Людмилу Вилькину (получившую образование в петербургской женской гимназии княгини А. Л. Оболенской) окружала литературная атмосфера, и в этом отношении ее союз с поэтом и философом Н. М. Минским, одним из провозвестников «нового» искусства в России, оказался вполне закономерным: их совместная жизнь началась в 1896 г. (отчасти благодаря содействию Зинаиды Венгеровой, также связанной с Минским близкими отношениями[309]), официально брак был заключен 8 июня 1905 г.[310]
Поначалу Вилькина пыталась обрести себя на артистическом поприще,[311] но затем литературные интересы возобладали. О том, что Белла Вилькина «пишет недурные стихи и рассказы», Зинаида Венгерова известила свою подругу 21 сентября 1895 г.; правда, 4 января 1896 г. писала ей уже в другой тональности: «Беллины стихи, конечно, пустяки. Может быть, из ее прозы что-нибудь выйдет – пока она старается работать».[312] И год спустя (в письме от 12 января 1897 г.) – снова о ней же, о ее упорном стремлении к литературной работе, невзирая на телесные недуги:
«Она очень больная женщина, сидит взаперти, занимается, пытается писать – по душе своей очень любящая и сосредоточенная натура, с сильными страстями, принимает жизнь всерьез, страдает, любит, ревнует – в общем симпатичная и жалкая женщина, особенно теперь с ее болезнями. Николай Максимович собирается вместе с ней за границу, но теперь ей нельзя двинуться с дивана из-за всяких опухолей и воспалений. ‹…› Перевод “Аглав<ены> и Селиз<еты>” сделан Белой и недурно».[313]
С пьесы «Аглавена и Селизета» началась многолетняя работа Вилькиной по переводу на русский язык произведений Мориса Метерлинка. Эти переводы неоднократно переиздавались при ее жизни, а также и в последующие десятилетия. Переводила она, кроме того, пьесы Октава Мирбо и Гергарта Гауптмана, романы Поля Адана, рассказы Андре Савиньона и многое другое.
На рубеже веков Вилькина заявила о себе в печати и собственными произведениями – стихотворениями, рассказами, обзорами и рецензиями, спорадически появлявшимися в журналах и газетах («Неделя», «Книжки Недели», «Новое Дело», «Ежемесячные Сочинения», «Новое Время», «Звезда»). Литературного имени эти публикации ей не создали, зато определенную известность Вилькина сумела завоевать в писательской среде, находясь рядом с Минским, в их петербургской квартире на Английской набережной, которая благодаря главным образом усилиям ее хозяйки приобрела репутацию модного «салона» в «декадентском» стиле. О новообретенном амплуа, определившем образ жизни и характер поведения Вилькиной, Венгерова писала 22 ноября 1901 своей постоянной корреспондентке: «Бэла Минская утончается, превращается в запятую, занята “культом своей красоты” и приискиванием поклонников. ‹…› Она, кажется, навсегда застынет на искании счастья в “ухаживаниях”, что бы ни менялось вокруг нее».[314]
Среди «поклонников» и конфидентов, увлеченных Вилькиной и занимавших на протяжении более или менее длительного времени определенное место в ее жизни, помимо Брюсова, представлены и другие знаменитости – К. Д. Бальмонт,[315] В. В. Розанов, Д. С. Мережковский,[316] Л. С. Бакст, К. А. Сомов; значатся в их числе и фигуры не столь выдающиеся: поэт, прозаик и драматург С. Л. Рафалович, прозаик и драматург Осип Дымов, поэт, филолог, в будущем известный историк западноевропейских литератур А. А. Смирнов[317] и другие.
Опрометчивой, однако, была бы попытка увидеть в Вилькиной воплощение «декадентского» панэротизма и аморализма, разоблачить ее как новоявленную Мессалину, ищущую любовных радостей и острых ощущений в мире литературно-артистической богемы. Вилькина – может быть, последовательнее, чем иные ее современники – старалась соблюдать верность кодексу «декадентских» идей, чувствований и настроений, но трактовала этот кодекс на свой лад. Полноте и определенности переживаний и страстей она неизменно предпочитает зыбкость и двусмысленность, искренности и правде чувств – их имитацию, цельности мировидения – внутреннюю противоречивость, реальности – иллюзию. В предисловии к ее единственной авторской книге Розанов отметил, что Вилькина способна жить и творить только в «зале своего воображения»: «Она ‹…› предпочитает больше грезить, нежели видеть».[318] Сонеты Вилькиной изобилуют афористическими формулами, раскрывающими суть ее мироощущения, которое не могло не оставить своего отпечатка и на характере взаимоотношений с приближавшимися к ней людьми: «Люблю я не любовь, – люблю влюбленность»; «Я не любви ищу, но легкой тайны. / Неправды мил мне вкрадчивый привет»; «Я – мир, в котором солнце не зажглось. / Я – то, что быть должно и не сбылось».[319] Эгоцентризм всегда оставался необходимым ферментом в среде ее прихотливых личных переживаний, был главной стимулирующей силой во всех ее увлечениях и «романах», придавал им ущербность и «недовоплощенность».
Умевший быть проницательным Д. С. Мережковский даже в ту пору, когда он позволил себе безрассудно ею увлечься, отчетливо различал эти особенности ее личности и неоднократно в письмах к Вилькиной на них указывал: «Вы влюблены в себя, и другие люди служат Вам только зеркалами, в которые Вы на себя любуетесь ‹…›» (март 1905 г.); «Все люди вообще разделяются на два рода: на тех, которые умеют любить, не желая быть любимыми, и на тех, которые хотят быть любимыми, не умея любить. Вы принадлежите ко второму роду, я – к первому. Я знаю, что хотя Вы никогда меня не полюбите, но Вам хочется, чтобы я Вас любил» (26 апреля 1905 г.); «…Вы умеете желать беспредельным желанием, никогда не доходя до конца желаний ‹…›. Вы умеете пить вино поцелуев, опьяняясь и все-таки оставаясь трезвою в опьянении…» (18 июня 1905 г.).[320]
Тот же Мережковский в одном из писем к Вилькиной назвал ее «колдуньей», которая варит «любовное зелье из многих похищенных сердец».[321] Действительно, Вилькина стремилась к умножению числа своих поклонников с той же энергией и увлеченностью, с какой профессиональный коллекционер прилагает усилия к пополнению собрания принадлежащих ему раритетов. Сохранилась тетрадь, в которую она одно время заносила копии своих писем к тем корреспондентам, которых считала «полоненными» ею, – к Л. С. Баксту, К. К. Случевскому, Брюсову и др.[322] С коллекцией полученных ею «откровенных» писем она охотно знакомила сторонних лиц. В записи об одной из первых встреч с нею (ноябрь 1902 г.) Брюсов отметил: «Минская показывала мне письма Бакста, где он соблазнял ее. “Для художника не существует одежд, писал он, я мысленно вижу вас голой, любуюсь вашим телом, хочу его”».[323] Розанов жаловался З. Н. Гиппиус (декабрь 1906 г.):
Проклятая Леликина, Лолекина, Вилькина и проч. позволяет читать мои к ней письма, – совершенно «непозволительные» ‹…›. Права это делать она не имеет никакого; но тут очевидно не в праве дело, а в ее уме и порядочности – по части чего у нее безнадежно. Что делать – не знаю, как поступить – не понимаю. Написать Минскому? Он на нее чрезвычайно влиятелен, и вообще из его воли она не выходит. ‹…› Конечно, никакой любви ни раньше, ни теперь у меня не было, а это все проклятая «философская любознательность». ‹…› Теперь эта дура «полегоньку» и «помаленьку» читает это разным друзьям своим – кажется, Сомову, Нувелю и проч.; а главное, хвастает: «У меня есть полный матерьял для 3-го тома соч<инений> В. В. Розанова, который я издам после его смерти».[324]
Получив это послание, Гиппиус сочла нужным предупредить Брюсова о том, что его переписка с Вилькиной также не застрахована от публичной огласки.[325] Впрочем, Брюсов в данном случае мог особенно не волноваться: в его посланиях к Вилькиной не содержалось тех пикантностей, на которые оказался столь щедр Розанов, а отношения с нею ко времени истории с розановскими письмами уже давно приобрели формально-отстраненный характер.
Познакомился же Брюсов с Вилькиной в начале ноября 1900 г., в один из приездов в Петербург. «Видели вчера Минского и беседовали с ним долго и хорошо; и с г-жой Минской, которая в сторонке соблазняла меня “полюбить страшное”», – сообщал Брюсов 4 ноября 1900 г. А. А. Шестеркиной.[326] Встречи были возобновлены два года спустя, когда Брюсов, находясь в Петербурге, участвовал в подготовке к изданию журнала «Новый Путь». Уже в это время в его записях сказывается ирония по отношению к «декадентской» «мэтрессе»: «Людмила подражает Зиночке <З.Н. Гиппиус. – Ред.>, лежит на кушетке у камина. ‹…› Она говорила декадентские слова и кокетничала по-декадентски» (16 ноября 1902 г.)[327]. Упоминая о Минском в письме к С. А. Полякову от 23 ноября 1902 г., Брюсов добавлял: «С женой его, знаменитой Людмилой, видаюсь каждый день, в какой-то фантастической ее комнате, со ступенями вниз, в их роскошном полувенецианском палаццо на берегу Невы. “Играем в любовь”. (По счастью, я скоро уеду)».[328]
Аналогичны и его отзывы в письмах к жене (не сообщая в них обо всех обстоятельствах своих встреч с Вилькиной, Брюсов, видимо, не кривил душой, характеризуя ее «обольщения» в ироническом тоне): «… был у Минских. Роскошная квартира вроде венецианского палаццо; вид на Неву. Людмила меня приняла в некоей уединенной комнате, куда надо идти по ступеням вниз. Полтора часа она меня соблазняла, но не соблазнила, конечно, да и не соблазнит. ‹…› Сегодня опять буду у ней» (17 ноября 1902 г.); «… в 5 пошел к Минским. Опять попал в круглую комнату, и начала меня Людмила опять соблазнять (в переносном смысле). Соблазняла, соблазняла. Потом пришел Минский, говорил “философские разговоры”. Ушел. Опять меня Людмила соблазняла и поила чаем» (та же дата, «ночь»);[329] «Г-жа Минская продолжает меня прельщать, рассказывает, как была она любовницей Бальмонта. Я пишу ей стихи ‹…› и делаю вид, что интересуюсь ею ‹…› (Но ты тоже не бойся. Это тоже забава, которая не зайдет дальше первого столба)» (22 ноября 1902 г.). В то же время Брюсов не скрывал от жены того, что находиться в обществе Минского и Вилькиной ему приятно и интересно: «… у них мне легче дышать, чем у Мережковских. И люди у Минских бывают более мне по сердцу, чем богословы от Мережковских» (21 ноября 1902 г.).[330]
Резюме этой первоначальной стадии их взаимоотношений Брюсов изложил в дневниковой записи:
За Минской я ухаживал. Впроч<ем>, платонически. Дарил ей цветы. Мы целовались. Перед самым моим отъездом мы устроили поездку в Финляндию, в один пансион. Провели в общем вместе и наедине часов 10, и я свободно мог бы похваляться ее близостью. Ибо в пансионе (в Мустамяках) провели часы и в запертой комнате. Но только целовались. Она взяла с меня какие-то нелепые клятвы и обещание отдать ей обручальное кольцо. Между проч<им>, меня поразило, как она зависима от мира в мелочах жизни, как она боялась, что опоздала домой на 1 часа.[331]
Под впечатлением от совместной однодневной поездки в Финляндию Брюсов написал стихотворение «Лесная дева» (26 ноября 1902 г.), посвященное Вилькиной:
- На перекрестке, где сплелись дороги,
- Я встретил женщину: в сверканьи глаз
- Ее – был смех, но губы были строги.
- Горящий, яркий вечер быстро гас,
- Лазурь увлаживалась тихим светом,
- Неслышно близился заветный час.
- Мне сделав знак с насмешкой иль приветом,
- Безвестная сказала мне: «Ты мой!»,
- Но взор ее так ласков был при этом,
- Что я за ней пошел тропой лесной,
- Покорный странному ее влиянью.
- На ветви гуще падал мрак ночной…
- Все было смутно шаткому сознанью,
- Стволы и шелест, тени и она,
- Вся белая, подобная сиянью.[332]
«Лесная дева» – Вергилий этих вариаций на дантовскую тему – скрывается от героя, заблудившегося в тумане, но он ждет следующей ночи и предвкушает новую встречу: «Приди! Зови! Бери меня! Я – твой!»
Призыв, которым завершается стихотворение, претворился в жизнь во время следующего приезда Брюсова в Петербург, в январе 1903 г. Любовному союзу Брюсова и Вилькиной, впрочем, суждено было осуществиться, по всей видимости, в тех же иллюзорных и мимолетных формах, что открывались лунатическому взору лирического героя «Лесной девы». Со стороны Брюсова это увлечение было непродолжительным, и он не раз пытался в письмах к Вилькиной указать на временную и психологическую дистанцию, отделившую былого рыцаря «лесной девы» от него же самого, находящегося уже во власти новых переживаний:
«Я Вам пишу, Людмила, как далекой, как женщине, быть может, иных столетий, быть может, вымыслу художника. Я не очень убежден, что Вы существуете. ‹…› Да, на той вазе, которую мы начали расписывать, были проведены только первые штрихи. Но она разбилась. Стоит ли ее склеивать, чтобы дорисовать намеченные рисунки?» (31 января 1903 г.);[333]
«Да, быть может, тот миг был как единственный дар. Но разве все дары принимаются? ‹…› Ах, с меня довольно одного. Я отдаю себя самого – себе. Я не хочу принадлежать никому, и спокойно могу не владеть никем. ‹…› Я Вам целую руку лишь в знак прощания» (между 20 и 23 февраля 1903 г.);[334]
«Я вспоминаю Вас часто, Людмила, но не знаю, как стал бы говорить с Вами при встрече. Быть может, нам было б не о чем говорить» (не позднее 15/28 августа 1903 г.);[335]
«… теперь наши голоса словно действительно звучат из телефонной трубки, измененные, искаженные: Вы не узнаёте моего, мне странен Ваш. Вы пытаетесь говорить со мно, как в той жизни, когда мы были – на краткий миг – рядом; я пытаюсь отвечать так же. Но Вы – уже не та, и я – иной. Поверьте этому до конца: иной! иной! просто другой человек, только с тем же именем, – как и Вы другая, хотя с теми же глазами, с той же притаившейся улыбкой, с тем же наклоном тихо-розовой шеи, который я почему-то запомнил полнее всего, – и навсегда» (25 января 1904 г.).[336]
Вилькина не желала примириться с охлаждением Брюсова и даже готова была простить явные знаки невнимания к ней с его стороны, но, думается, не столько от полноты и силы своего чувства к нему, сколько по двойному расчету. Связь с мэтром московских символистов, при отмеченной выше страсти к «коллекционированию» престижных поклонников, льстила ее самолюбию, а также могла – на что она явно надеялась – способствовать упрочению ее положения в писательской среде: Вилькина была глубоко уязвлена тем, что ее попытки заявить о себе на литературном поприще не приносят желаемых результатов, что в творчестве ей не удается и не суждено стать вровень со многими из ее конфидентов.
Начальную стадию своих отношений с Вилькиной Брюсов определил как «игру в любовь»; в значительной мере игровой, искусственный характер эти отношения сохранили и в ту пору, когда о любви можно было говорить только в прошедшем времени. В письмах к Вилькиной Брюсов выступает как бы в двух ипостасях – делится своими вполне искренними и доверительными суждениями на литературные и иные темы, выражает собственное мироощущение, обсуждает разнообразные частные вопросы и – откровенно лицедействует, «подыгрывает» корреспонденту, выступая в обличье экзальтированного и утонченного духовного гурмана, эстетизируя события собственной жизни, выстраивая велеречивые образные ряды, призванные передать тайные, невыразимые ритмы душевной жизни, – как, например, в июльском письме 1903 г., с признаниями об увлекших его математических штудиях: «…я дифференцирую и интегрирую, с последней страстью, непобедимо ‹…› я знаю, что здесь есть пути к таким высотам, к которым взойти иначе – нельзя: ни в любви, ни в преступлении. Эти вершины за пределами даже вечных льдов, потому что за пределами земли и ее атмосферы. ‹…› Небо то бледнеет от страсти и жжет неумолимо, то гаснет, мутнеет, словно Божий глаз, покрывшийся бельмом, в мире что-то совершается, убивают королей и умирают папы, мне пишут, зовут меня по имени, окликают, – но в моей жизни длящийся полдень, остановившееся время, я заворожен виденьями чисел, вечных! вечных!»[337]
После 1904 г. связь между Брюсовым и Вилькиной сохранялась лишь благодаря переписке, которая постепенно утрачивала прежнюю видимость интимности. Взаимоотношения их фактически сошли на нет после появления в журнале «Весы» (1907. № 1) отрицательного отзыва Брюсова о книге Вилькиной «Мой сад», выпущенной московским издательством «Гриф». «Статью о Вилькиной я писал “скрепя сердце”, – сообщал Брюсов К. И. Чуковскому 21 февраля 1907 г. – Но ведь должен же был кто-нибудь откровенно заявить, что она как поэт, – бездарность (и очень характерная, очень совершенная бездарность)».[338] Брюсов критиковал как эстетическую ущербность сонетов Вилькиной (отсутствие изобразительности, «скудные и общие определения» вместо эпитетов, «стих лишен музыкальности, а порой и прямо неблагозвучен»), так и во многом уже устаревшую, по его убеждению, художественную идеологию автора:
Содержание «Моего сада» исчерпывается кругом «декадентского» мировоззрения. «Я – целый мир», «Я – в пустыне», «Мне жизнь милей на миг, чем навсегда», «Я и обычное считаю чудом», «Люблю я не любовь, – люблю влюбленность» и т<ому> под<обное> – все это мысли, которые уже довольно давно перестали быть новыми даже у нас.[339]
Приговором Брюсова Вилькина была задета до глубины души; остроту ее реакции не могли сгладить ни опубликованные одновременно положительные рецензии на «Мой сад» Сергея Соловьева (Золотое Руно. 1907. № 1) и Андрея Белого (Перевал. 1907. № 3. Январь) – появление последней было инспирировано Минским,[340] – ни сочувственные увещевания мужа, постоянно побуждавшего ее поверить в силу и подлинность дарованного ей таланта.[341] Задуманную ранее вторую книгу стихов и рассказов Вилькина так и не сформировала; впоследствии, проводя почти все время вместе с Минским за границей, она фактически отошла от российской литературной жизни, лишь от случая к случаю публикуя единичные стихотворения и переводы.
Смерть Людмилы Вилькиной в Париже в 1920 г. прошла незамеченной. В печати появилось лишь ее «посмертное стихотворение», аккумулировавшее в нескольких незатейливых строках квинтэссенцию того эстетического мироощущения, с которым она когда-то пыталась самоопределиться в русской литературе:
- Когда нет Радости,
- То никакой нет радости
- Пить.
- Когда нет Цели,
- То никакой нет цели
- Жить.
- Радость без Радости
- Только одна:
- Сон.
- Цель без Цели
- Только одна:
- Смерть.[342]
Валерий Брюсов и Нина Петровская: биографическая канва к переписке
Публикации эпистолярных документов с теми особенностями содержания, которые ярчайшим образом воплотились в переписке Валерия Брюсова и Нины Петровской: «пять пудов любви» (по чеховской иронической аттестации сюжета будущей «Чайки»)[343] и «мильон терзаний», этой любовью порожденных, – чаще всего способны вызывать нарекания и даже решительные протесты: как можно предлагать стороннему читателю такие сугубо личные послания, тиражировать интимные признания, обращенные к одному-единственному адресату, делать то, что составляло тайну двух людей, публичным достоянием! Тех, кто берет на себя риск и труд собирать, систематизировать, печатать подобные тексты, вполне могут подвергнуть – и не раз подвергали – остракизму за беззастенчивое копание «в чужом белье», за искание дешевой популярности, за пренебрежение этическими нормами и т. д.
В нашем случае удел публикаторов отчасти, может быть, облегчается тем, что им дарована вполне убедительная индульгенция. Дело в том, что один из корреспондентов, Валерий Брюсов, считал вполне естественным и даже желанным тот факт, что его переписка с Ниной Петровской рано или поздно будет опубликована, и даже озаботился тем, чтобы сделать на этот случай соответствующие распоряжения. Сохранилось его письмо к С. А. Соколову, бывшему мужу Петровской, которое наделено статусом официального завещательного документа:
9 мая 1911 г.
Многоуважаемый Сергей Алексеевич!
Передавая Вам, с согласия Н. И. Петровской (Соколовой) на хранение Вам ее письма ко мне (после чего последует передача Вам моих писем к ней), прошу Вас соблюсти следующие условия:
1) Письма не должны быть распечатаны до смерти обоих корреспондентов, т. е. до смерти моей и Н. И. Петровской, – иначе как с обоюдного, письменного, согласия того и другого.
2) Письма не могут быть опубликованы (напечатаны), полностью или частью, раньше, как через десять лет после смерти того из нас, кто переживет другого.
3) Право опубликования этой переписки и все связанные с этим литературные права предоставляются Вам, С. А. Соколову, под условием, что письма будут распечатаны в присутствии особой комиссии, в состав которой войдете и Вы, и что подготовкой к печати и редактированием издания этой переписки будет заниматься та же комиссия.
4) Редакционная комиссия, указанная в предыдущем пункте, должна состоять не менее как из пяти лиц, непременно причастных к литературе, и желательно, чтобы в нее были приглашены лица, знавшие лично меня и Н. И. Петровскую, причем предположительно указываются мною следующие лица: К. Бальмонт, С. А. Поляков, С. М. Соловьев, Б. Н. Бугаев (Андрей Белый).
5) Организация этой комиссии поручается Вам, С. А. Соколову, с тем, чтобы состав ее был опубликован в газетах.
6) На случай Вашей смерти, Вы, С. А. Соколов, не преминете сделать распоряжение о передоверении всех вышеуказанных прав на хранение и издание передаваемой Вам переписки другому лицу.
Настоящее предварительное заявление имеет быть со временем заменено другим, более подробным. Но если б это не было по каким-либо причинам исполнено, настоящее заявление получает всю силу выражения моей воли.
Дано Сергею Алексеевичу Соколову, в литературе Кречетову, от Валерия Яковлевича Брюсова. Москва, 9 мая 1911 года.[344]
Собраться для подготовки переписки к публикации в 1938 г., десять лет спустя – согласно завещательному условию – после смерти Петровской и четырнадцать лет спустя после смерти Брюсова, предполагаемые участники «редакционной комиссии» уже не могли: в живых из них тогда остались только трое, причем К. Д. Бальмонт жил в эмиграции в Париже, а из двоих находившихся в Москве – С. А. Полякова и С. М. Соловьева – один, С. М. Соловьев, был недееспособен, пребывал во власти психического заболевания (после ареста в 1931 г. и дальнейших следственных действий). Не мог предвидеть Брюсов в 1911 г. и тех общественных условий, которые начисто исключали возможность опубликования его переписки с Петровской на родине корреспондентов ко времени вступления в силу приведенного выше документа. Примечательно, однако, явное стремление поэта сделать в будущем свою романическую переписку достоянием гласности. Личную жизнь он осознавал как весьма важную составляющую часть своего единого литературного облика и поэтому заботился о том, чтобы она была надлежащим образом документирована, чтобы не возникло ненароком «белых пятен». Брюсову важно, чтобы с должным вниманием и необходимой полнотой были собраны и оценены непосредственные свидетельства тех отношений, которые преломлены в эстетических зеркалах и освещены отраженным светом в любовных стихах его книги «Stephanos» и в романе «Огненный Ангел», чтобы признания о потаенных внутренних ощущениях и интимных чувствах, сообщенные близкой женщине, пополнили когда-нибудь всеобщее представление о его целостном, личностном, литературном, в конечном счете, образе.
Для Нины Петровской литературного компонента во взаимоотношениях и в переписке с Брюсовым почти не существовало, или, по крайней мере, эта особенность никогда не выступала в ее сознании на первый план. Письма были для нее лишь формой контакта, способом передачи собственных эмоций другому человеку и какого-либо иного содержания и смысла в себе не заключали. Когда ее отношения с Брюсовым подошли к своему концу, должна была исчезнуть, по желанию Петровской, и их документальная, «материальная» составляющая – переписка. Петровская не раз требовала от Брюсова возвращения ее писем – с тем чтобы затем их уничтожить (так она, по всей видимости, поступила с адресованными ей и остававшимися в ее распоряжении поздними письмами Брюсова: ни одного его письма к Петровской, написанного после апреля 1909 г., нам не известно). Если бы Брюсов пренебрег собственным умыслом в отношении этой переписки и выполнил требования бывшей возлюбленной, мы не только лишились бы одного из исключительно ярких и эмоционально насыщенных памятников русской эпистолярной культуры символистской эпохи; мы не имели бы возможности ознакомиться с самым значительным из того, что вышло из-под пера Нины Петровской, что позволяет оценить ее как одну из наиболее выразительных, наиболее характерных, «знаковых» фигур своего литературного круга.[345] Ни литературно-критические статьи и рецензии, ни – в еще меньшей мере – ее беллетристические опыты не выдерживают сопоставления с той эпистолярной исповедью, которую обращала Петровская к Брюсову из года в год и которая – конечно же, без всякого расчета с ее стороны – заключала в себе не только интимно-личное, но и, в определенном смысле, литературное содержание.
Специфику этой «литературности» первым, и наиболее полно и внятно, осмыслил В. Ф. Ходасевич, когда в своем поминальном очерке о Петровской («Конец Ренаты», 1928) выделил как самую отличительную особенность русского символизма стремление к «сплаву жизни и творчества»: «…часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть недовоплощалась, утекала в жизнь ‹…› Если сильнее литературного таланта оказывался талант жить – литературное творчество отступало на задний план, подавлялось творчеством иного, “жизненного” порядка. На первый взгляд странно, но в сущности последовательно было то, что в ту пору и среди тех людей “дар писать” и “дар жить” расценивались почти одинаково».[346] Петровской, безусловно, удалось воплотить прежде всего символистский «дар жить», и непосредственным документальным отпечатком, свидетельствующим о наделенности этим даром, остались ее письма – среди них в первую очередь письма к Брюсову.
О жизни Нины Ивановны Петровской до той поры, как она вошла в круг московских «декадентов», мы не знаем почти ничего. Не обнаружено никаких деловых бумаг и документов, по которым можно было бы установить полные имена ее родителей, род занятий отца, когда и где она окончила гимназию и т. д. Немногие скудные и крайне неопределенные сведения суммированы Ходасевичем, с которым ее какое-то время связывали доверительные отношения: «Нина скрывала свои года. Думаю, что она родилась приблизительно в 1880 году. Мы познакомились в 1902-м. Я узнал ее уже начинающей беллетристкой. Кажется, она была дочерью чиновника. Кончила гимназию, потом зубоврачебные курсы. Была невестою одного, вышла за другого. Юные годы ее сопровождались драмой, о которой она вспоминать не любила. Вообще не любила вспоминать свою раннюю молодость, до начала “литературной эпохи” в ее жизни. Прошлое казалось ей бедным, жалким».[347] Долгое время в биографических справках о Петровской обозначался 1884 год как год ее рождения; трудно сейчас установить, кем впервые и на каких основаниях была введена эта датировка, многократно повторенная в различных печатных источниках. Исходя из признаний Петровской в письмах к Брюсову, которые представляются вполне достоверными, теперь можно с достаточной степенью вероятности утверждать, что она родилась в марте 1879 г. Ее младшая сестра, Надежда Ивановна Петровская, страдала физическими и психическими недугами, отягощенными во второй половине 1900-х гг. какой-то романической историей (не вполне внятные указания на эту личную драму имеются в письмах Нины Петровской к Брюсову); после смерти их матери в 1909 г. Надежда Петровская перешла всецело под опеку старшей сестры и разделяла с ней все последующие жизненные тяготы.
Петровская публиковала свои рассказы и статьи под девичьей фамилией, которая и стала ее литературным именем. В московском окололитературном сообществе она объявилась в 1902 г. как Нина Ивановна Соколова, жена адвоката и начинающего поэта Сергея Алексеевича Соколова (псевдоним – Сергей Кречетов), основавшего в том же году издательство «Гриф», которое, вслед за символистским «Скорпионом», учрежденным двумя годами ранее, ставило сходные задачи – быть пристанищем для писателей модернистской ориентации, утверждать «новое» искусство. С 1902 г. Петровская начинает рассказ о пережитом и в своих «Воспоминаниях».[348] Никакой предыстории это повествование о московском «декадентском» микромире не имеет – ее заменяют признания об обострившемся «томлении по жизни», о «горькой тоске существования», о «странной пустынности» как доминирующем чувстве; всем этим переживаниям «муки небытия», однако, было найдено противоядие: «Вся новая русская литературная проповедь ‹…› была мне известна от доски до доски. И все, обусловившее художественный стиль целого поколения, было мне близко органически, но реальное бытие этих больших писателей представлялось легендой о башне из слоновой кости, где мало и званых и избранных. Первым из тех недоступных, державших в руках ключи подлинной жизни и подлинной литературы той русской эпохи, томил мою мечту Брюсов. Маленькие сборники его “Chefs d’uvres” и “Me eum esse”, – потом пышное “Urbi et Orbi” стали для меня символом моей новой веры».[349]
Литературный дебют Петровской состоялся в 1903 г.: в «Альманахе книгоиздательства “Гриф”», которым заявило о себе новое издательское предприятие, были опубликованы ее рассказы «Осень» и «Она» – небольшие лирико-психологические этюды, написанные в форме мужского монолога (как и большинство последующих ее рассказов). С аналогичными опытами Петровская выступила в двух следующих альманахах «Грифа», вышедших в свет в 1904 и 1905 гг. Ранние рассказы Петровской являли собой характерные образчики «декадентской» прозаической миниатюры, с детальной разработкой образно-метафорического ряда и ослабленным сюжетом; темы любви и смерти, религиозно-экстатические и «демонические» мотивы часто окрашиваются в них в тона специфически модернистского урбанизма.[350] Литературного имени эти публикации автору не создали (если о ранних рассказах и упоминали, то чаще всего мимоходом и довольно пренебрежительно[351]), известность же в узком кругу лиц, причастных к деятельности «Грифа» и «Скорпиона», Петровская получила главным образом за наглядно проявленный «дар жить», за выразительное воплощение в индивидуальном психологическом облике и поведенческом рисунке специфически «декадентских» черт.
В какой-то мере одной из форм подобного самовыражения стал ее непродолжительный роман с Бальмонтом (вспоминает Ходасевич: «Первым влюбился в нее поэт, влюблявшийся просто во всех без изъятия. Он предложил ей любовь стремительную и испепеляющую. Отказаться было никак невозможно: тут действовало и польщенное самолюбие (поэт становился знаменитостью), и страх оказаться провинциалкой ‹…›. Она уверила себя, что тоже влюблена. Первый роман сверкнул и погас, оставив в ее душе неприятный осадок – нечто вроде похмелья»[352]). Эта мимолетная история всколыхнула волну домыслов и слухов, циркулировавших в литературной богеме,[353] которым вскоре был дан дополнительный стимул: пытаясь изжить в себе последствия отношений с «оргиастическим» Бальмонтом, Петровская устремилась в «аскезу», в поиск возвышенного, духовно просветленного чувства. Так начался осенью 1903 г. ее «мистериальный» роман с Андреем Белым, который в январе – феврале 1904 г. обернулся романом тривиальным, «земным» и дополнительно окрашенным теми же «декадентскими» обертонами. Белый драматически воспринял такую перемену в отношениях: он осознавал, что его «порывания к мистерии, к “теургии” потерпели поражение»,[354] что воплотить в жизнь новую форму человеческих связей, о которой он грезил, ему оказалось не по силам; но и у Петровской, искренне и страстно полюбившей поэта-теурга, ожидавшей от него той же цельности и полноты чувства, которые испытывала она сама, «бегство» возлюбленного, его попытки видоизменить и в конечном счете прекратить общение с нею вызвали гамму самых мучительных переживаний.[355] С осени 1904 г. «роман» Петровской и Белого (судя по его позднейшим признаниям) не возобновлялся, но психологические последствия этой истории сказывались еще довольно длительное время. Когда между Петровской и Брюсовым установилась близость, Андрей Белый довольно долго фигурировал в их отношениях как третий отсутствующий участник (инициалы его настоящего имени – Б. Н. – то и дело мелькают в письмах Петровской к Брюсову).
Брюсов познакомился с Петровской тогда же, когда и с ее мужем Сергеем Соколовым и другими начинающими литераторами из «Грифа» – видимо, в феврале – марте 1903 г.[356] О Соколове и обо всей компании, группировавшейся вокруг него, у Брюсова сразу сложилось весьма невысокое мнение. Вторичность и второсортность их творческих опытов по отношению к тому, что делалось авторами из «Скорпиона», для него были очевидны (впоследствии в «Воспоминаниях» Петровская косвенно солидаризировалась с его позицией, утверждая, что издательство Соколова «никаких новых течений не выявило, своего слова не сказало, а так и осталось эстетически-барственной затеей в духе времени, стучанием в открытые уже двери»[357]). Петровскую Брюсов на первых порах из «грифовского» круга никак не выделял и даже позволял себе насмешливые, а порой и вполне скабрезные суждения о «Грифихе».[358] Обратить на нее более пристальное внимание его побудила, по всей вероятности, завязавшаяся романическая история с Андреем Белым, о которой Брюсов поначалу поминал, впрочем, в сугубо ироническом ключе – как, например, в записи, относящейся к весне 1904 г.: «Нина Петровская предалась мистике. ‹…› А Белого мать, спасая от “развратной женщины”, послала на страстную неделю в Нижн<ий> Новг<ород>».[359]
Ходасевич полагает, что в пробуждении живого интереса Брюсова к Петровской значительную роль сыграла мифотворческая составляющая. Женщина, отвергнутая поэтом-теургом, пренебрегшим чувственной любовью ради верности «светлому» мистическому началу, закономерно попадала в орбиту притяжения «мага», служителя «тьмы» (именно таковым было амплуа Брюсова, создававшееся им самим и принимавшееся другими в игровом символистском пространстве): «Он подчеркнуто не замечал ее. Но тотчас переменился, когда наметился ее разрыв с Белым, потому что, по своему положению, не мог оставаться нейтральным. Он был представителем демонизма. Ему полагалось перед Женой, облеченной в Солнце, “томиться и скрежетать”. Следственно, теперь Нина, ее соперница, ‹…› превращалась в нечто значительное, облекалась демоническим ореолом. Он предложил ей союз – против Белого. Союз тотчас же был закреплен взаимной любовью. Опять же все это очень понятно и жизненно: так часто бывает. Понятно, что Брюсов ее по-своему полюбил, понятно, что и она невольно искала в нем утешения, утоления затронутой гордости, а в союзе с ним – способа “отомстить” Белому».[360] Петровская, восстанавливая в «Воспоминаниях» некоторые эпизоды, предшествовавшие ее сближению с Брюсовым (встречи на литературных собраниях, спиритические сеансы и др.), также упоминает про «демоническую» окраску, определявшую тональность складывавшихся отношений: «…я однажды сказала В. Брюсову: – Я хочу упасть в Вашу тьму, бесповоротно и навсегда…»; «– Вот видите, В<алерий> Я<ковлевич>, – обступил ведь “сон глухой черноты”, и уйти некуда, – нужно, значит, войти в него. Вы уже в нем, теперь я хочу туда же».[361] Именно эти апелляции к «тьме», к эстетическому декоруму, к миру «декадентских» обольщений и фантазий послужили главным эмоционально-психологическим началом, которое соединило мэтра русских символистов и вполне рядовую на писательском поприще носительницу символистского мироощущения. Примечательно, что и годы спустя, реконструируя в памяти начало романа, определившего весь ход ее последующей жизни, Петровская прибегает к тому же образному строю, который, видимо, являл собой не только оболочку, форму завязавшихся в 1904 г. отношений, но и в какой-то мере их подлинную суть; жизненные коллизии обретали силу, регенерировались в плетении метафор:
«В эту осень В. Брюсов протянул мне бокал с темным терпким вином, где как жемчужина Клеопатры была растворена его душа, и сказал:
– Пей!
Я выпила и отравилась на семь лет…».[362]
Судя по ряду ретроспективных указаний в переписке, первые любовные встречи Брюсова и Петровской относятся началу октября 1904 г. 12 ноября того же года Брюсов выслал А. А. Шестеркиной автограф стихотворения «Опять душа моя расколота…»;[363] сообщая тот же текст в ноябрьском письме к Л. Н. Вилькиной, он пояснял: «…Вы найдете здесь стихи, на которые смотрите не как на стихи (ибо, разумеется, у меня есть лучшие), но как на фотографию моей сегодняшней души».[364] Это стихотворение невозможно зачислить по ведомству привычной любовной лирики, однако в своей основной психологической тональности, в самозабвенном погружении в амбивалентный мир полярных, доведенных до предельной остроты катастрофических переживаний оно, безусловно, было вдохновлено отношениями с Петровской и во многом предвосхищало последующие отражения этих отношений в брюсовских стихах и прозе:
- Опять душа моя расколота
- Ударом молнии, и я,
- Вдруг ослепленный вихрем золота,
- Упал в провалы бытия.
- <…..>
- И мне от жгучей боли весело,
- И мне желанен мой костер,
- И небо черный полог свесило
- На мой полуослепший взор.
В марте 1905 г. Брюсов признавался: «На жизнь мою иногда находят смерчи. И тогда я не властен в себе. В таком смерче я сейчас».[365] Этот «смерч» вызвала в его внутреннем мире Нина Петровская. Она же была главной причиной тех переживаний, на которые указывал Брюсов в дневниковой записи «Из 1904–1905 года»; в ней идет речь о том же самом «смерче»: «Для меня это был год бури, водоворота. Никогда не переживал я таких страстей, таких мучительств, таких радостей. Бльшая часть переживаний воплощена в стихах моей книги “Stephanos”. Кое-что вошло и в роман “Огненный Ангел”. Временами я вполне готов был бросить все прежние пути моей жизни и перейти на новые, начать всю жизнь сызнова. Литературно я почти не существовал за этот год ‹…› Связь оставалась только с Белым, но скорее связь двух врагов…»[366]
Как «связь двух врагов» воспринимал Брюсов свои отношения с Андреем Белым, опять же, под знаком Петровской, которая еще продолжала остро реагировать на слом своего «мистериального» романа. Тайные встречи мужа И. М. Брюсовой с женой С. А. Соколова в Москве завершились совместной поездкой в Финляндию: июнь 1905 г., проведенный в Гельсингфорсе и на озере Сайма, Брюсов и Петровская осознавали и тогда, и впоследствии как самую знаменательную, самую счастливую пору своей жизни. Вынужденное расставание в последующие месяцы они пытались компенсировать перепиской; пожалуй, именно в письмах к Петровской этой поры Брюсов, обычно подчеркнуто «холодный» и «внешний», строгий и сдержанный в выражении своих чувств, достигает наивысшего эмоционального накала и исповедальной искренности; в этих посланиях Брюсов раскрывается теми гранями своей личности, о существовании которых многие, возможно, и не догадывались:
«Я радуюсь, что сознавал, понимал смысл этих дней. Как много раз я говорил, – да, то была вершина моей жизни, ее высший пик, с которого, как некогда Пизарро, открылись мне оба океана – моей прошлой и моей будущей жизни. Ты вознесла меня к зениту моего неба. И Ты дала мне увидать последние глубины, последние тайны моей души. Может быть, ради этого месяца прожил я все томительных тридцать лет моей жизни, и воспоминаниями об этом месяце будут озарены все следующие тридцать лет. Как символ этих дней, Твой образ стал для меня святыней» (1 июля 1905 г.);[367]
«… я опять прежний, и я опять там, опять с Тобой, почти до иллюзии, почти чувствую прикосновение Твоих губ, Твоих рук. Да! да! это было! было! а Ты угадала, что бывше<е> покажется мне сном. Но неужели человеку позволено изведать такое счастье, позволено говорить “я счастлив”, и не ждет за это горькая расплата, несказанное мучительство. О, я принимаю все» (7 июля 1905 г.);[368]
«… я могу еще раз повторить все слова о любви, которые я говорил Тебе за эти девять месяцев, повторить их более сознательно, более сосредоточенно, но всё с той же страстью. И могу сказать другие слова, которые не сказались в свое время, которые я не посмел прошептать Тебе, но которые были живы, хотели жить и теперь находят свое воплощение» (10 июля 1905 г.).[369]
Хорошо знавший поэта С. А. Поляков, глава «Скорпиона» и издатель «Весов», свидетельствовал по праву: «Роман Брюсова с Н. И. Петровской – самый серьезный из всех его романов».[370] В перечне возлюбленных, оставивших значительный след в его жизни («Мой Дон-Жуанский список»), Брюсов обозначает связь с Петровской самыми большими временными рамками: «1904 – 910» (в другом варианте списка, «Mes amantes»: «1905–1911»).[371] «Что же отметил тогда во мне Валерий Брюсов, почему мы потом не расставались 7 лет, влача нашу трагедию не только по всей Москве и Петербургу, но и по странам?» – вопрошала Петровская в «Воспоминаниях» и формулировала ответ – вполне убедительный и проницательный: «Он угадал во мне органическую родственность моей души с одной половиной своей, с той – “тайной”, которой не знали окружающие, с той, которую он в себе любил и, чаще, люто ненавидел ‹…›».[372] Отношения с Петровской выделяются из общего «донжуанского» ряда, выстроенного Брюсовым, не только своей продолжительностью и, соответственно, интенсивностью, но и яркостью и разнообразием их преломления в художественном творчестве. В приведенной дневниковой записи Брюсов указывает книгу стихов «Stephanos» и роман «Огненный Ангел». За осуществление своего масштабного беллетристического замысла он активно принялся летом 1905 г., после возвращения из Финляндии, и Петровская дала тогда Брюсову все необходимое и достаточное для воплощения образа главной героини исторического романа из немецкой жизни XVI века.
О биографическом подтексте в «Огненном Ангеле», о перипетиях взаимоотношений сторон в реальном треугольнике (Андрей Белый – Петровская – Брюсов) и воссозданном по его подобию треугольнике воображаемом (граф Генрих – Рената – Рупрехт) написано уже немало, конкретные обстоятельства выявлены и осмыслены детально,[373] поэтому сейчас нет необходимости в очередной раз подробно развивать эту тему. Важно подчеркнуть все же, что выразительность, художественная подлинность образа Ренаты были достигнуты в первую очередь благодаря тому, что Брюсов позволил себе в данном случае едва ли не с документальной точностью запечатлеть реальные черты прототипа. Петровская утверждает: «…во мне он нашел многое из того, что требовалось для романтического облика Ренаты: отчаяние, мертвую тоску по фантастически прекрасному прошлому, готовность швырнуть свое обесцененное существование в какой угодно костер, вывернутые наизнанку, отравленные демоническими соблазнами религиозные идеи и чаяния ‹…›, оторванность от быта и людей, почти что ненависть к предметному миру, органическую душевную бездомность, жажду гибели и смерти, – словом, все свои любимые поэтические гиперболы и чувства, сконцентрированные в одном существе – в маленькой начинающей журналистке и, наперекор здравому смыслу, жене С. Кречетова, благополучного редактора книгоиздательства “Гриф”».[374]
Отблески личности Петровской различимы и в других произведениях Брюсова второй половины 1900-х гг. – в частности, в рассказе «Сестры» (1906), где в образе Кэт, влекущейся к «любви беспредельной, безграничной», наделенной «темным вдохновением» и понимающей «все тайные жажды» существа своего возлюбленного,[375] запечатлены самые характерные черты психологического облика Петровской. В подтексте книги «. Венок» (1906) Петровская представлена в различных ракурсах: открывавший книгу в первом издании раздел «Вееровые песни» включал цикл стихотворений «На Сайме», навеянный впечатлениями совместной жизни с Петровской в Финляндии; раздел «Из ада изведенные» был составлен из лирических медитаций, прямо или косвенно воплощавших тот самый «смерч», который пробудила в Брюсове Петровская. Любовь, воспеваемая в этих стихах, – всепоглощающая, испепеляющая страсть, нерасторжимая смесь восторгов и мучений, предельных, одновременно обогащающих и опустошающих переживаний:
- Кто нас двух, душой враждебных,
- Сблизить к общей цели мог?
- Кто заклятьем слов волшебных
- Нас воззвал от двух дорог?
- Кто над пропастью опасной
- Дал нам взор во взор взглянуть?
- Кто связал нас мукой страстной?
- Кто нас бросил – грудь на грудь?
- <……>
- В диком вихре – кто мы? что мы?
- Листья, взвитые с земли!
- Сны восторга и истомы
- Нас, как уголья, прожгли.
- Здесь, упав в бессильной дрожи,
- В блеске молний и в грозе,
- Где же мы: на страстном ложе
- Иль на смертном колесе?
- («В застенке», 10–11 декабря 1904 г.);[376]
- Астарта, Астарта! и ты посмеялась,
- В аду нас отметила знаком своим,
- И ужасы пыток забылись как малость,
- И радость надежд расклубилась как дым.
- Одно нам осталось – сближаться, сливаться,
- Слипаться устами, как гроздьям висеть,
- К святыням касаться рукой святотатца,
- Вплетаться всем телом в Гефестову сеть.
Стихотворение «Портрет» (20–21 февраля 1905 г.) из того же раздела рисует внешний облик Петровской:
- Черты твои – детские, скромные;
- Закрыты стыдливо виски,
- Но смотрят так странно, бездонные,
- Большие зрачки.
- <…….>
- Не сомкнуты губы бессильные,
- Как будто им нечем вздохнуть,
- Как будто покровы могильные
- Томят тебе грудь.
Даже в разделе «Правда вечная кумиров», составленном из стихотворений на мифологические темы, лики Брюсова и Петровской проступают под знакомыми масками; они угадывались порой и в тех стихотворениях, которые создавались безотносительно к обстоятельствам реального «романа». Так, Андрей Белый распознавал их в образах диалогического стихотворения «Орфей и Эвридика», законченного 10–11 июня 1904 г. (т. е. за несколько месяцев до начала «романа»); в своих воспоминаниях он назвал главу, описывавшую взаимоотношения с Петровской (в тексте – под обозначением: Н***) и Брюсовым, «“Орфей”, изводящий из ада»: образы Орфея и Эвридики (позднее использованные Белым в статье «Песнь жизни», 1908 г.), обыгрывавшиеся в разговорах Белого-Орфея и Петровской-Эвридики, перекочевали, по убеждению мемуариста, к Брюсову: «Она вызвала меня и ‹…› требовала, чтобы из “ада извел”; и неспроста В. Брюсов, узнавши из слов ее о наших разговорах об “Эвридике” ‹…›, – неспроста он потом в своем стихотворении об “Эвридике”, об Н***, ей подставил слова:
- Ты – ведешь; мне – быть покорной…
- Я должна идти, должна.
- Но на взорах облак черный,
- Черной смерти пелена».[377]
Происшедшую в воображении Белого перекодировку «мифа» в «реальность» иллюстрирует выполненный им карикатурный рисунок «Орфей и Эвридика»: Брюсов (весь в черном) влечет за собой Петровскую (в светлом облачении), поднимающуюся из гробницы (обозначенной черным квадратом).[378] Стихотворения «Клеопатра» и «Антоний» (в первом издании «Венка» помещенные в разделе «Из ада изведенные», позднее перенесенные в раздел «Правда вечная кумиров») уже впрямую обозначают параллели между историческими героями и их современными прототипами (Антоний – Брюсов, Клеопатра – Петровская); они актуализируют занимавшую Брюсова и Петровскую идею двойного самоубийства, а также, помимо апелляции к исторической мифологии, вызывают многослойные литературные ассоциации – от «Антония и Клеопатры» Шекспира до «Египетских ночей» и других пушкинских текстов.[379]
Назвав Петровскую «музой поэта Валерия Брюсова», Андрей Белый в подтверждение такого определения добавил: «вспомните любовную лирику лучшей его книги – “Венка”: половина стихотворений обращена к ней».[380] Сама Петровская сильно желала увидеть открывавшее «Венок» печатное посвящение ей и была до крайности уязвлена тем, что автор на такой демонстративный акт не решился. Брюсов явно не хотел дополнительно осложнять свою семейную жизнь: жена его, Иоанна Матвеевна, не могла оставаться в неведении относительно того, о чем уже судачила вся литературная Москва.[381] В отличие от многих прежних любовных увлечений, эта брюсовская связь протекала «на виду»; Петровскую воспринимали по большей части как спутницу поэтического «мэтра», таковой она и запечатлелась в памяти современников: «С ней я почти не была знакома, но, по случайным встречам на лекциях и собраниях, помню ее. Деланная томность, взбитая, на пробор декадентская прическа. Туалеты с некоторой претензией на стильность и оригинальность. Общее впечатление скорее – неряшливости» (Б. М. Рунт-Погорелова);[382] «Вы, конечно, знаете ее, эту маленькую “женщину в черном”, – вечно в черном. Пышные волосы, расчесанные пробором посередине, темное лицо, большие черные глаза, черное шелковое платье с шлейфом – такова внешность. Странная внешность, которая не таит в себе очарованья и говорит о мужской силе ума, мужской беспристрастности и, пожалуй, бесстрастности. Даже немножко мужской голос» (А. А. Тимофеев);[383] «…молодая женщина, внешность которой нельзя было определить ни в положительном, ни в отрицательном смысле: до такой степени ее лицо сливалось со всеми особенностями фигуры, платья, манеры держаться. Все было несколько искусственное, принужденное, чувствовалось, что в другой обстановке она другая. Вся в черном, в черных шведских перчатках, с начесанными на виски черными волосами, она была, так сказать, одного цвета. Все в целом грубоватое и чувственное, но не дурного стиля. “Русская Кармен” назвал ее кто-то. ‹…› Валерий Яковлевич рядом с Н<иной> П<етровской> был сумрачен и хорош» (К. Г. Локс).[384]
Отношения с Брюсовым прямо или косвенно подразумевались и в тех немногочисленных случаях, когда объектом внимания оказывалось художественное творчество Петровской – точнее, ее единственная небольшая книжка рассказов «Sanctus Amor», вышедшая в издательстве «Гриф» в 1908 г. (руководитель «Грифа» С. А. Соколов, сблизившийся в 1906 г. с Л. Д. Рындиной и затем на ней женившийся, сохранил с бывшей женой добрые отношения). «Сочинения какой-нибудь Нины Петровской: “Sanctus Amor” – не более как самообъективизация женщины, признающей пол своей исчерпывающей сущностью и пишущей, как всегда в таких случаях, с помощью ассимилированных ума и “творчества”», – заключала З. Н. Гиппиус,[385] и в ее оценке сказывается та общая установка, которая объединяла многих в восприятии Петровской и предполагала приоритет «жизнетворческого» образа по отношению к литературным опытам. Андрей Белый, посвятивший книге Петровской отдельную небольшую статью в «Весах» (1908. № 3), также подразумевает пол «исчерпывающей сущностью» автора, отмечая, что все безликие герои рассказов выступают «как манекены, опьяненные любовью».[386] Лишь критики, стремившиеся разграничить автора и его творчество (или имевшие представление только о последнем), оказывались способными оценить рассказы Петровской по существу и уловить их своеобразие – при всей скромности дарования и очевидной ориентации на стилевые образцы (новейших писателей, «умеющих передавать музыку настроений», – К. Гамсуна, П. Альтенберга, О. Дымова и др.): «Неоригинальность стиля “Sanctus Amor” показывает, что автор рассказов – художник не крупный; думается, что автор и сам не претендует на это; он только умеет запечатлеть в себе тончайшие оттенки жизни, беспощадно-многообразной, умеет отдавать душу переживаниям, чтобы рассказать потом людям ее тихую песнь».[387]
Сборник «Sanctus Amor» составлен исключительно из повествовательных миниатюр на любовную тему, отдельные коллизии в них имеют автобиографический подтекст (аллюзии на отношения с Брюсовым наиболее явственны в рассказе «Раб»). В беллетристических опытах, как и в мироощущении Петровской, любовь – высшее, самое сильное и самое трагическое из человеческих переживаний, пребывающее в постоянном непримиримом конфликте с житейской повседневностью: «Моя любовь то, что называют “безумием”. Эта бездонная радость и вечное страдание. Когда она придет, как огненный вихрь, она сметет все то, что называется “жизнью”. В ней утонет все маленькое, расчетливое, трусливое, чем губим мы дни. Тогда самый ничтожный станет богом и поймет навсегда великое незнакомое слово “беспредельность”».[388] Все рассказы выдержаны в единой стилевой тональности: сдержанная, лаконичная манера письма, минимум изобразительных средств, преобладание лирико-импрессионистических и психологических зарисовок, наиболее выразительные образцы которых в русской прозе тех лет были представлены творчеством О. Дымова (Петровская его высоко ценила: «Бесконечная простота внешних приемов, протестантское отношение к традиционной форме рассказа, своеобразно-красочный стиль – все это свежо, самобытно, радостно оторвано от изгнивших корней одряхлевшей декадентской литературы и так близко заветам единственного учителя в области художественной прозы – Кнута Гамсуна»[389]).
Брюсов считал, что у Петровской имеются большие духовные и интеллектуальные резервы и недюжинные профессиональные способности для того, чтобы сформироваться в крупного литературного мастера, и со своей стороны всячески пытался пробудить в ней творческую активность. В годы издания «Весов» Петровская, главным образом по брюсовской инициативе, регулярно выступала в журнале с отзывами о новейших книгах (опубликовано около 20 рецензий, часть их подписана псевдонимом: Н. Останин); в этих опытах, выдержанных в духе программных эстетических установок журнала, сказываются критическая зоркость и наблюдательность, литературный вкус, мастерство анализа[390] – именно те качества, которые характерны для статей, обзоров и рецензий Брюсова (свою преемственность по отношению к его установкам Петровская иногда впрямую декларирует[391]). Когда, после прекращения «Весов», Брюсов стал заведующим литературно-критическим отделом журнала «Русская Мысль», он привлек к сотрудничеству и Петровскую, всячески стараясь обеспечить ее литературной работой.[392] И все же реализовать свои писательские способности Петровская сумела лишь в самой малой мере; свои основные душевные силы, весь энергетический потенциал своей личности она растратила на внутренние переживания – и на любовь к Брюсову прежде всего; точнее – на чувства, вызванные Брюсовым, – поскольку, помимо любви, они включали широкую гамму самых противоречивых, взаимоисключающих эмоций.
После радостно-безмятежного «медового месяца» в Финляндии их отношения перешли в новую фазу, конфликтно-драматическую. Петровская не могла удовольствоваться ролью любовницы, которую только и мог предложить ей Брюсов в своей жизни; она требовала от него такого же безраздельного чувства, каким сама одаривала. Временами Брюсов оказывался готов пойти навстречу ее страсти и своим собственным порывам, но житейский «здравый смысл» неизменно брал верх; брало верх и то ровное, иногда слабое, но неизменно постоянное, прочное чувство, которое он испытывал к своей жене. В уже цитировавшемся письме к М. М. Рунт (март 1905 г.), в котором он говорил о «смерче» в своей жизни, Брюсов заверял (стремясь через свояченицу воздействовать на жену, угрожавшую семейным разрывом): «Ничего дурного, злого Жанне – я не желаю. Я просто поглощен чем-то иным, не ею. Она чувствует это и отчаивается. Проще: она ревнует. ‹…› Я прихожу поздно домой, – она что-то подозревает, рыдает, происходят мучительнейшие сцены, о которых не хочется рассказывать. Ее ошибка – что она всю свою жизнь положила в меня, и когда я ухожу – у нее не остается жизни. Ей надо создать свою жизнь, личную, собственную. Ибо жить только для нее я не могу. ‹…› Она часто как безумная, и мучит меня жестоко упреками, рыданиями, своим отчаяньем. ‹…› Нельзя упорно думать об одном: “ах, он меня не любит, ах, он мне не верен”. Это стало ее ide fixe, навязчивой идеей, на которой можно помешаться. ‹…› Я очень хочу жить с ней еще много, много лет, – до конца дней. Мне было бы очень плохо без нее. Я очень рад, что моя жена – она, а не кто другой. ‹…› Но ведь уходить от меня, когда она меня любит, когда я ее люблю, когда я вовсе не хочу разлучаться с ней и когда она больше всего хочет быть со мной – очень уж бессмысленно».[393]
Столь твердую готовность сохранять семейный союз Брюсов сформулировал еще в дни, когда его роман с Петровской был в стадии интенсивного расцвета; закономерно, что решения не порывать с преданной ему и любящей его Жанной он не изменял и впоследствии, и в особенности оставался ему твердо верен тогда, когда его страсть к Петровской угасала либо сменялась новыми любовными влечениями. То предпочтение, которое отдавал Брюсов в конечном счете своей жене, домашнему укладу и даже литературной работе, Петровская расценивала как предательство их любви и впадала временами в полное отчаяние. Излиянию этих эмоций посвящены десятки и сотни страниц ее писем к Брюсову, на которых постоянно фигурируют три главных действующих лица – он, она и «она», никогда не называемая по имени жена возлюбленного. Петровская изливала на нее все презрение и весь сарказм, на какие была способна, но эти старания пропадали втуне.
Свидетельствует Ходасевич («Конец Ренаты»): «Она несколько раз пыталась прибегнуть к испытанному средству многих женщин; она пробовала удержать Брюсова, возбуждая его ревность. В ней самой эти мимолетные романы (с “прохожими”, как она выражалась) вызывали отвращение и отчаяние. “Прохожих” она презирала и оскорбляла. Однако все было напрасно. Брюсов охладевал. Иногда он пытался воспользоваться ее изменами, чтобы порвать с ней вовсе. Нина переходила от полосы к полосе, то любя Брюсова, то ненавидя его. Но во все полосы она предавалась отчаянию. По двое суток, без пищи и сна, пролеживала она на диване, накрыв голову черным платком, и плакала. Кажется, свидания с Брюсовым протекали в обстановке не более легкой. Иногда находили на нее приступы ярости. Она ломала мебель, била предметы ‹…›».[394] Один из таких «приступов» случился публично, 14 апреля 1907 г. – на лекции Андрея Белого в Политехническом музее: «На лекции Бориса Николаевича, – писал Брюсов З. Н. Гиппиус, – подошла ко мне одна дама (имени ее не хочу называть), вынула вдруг из муфты браунинг, приставила мне к груди и спустила курок. Было это во время антракта, публики кругом было мало, все разошлись по коридорам, но все же Гриф <С. А. Соколов. – Ред.>, Эллис и Сережа Соловьев успели схватить руку с револьвером и обезоружить. Я, правду сказать, особого волнения не испытал: слишком все произошло быстро. Но вот что интересно. Когда позже, уже в другом месте, сделали попытку стрелять из того же револьвера, он выстрелил совершенно исправно, – совсем, как в лермонтовском “Фаталисте”. И, следовательно, без благодетельной случайности или воли Божьей, вы совершенно просто могли получить, вместо этого письма,от “Скорпиона” конверт с траурной каймой».[395]
Попытки «возбудить ревность» Брюсова также приводили иногда к серьезным последствиям. В 1907 г. Петровская вызвала жгучий интерес к себе со стороны Сергея Ауслендера, начинающего петербургского прозаика и племянника М. Кузмина. С посвящением Петровской была опубликована стилизованная новелла Ауслендера «Корабельщики, или Трогательная повесть о Феличе и Анжелике», написанная в сентябре – октябре 1907 г.;[396] Петровская же – возможно, «мстя» Брюсову за то, что он не провозгласил ее имени в «Венке», – в «Sanctus Amor» демонстративно обозначила (на следующем листе за титульным, литерами того же размера, что и имя автора и заглавие книги): «Посвящаю Сергею Ауслендеру». Взаимное увлечение привело к тому, что Ауслендер и Петровская отправились весной 1908 г. в совместное путешествие по Италии[397] (оно впоследствии нашло отражение в сюжете романа Ауслендера «Последний спутник», в котором Петровская является прототипом главной героини, Юлии Михайловны Агатовой; эпиграф же, предпосланный роману, – пушкинская строка «Ты любишь горестно и трудно» – мог бы служить эпиграфом и к жизнеописанию Петровской[398]). В ходе путешествия вспыхнувший было новый роман исчерпал себя: «мальчик» (так Петровская именовала Ауслендера в письмах к Брюсову) ее решительно разочаровал, – а «перемена мест» целительного действия не оказала. Упомянутое выше стихотворение «Молния» Брюсов называл «фотографией моей сегодняшней души»; аналогичную фотографию души Петровской правомерно видеть в ее очерке «Мертвый город», написанном по впечатлениям от знакомства с Венецией. Панорамы, всегда и всех пленявшие и воодушевлявшие, она окидывает равнодушным взором, различает в них лишь «притворно красивую всемирную открытку», зато пытается распознать «настоящее лицо Венеции, искусно скрытое», выявляет его и глядится в него, как в зеркало: «…это, воистину, город смерти и великого унынья. Изъеденные змеиными узорами, стены белеют мертвенно и тускло. ‹…› Кто-то запел, но, точно испугавшись, оборвал. Скользнула гондола – длинная, черная, как тело чудовищной рыбы. Качнулся фонарь, бросил желтую скользящую чешую, и опять холодна, мертва и дышит гнилью недвижная вода. Тишина огромного кладбища подавила жизнь этих людей. ‹…› Днем они побеждают смерть, а ночью она побеждает их, замедляет движенья, делает плоскими фигуры и восковыми веселые подвижные черты. И только здесь в этих улицах, где разрушение выступает, точно пятна на лице трупа, только здесь можно видеть, как рассыпается прахом чья-то безумная мечта. И покидая Венецию, хочется сказать: – Прощай! Прощай навсегда».[399]
Временное облегчение давали Петровской только сильно действующие средства – алкоголь, затем наркотики. В 1908 г. она была уже всецело в зависимости от морфия. Отношения с Брюсовым постепенно приобрели характер мучительных препирательств и психологических эксцессов в духе тех, что описаны в романах Достоевского (Белый замечал о Петровской: «…я бы назвал ее Настасьей Филипповной, если бы не было названия еще более подходящего к ней: тип средневековой истерички, болезнь которой суеверы XVI и XVII столетия называли одержанием ‹…›»[400]), периоды сближения чередовались с «изменами», которых они не скрывали друг от друга (у Брюсова – не очень продолжительная, но сильная страсть к В. Ф. Коммиссаржевской, у Петровской – связи, установившиеся в 1908 г. во Франции, которые, судя по ее признаниям, могли радикально изменить ход ее жизни), и Брюсов иногда готов был поставить финальную точку во всей истории. Однако после кратковременных встреч и конфликтных объяснений осенью 1908 г. во Франции (Брест) и Бельгии (Намюр) взаимное притяжение возобладало, их отношения получили второе дыхание. Примечательно, что произошло это главным образом благодаря активным усилиям Брюсова: лавина его писем, отправленных Петровской зимой 1908–1909 гг., – тому убедительное подтверждение.
В любовных стихах, вошедших в книгу Брюсова «Все напевы» (1909), мотивы, неразрывно связанные ранее, в «Венке», с образом Нины Петровской, получают новое развитие, дают иногда, может быть, еще более яркий отблеск все той же страсти:
- Идем творить обряд! Не в сладкой, детской дрожи,
- Но с ужасом в зрачках, – извивы губ сливать,
- И стынуть, чуть дыша, на нежеланном ложе,
- И ждать, что страсть придет, незванная, как тать.
- Как милостыню, я приму покорно тело,
- Вручаемое мне, как жертва палачу.
- Я всех святынь коснусь безжалостно и смело,
- В ответ запретных слов спрошу, – и получу.
- Но жертва кто из нас? Ты брошена на плахе?
- Иль осужденный – я, по правому суду?
- Не знаю. Все равно. Чу! красных крыльев взмахи!
- Голгофа кончилась. Свершилось. Мы в аду.
Однако та же страсть приобретает иное обличье в семи стихотворениях из «Всех напевов», объединенных в раздел «Мертвая любовь»:
- Мы, безвольные, простертые,
- Вновь – на ложе страстных мук.
- Иль в могиле двое, мертвые,
- Оплели изгибы рук?
- Или тени бестелесные,
- Давней страсти не забыв,
- Всё хранят объятья тесные,
- Длят бессмысленный порыв?
И, наконец, в стихотворении «Возвращение» (23 ноября 1908 г.) Брюсов возвещает новую «программу» любви, очерчивает изменившиеся контуры прежнего чувства, но провозглашает его силу и подлинность. Стихотворение построено как диалог двух голосов – Она, изведавшая «грешные пути», кается перед бывшим возлюбленным, Он уверяет ее в верности, в готовности вновь испытать пережитое:
- Она
- Все былое мной давно
- До конца осквернено.
- Тайны сладостных ночей,
- И объятий, и речей,
- Как цветы бросая в грязь,
- Разглашала я, глумясь,
- Посвящала злобно в них
- Всех возлюбленных моих!
- Он
- Что свершила ты, давно
- Прощено, – освящено
- На огне моей любви!
- Душный, долгий сон порви,
- Выйди вновь к былым мечтам,
- Словно жрица в прежний храм!
- <…..>
- Ты – моей души алтарь,
- Вечно чистый и святой!
- И, во прахе пред тобой,
- Вновь целую я, без слов,
- Пыльный след твоих шагов!
Пафос этого стихотворения Брюсов попытался воплотить в жизнь, когда Петровская, вняв его упорным настояниям, вернулась из Парижа в Москву. Но тогда же, весной 1909 г., упоение от новых встреч быстро сменилось привычной психодрамой. Уезжая в очередной раз за границу, Петровская, видимо, уже не ожидала возобновления прежнего: новых встреч больше не было, надолго угасла переписка, – однако Брюсов смог, неожиданно для нее и для самого себя, вырваться к ней в Париж, где они прожили осенью 1909 г. вместе около полутора месяцев – сумели тогда подарить друг другу еще один, после Финляндии, «медовый месяц». Как писал Брюсов в стихотворении «Видение во сне» (Париж, сентябрь 1909 г.), отразившем переживания той поры:
- Все, что сердцу было свято,
- Все вернул мне этот лик,
- Нежность губ, печальность взора…
- И душа была объята
- Прежним пламенем в тот миг![401]
Новый всплеск страсти получил и дополнительную окраску: Брюсов, самозабвенно стремясь полностью погрузиться в мир пристрастий и фантазмов своей возлюбленной, стал принимать наркотики. И. М. Брюсова предъявляла Петровской самый неоплатный счет за то, что она пристрастила ее мужа к морфию.[402] Отныне Брюсов, слагая строки сонета «К***» («Усталый сын изысканного века…», 20 сентября 1910 г.):
- …Твой верный друг – аптека,
- Сулящая гашиш, эфир, морфин…
- О, яды сладкие, дарующие благо
- Преображенья! Вкрадчивая влага,
- Вливающая силу и мечту![403] –
подразумевал уже не условного адресата, воображаемого, исторического или современного, «пытателя естества», а, конечно, себя самого. Возможно, уезжая из Парижа в Москву, он предполагал, что распрощается не только со своей любовью, которую отрадно было воскресить и было немыслимо продолжать, но и с ее наркотической составляющей; с дороги написав возлюбленной о проведенных с нею парижских неделях как о «потерянном рае», он явно не грезил о «возвращенном рае», и Петровская это чутко уловила и оскорбилась (послания Брюсова к ней этой поры, как и последующие, неизвестны, но по сохранившимся письмам Петровской отчасти можно реконструировать психологическую ситуацию того момента). Не получилось ни того, ни другого – ни с любовью, ни с ее составляющей. Петровская, пробужденная к жизни парижским «медовым месяцем», – и вопреки явному нежеланию Брюсова – вскоре возвратилась в Москву. Наступила последняя, самая тяжкая стадия их взаимоотношений.
К. Г. Локс сообщает в своих мемуарных записках: «…когда В<алерий> Я<ковлевич> умер, Жанна Матвеевна доверила мне письма Н<ины> П<етровской> к нему. Эти письма – вопль истязуемой женской души. Где кончались истязания и начинались самоистязания – судить не берусь».[404] Приведенная характеристика относится в наибольшей степени к письмам Петровской 1910–1911 гг. Многие из них, переполненные бесконечными укорами, жалобами, проклятиями и мольбами, сочинялись в состоянии наркотического транса и получали благодаря этому особенно сильную эмоциональную окраску; без наркотиков Петровская уже не могла существовать и в своем пристрастии к ним не раз оказывалась на грани жизни и смерти. Отношения с Брюсовым становятся для нее невыносимыми, и в то же время она влечется к нему, порицает за холодность, за пренебрежение ею – и умоляет о новых встречах, просит провести с нею вместе хотя бы несколько летних недель – о постоянной совместной жизни уже не мечтая (Брюсов, после ряда «уклонений», все же пошел навстречу: в июле 1911 г. они побывали вдвоем в Лифляндии). Роман вступил в стадию длительной агонии, которую Петровская готова была принять как свою духовную и физическую гибель; ее alter ego, о котором она постоянно вспоминает, – образ умирающей Ренаты из «Огненного Ангела». «Рената (бывшая)», – подписывает она одно из своих писем к Брюсову (13/26 ноября 1911 г.).[405]
Те, кому Петровская тогда изливала свою душу, порицали Брюсова, считали его поведение жестоким. «Я не любил его за Вас – это Вы знаете», – признавался Ходасевич Петровской в своих чувствах к Брюсову – добавляя, правда, в том же (возможно, неотправленном) письме слова, которые не могли свидетельствовать о его беспристрастности: «…знайте, что я люблю Вас больше, чем всех других людей вместе».[406] Действительно, «гибель всерьез», на которую шла и к которой стремилась Нина Петровская (не приходится отрицать и оттенка самоуслаждения душевными страданиями, который подметил в ее письмах Локс), с драмой Брюсова, всего лишь разрываемого между любовницей, семейным очагом и новыми влечениями, сопоставления не выдерживает. Однако приходится считаться и с неотъемлемым правом Брюсова – быть самим собой, быть верным изначальным структурообразующим основам своей личности, своему «протеизму» и своему творческому предназначению. Брюсов ясно осознавал, что он неспособен к постоянной совместной жизни с Петровской – и не только потому, что таковая внесла бы нежелательные и даже разрушительные коррективы в определившиеся ритмы его литературной деятельности (которая для него в иерархии ценностей всегда оставалась на первом плане) и создала бы дискомфорт в налаженных обыденных житейских условиях (Петровская хорошо понимала это: «Да, я, конечно, не могла бы играть с ним и его родственниками по воскресеньям в преферанс по маленькой, чистить щеткой воспетый двумя поколениями поэтов черный сюртук, печь любимые пироги, варить кофе по утрам, составлять меню обеда и встречать его на рассвете усталого, сонного, чужого»[407]). Главным препятствием был психологический максимализм Петровской, требовавший, чтобы вся жизнь была подчинена одной страсти, исчерпывалась этой страстью. Брюсов последовать такому призыву был не в силах. Его максимализм мог распространяться лишь на единственную, но всеобъемлющую сферу – на творчество, «сочетания слов».
Последний всплеск их любви нашел поэтический отклик в стихах, составивших раздел «Страсти сны» в книге Брюсова «Зеркало теней» (1912).[408] Одному из семи входящих в него стихотворений («Да, можно любить, ненавидя…», 1911) предпослан эпиграф из Катулла «Odi et amo» («Ненавижу и люблю»), который звучит психологическим камертоном для всех поэтических отражений в очередной раз возобновленного чувства:
- Опять безжалостные руки
- Меня во мраке оплели.
- Опять на счастье и на муки
- Меня мгновенья обрекли.
- Бери меня! Я твой по праву!
- Пусть снова торжествует ложь!
- Свою не радостную славу
- Еще одним венком умножь!
- Я – пленник (горе побежденным!)
- Твоих колен и алчных уст.
- Но в стоне сладостно-влюбленном
- Расслышь костей дробимых хруст!
С посвящением Нине Петровской в «Зеркале теней» помещено стихотворение «В ответ на одно признание» (датировка: 9 апреля 1910 г.). Это – поэтический отклик, по всей видимости, на утешающую легенду, которую Брюсов и Петровская творили в противовес драматической реальности их отношений: они встретились слишком поздно для того, чтобы создать «сказку» «из нашей страсти», чтобы воплотить любовь во всей полноте и гармонии:
- Ты обо мне мечтала в годы те,
- Когда по жизни шел я одиноко,
- И гордо предан огненной мечте
- О женщине безвестной и далекой.
- <……>
- Какие б я слова нашел тогда,
- В каких стихах пропел бы гимны счастья!
- Но розно мы томились те года,
- И расточали праздно, навсегда,
- Двух душ родных святое сладострастье!
Этому поэтическому мифотворчеству противостояло в сознании Брюсова, однако, ясное представление о действительности – в данном случае воплотившееся как «видение» в прозаической миниатюре из цикла «Сны» (1 июля 1911 г.; вопрос о том, представляют ли собой тексты, включенные в цикл, запись подлинных снов или творческую фантазию автора, – конечно, праздный). Поразительно, что в этом «сне» очерчен тот облик Петровской, который она обретет годы спустя:
«В каком-то городке, по-видимому немецком, на бульваре, за киоском, я встретил ее, ту, которую любил когда-то.
Одного взгляда было достаточно, чтобы понять положение, до которого она дошла. Кричащее, но бедное платье, громадная, но нищенская шляпа с жалким, хотя и большим пером, поблекшее лицо, густо покрытое румянами.
Жалость, неизмеримая жалость наполнила мою душу, и я сказал ей:
– Неужели ты не узнала меня? Я все тот же, каким был, я – твой, по-прежнему твой. Теперь я нашел тебя вновь, и мы более не расстанемся никогда. Пойдем со мной.
Она долго смотрела на меня, как бы узнавая, потом ответила:
– У тебя есть жена.
Я возразил:
– Больше у меня никого нет, кроме тебя. Ты одна существуешь для меня в мире. Даю тебе клятву быть вечно верным тебе, быть твоим рыцарем, твоим слугой. Хочешь, я стану сейчас на колени перед тобой?»
Он уговаривает ее, влечет к «роскошному отелю, где остановился», она просит его подождать и ускользает.
«Через миг я уже бросился догонять ее. Но ее нигде не было».[409]
В 1911 г., когда был написан (или записан) этот «сон», история любви приблизилась к финалу. 12 сентября 1911 г. И. М. Брюсова сообщила Н. Я. Брюсовой: «Я Вале поставила летом ультиматум: если он не оставит m-me Гриф, – я уйду. Отъезд свой я обдума<ла>. Условие это поставлено главным образом из страха, что опять она изобретет какое-нибудь гибельное для В<али> исхищрение, вроде морфия. Скучно и противно все это. Поговорили, поговорили и опять помирились, вернее я еще осталась, а В<аля> обещался бывать у ней реже».[410] Уехала не Иоанна Матвеевна, а Петровская. После тяжелой болезни, усугубленной морфием, было решено отправить ее для лечения за границу в сопровождении врача Генриха Койранского (который пытался избавить от наркотической зависимости и ее, и Брюсова).[411]
Вспоминает Ходасевич (мемуарный очерк «Брюсов»): «Наступил день отъезда – 9 ноября.[412] Я отправился на Александровский вокзал. Нина сидела уже в купэ, рядом с Брюсовым. На полу стояла откупоренная бутылка коньяку (это был, можно сказать, “национальный” напиток московского символизма). Пили прямо из горлышка, плача и обнимаясь. Хлебнул и я, прослезившись. Это было похоже на проводы новобранцев. Нина и Брюсов знали, что расстаются навеки».[413] После этого Петровская в Москву не возвращалась и с Брюсовым не виделась.
Сразу после ее отъезда Брюсов написал стихотворение «Покорность» (ночь 10/11 ноября 1911 г.), в котором нетрудно уловить чувства и мысли, вызванные только что пережитым расставанием:
- Не надо спора. Буду мудрым.
- Склонюсь покорно головой
- Пред тем ребенком златокудрым,
- Что люди назвали Судьбой.
- <…..>
- Хочу: в твоем спокойном взоре
- Увидеть искры новых слез;
- Хочу, чтоб ввысь, где сладко горе,
- Двоих – один порыв вознес!
- Но буду мудр. Не надо спора.
- Бесцелен ропот, тщетен плач.
- Пусть вверх и вниз, легко и скоро,
- Мелькает жизнь, как пестрый мяч!
Несколько лет спустя Брюсов воскресил в памяти Петровскую, создавая венок сонетов «Роковой ряд» (1916); в 14 сонетах венка он запечатлел образы 14 своих возлюбленных. Нина Петровская воспета в 8-м сонете («Дина»):
- Ты – слаще смерти, ты – желанней яда,
- Околдовала мой свободный дух!
- И взор померк, и воли огнь потух
- Под чарой сатанинского обряда.
- В коленях – дрожь; язык – горяч и сух;
- В раздумьях – ужас веры и разлада;
- Мы – на постели, как в провалах Ада,
- И меч, как благо, призываем вслух!
- Ты – ангел или дьяволица, Дина?
- Сквозь пытки все ты провела меня,
- Стыдом, блаженством, ревностью казня.
- Ты помнишься проклятой, но единой!
- Другие все проходят за тобой,
- Как будто призраков туманный строй.
Отголоски пережитого вместе с Петровской время от времени возникают и в позднейших стихах Брюсова – например, в стихотворении «Памяти одной» (28 мая 1920 г.), в котором поэт обращается к тому, что было «пятнадцать лет назад», т. е., по всей вероятности, к путешествию в Финляндию.[414] Однако в целом его жизнь и творчество насыщаются новым содержанием, новыми темами, и живому образу Петровской среди них уже нет места. По-новому пробует строить свой жизненный уклад за границей и Петровская – сохраняя, однако, отчетливое осознание того, что впереди у нее не полноценная жизнь, а лишь доживание.
В первые годы пребывания за границей она пытается активно сотрудничать в русской печати. Тому был и вполне объяснимый стимул – недостаток средств, хотя Брюсов и бывший супруг С. Соколов оказывали ей материальную поддержку. В периодике появлялись ее рассказы, которые предполагалось даже издать отдельной книгой (в 1914 г. издательством «Гриф» анонсировалась вторая книга ее рассказов «Разбитое зеркало», однако издание не состоялось). По сравнению со сборником «Sanctus Amor» новые беллетристические опыты Петровской – в большинстве своем печатавшиеся, благодаря протекции Соколова, в московской газете «Утро России» – отличаются творческой зрелостью, стремлением к более широкому и объективному отражению действительности, заметно повысившимся уровнем повествовательного мастерства.[415] Дополнительный литературный заработок давали Петровской газетные и журнальные рецензии, которые регулярно публиковались до ее отъезда за границу,[416] но, не имея возможности знакомиться в Италии с русскими книжными новинками, она принуждена была от этой работы отойти. Литература, однако, не спасала, не облегчала жизненных тягот. К материальной нужде и постоянному нервному расстройству присовокупились прежние недуги, порожденные злоупотреблением алкоголем и наркотиками.
Свидетельствует Ходасевич («Конец Ренаты»): «Ее скитания за границей известны мне не подробно. Знаю, что из Италии она приезжала в Варшаву, потом в Париж. Здесь, кажется в 1913 году, однажды она выбросилась из окна гостиницы на бульвар Сен-Мишель. Сломала ногу, которая плохо срослась, и осталась хромой».[417] В связи с последним сообщением более внятные сведения содержатся в письме Соколова к Брюсову от 24 ноября 1912 г.: «В начале пребывания Нины в мюнхенской клинике Красного Креста ‹…› мюнхенский профессор подавал надежду на благополучный и сравнительно скорый исход ее болезни (туберкулез колена) при правильном лечении. ‹…› Боль до крайности велика. Первое время Нина терпела, но потом отказалась и при малейшей попытке сделать что-нибудь с ногой стала поднимать, как сама пишет, “звериный вой”, почему все доктора отступали. ‹…› В связи с этим положением вещей она стала умолять меня письмами и телеграммами (мне и Генриху Койр<анскому>), чтоб ее перевезли в Москву».[418] Вместо Москвы Петровская перебралась в Варшаву к Брылкиным, родственникам второй жены Соколова. 25 февраля 1914 г. Соколов извещал Андрея Белого: «Адрес Нины для писем сейчас: Варшава. Гурная. 8. Кв<артира> Брылкиных. Туда можно всегда писать, – ей доставят верно. ‹…› Она почти 3 года вне Москвы, сперва за границей, где перенесла тяжелую и многомесячную болезнь, с осени – в Варшаве. К весне, вероятно, опять уедет за границу. Вы ей напишите, – она будет очень счастлива, – Вас всегда поминает добром и с нежной симпатией. У ней были очень тяжелые душевные потрясения. Хорошо лишь то, что теперь она совершенно излечилась душой от власти Брюсова и давно порвала с ним абсолютно».[419]
Разрыв с Брюсовым не означал, однако, затухания его образа в сознании Петровской; в этом образе лишь восторжествовали негативные черты. Описывая Ходасевичу свои годы, проведенные за границей, она признавалась, не называя Брюсова по имени – как бы табуируя самое важное: «Задыхалась от злого счастья, что теперь ему меня не достать, что теперь другие страдают. ‹…› Я же жила, мстя ему каждым движением, каждым помышлением».[420] Проклиная Брюсова, она, однако, полностью отождествила себя с героиней «Огненного Ангела» и даже попыталась воплотить в действительность религиозно-церковную ипостась личности брюсовской Ренаты: «Единственная моя реальность сейчас – это Чудо. За эти же годы, по глубочайшему религиозному убеждению перешла к Католичеству ‹…› мое новое и тайное имя, записанное где-то в нестираемых свитках San Pietro, – Renata… ‹…› С меня стерлась вся мишурная позолота и если не “свиная кожа”, то осталась только религия (в моем понимании) да холодная мудрость души, жившей и умиравшей миллион раз».[421] «… Два года тому назад с горячей верой я обратилась в католичество», – писала Петровская 16 января 1922 г. папе Бенедикту XV, ходатайствуя о материальной помощи; подпись под письмом: «Nina Renata de Sokoloff».[422]
Живя в основном в Италии, Петровская бедствовала больше всего в годы мировой войны, когда связи с Россией фактически прервались и поддержка со стороны бывшего мужа прекратилась (Соколов, ушедший в армию добровольцем, в марте 1915 г. попал в немецкий плен). «Война застала ее в Риме, – пишет Ходасевич, – где прожила она до осени 1922 года в ужасающей нищете, то в порывах отчаяния, то в припадках смирения, которое сменялось отчаянием еще более бурным. Она побиралась, просила милостыню, шила белье для солдат, писала сценарии для одной кинематографической актрисы, опять голодала. Пила. Порой доходила до очень глубоких степеней падения».[423] Сообщая М. Горькому о своем намерении написать книгу об Италии («в своем роде “Мои университеты”»), Петровская признавалась: «За 9 лет жизни без гроша в кармане я узнала там и быт и людей и такие положения, которые никому и не снились в золотые дни символизма».[424]
В сентябре 1922 г. Петровская переехала в Берлин, тогда главный литературный центр русской эмиграции, где стала постоянной сотрудницей «сменовеховской» газеты «Накануне» и литературных приложений к ней, выходивших под редакцией А. Н. Толстого. С ноября 1922 до июня 1924 г., когда газета закрылась, там регулярно печатались произведения Петровской – фельетоны, очерки, рассказы, рецензии, обзоры итальянской литературы, переводы итальянских новелл. В переводе Петровской, обработанном А. Н. Толстым, в 1924 г. в Берлине были изданы «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди – первоисточник «Золотого ключика»,[425] в Москве в 1923 г. – «Хвостик. Повесть из жизни муравьев» Вамбы (Луиджи Бертелли). Полтора года сотрудничества в «Накануне» оказались периодом наиболее активной литературной деятельности в ее жизни, а также порой полноценного возвращения в российскую писательскую среду, постоянных контактов как с прежними московскими знакомцами (Андреем Белым, Ходасевичем и др.), так и с авторами нового поколения.[426] Один из представителей последнего, Роман Гуль, руководивший после ухода А. Н. Толстого изданием литературных приложений к «Накануне», очертил в мемуарах облик Петровской – красноречивое свидетельство того, какое разрушительное действие оказали на нее десять лет заграничной жизни: «Лет под пятьдесят, небольшого роста, хромая, с лицом, намакиированным всяческими красками свыше божеской меры, как для выхода на большую сцену, Нина Ивановна, правду говоря, производила страшноватое впечатление. Это была женщина очень несчастная и больная. Алкоголичка, Н. И. почти всегда была чуть-чуть во хмелю, одета бедно, но с попыткой претензии – всегда черная шляпа с сногсшибательными широкими полями, как абажур. Острая на язык».[427]
Сходные впечатления сохранила и Нина Берберова, подтверждавшая, что и в Берлине для Петровской в центре внимания по-прежнему оставался носитель табуированного имени: «С темным, в бородавках, лицом, коротким и широким телом, грубыми руками, одетая в длинное шумящее платье с вырезом, в огромной черной шляпе со страусовым пером и букетом черных вишен, Нина мне показалась очень старой и старомодной. ‹…› В глубоких, черных ее глазах было что-то неуютное, немного жутковатое, низким голосом она говорила о том, что написала ему письмо (она никогда не называла Брюсова по имени) и теперь ждет, что он ответит ей и позовет ее в Москву. ‹…› Она относилась ко мне с любопытством, словно хотела сказать: и бывают же на свете люди, которые живут себе так, как если бы ничего не было: ни Брюсова, ни 1911 года, ни стрельбы друг в друга, ни средневековых ведьм, ни мартелевского коньяка, в котором он когда-то с ней купал свое отчаяние, ни всей их декадентской саги. ‹…› Она приходила часто, сидела долго, пила и курила и все говорила о нем. Но Брюсов на письмо ей не ответил».[428]
За время пребывания в Берлине Петровская, видимо, в очередной раз переменилась в своих эмоциях по отношению к Брюсову и с явным предубеждением воспринимала теперь неодобрительные отзывы о нем окружающих. 31 декабря 1922 г. она сообщала О. И. Ресневич-Синьорелли: «О В. Брюсове говорят, что он так унизился с Б., так упал, так выродился, состарился… Тоже не верю… пока не вложу “персты в язвы”…»[429] В первой публикации письма сообщается, что «Б.» в этом фрагменте – «лицо неустановленное», однако, думается, сокращение подразумевает здесь не конкретную персону, а множество существ или явление: большевиков или большевизм. Не готова была Петровская присоединить свой голос к общему хору порицающих Брюсова за союз с новой властью. Но присоединила его к другому хору – славящих Брюсова по поводу 50-летия со дня рождения: «Очень просили меня написать, и нельзя было уклониться, осталось бы пустое место, именно мое. Написала, и вот затосковало сердце… Портрет его повесила, смотрю… Стал он старый, старый, уже не на “мага”, а на “шамана” похож. Смотрю и понять не могу, как и зачем эти годы мои прошли!..»[430] В своей юбилейной статье, однако, Петровская подобным настроениям не поддается; она описывает не тот новейший портрет, который был у нее перед глазами, а прежний, знаменитый, работы Врубеля; и Брюсов в ее трактовке, задрапированный в заведомо старомодные символистские словесные облачения, – это мэтр русского символизма в период его расцвета, в тот период, на который приходились лучшие дни, ими совместно прожитые:
«Выступая на арене, весь закованный в стальной панцирь своего таланта, или уединяясь в свои заклятые пещеры, – Валерий Брюсов разбрасывал в первые же годы щедро дары своих неисчерпаемых сокровищ. ‹…› “Весы” под руководством Валерия Брюсова стали питомником молодых талантов, аскетической школой деятелей искусства, которым было суждено взорвать мертвенность окостеневших форм и на долю которых пришлась тяжелая задача – поднять на должный уровень косную, влюбленную в прошлое, враждебную толпу.
Быть может, на этом испепеляющем костре, на этом очистительном огне, куда Валерий Брюсов бросил без остатка душу и жизнь, и возник тот гранитный облик врубелевского портрета, веющий потусторонней жутью.
Превратить свою жизнь в суровую трагедию искупления, сказать, что
- Все в жизни лишь средство
- Для ярко певучих стихов,
и знать только одно, что: “От века из терний поэта заветный венок” – дано лишь немногим в русской литературе».[431]
Со смертью Брюсова, последовавшей 9 октября 1924 г., для Петровской окончательно отодвинулась в прошлое эпоха символизма, к которой всецело принадлежала и она сама, и вся история ее взаимоотношений с одним из вершинных выразителей этой эпохи.
Свидетельствует Роман Гуль: «…о смерти в Москве Валерия Брюсова первым сказал Нине Ивановне я. Она принесла очередную итальянскую новеллу для “Литературного приложения”. Я сказал ей, что телеграф сообщил, что умер Брюсов, и показал только что сверстанное “Литературное приложение” с большим портретом Брюсова на обложке. Нина Ивановна как-то потемнела в лице, ничего не сказав, взяла “Литературное приложение” и долго-долго (как застыв) смотрела на Брюсова, потом тихо, даже будто с трудом, произнесла почему-то: “Да… Это он…”. И отложила газету. Мне всегда казалось, что бедная Рената всю жизнь любила Рупрехта, который жестоко разбил ее жизнь».[432]
Сразу же после кончины Брюсова Петровская взялась за «Воспоминания». Это – последнее и, может быть, наиболее значительное ее литературное произведение, воссоздающее различные эпизоды из жизни московских символистов в первые годы XX века и отличающееся новым, трезво-аналитическим взглядом на «декадентские» настроения и соблазны. В центре повествования – «настоящий» Брюсов, которого Петровская, стремясь возвыситься над собственными эмоциями, пытается осмыслить, великодушно отодвигая в сторону собственные беды и обиды; «настоящего», до конца ею понятого Брюсова она противопоставляет расхожим мнениям и кривотолкам о нем. Отвечая на упрек Ходасевича (собиравшегося опубликовать «Воспоминания» в берлинском журнале «Беседа») в том, что «объективная оценка В. Брюсова, как поэта и человека» у нее «чудовищно повышена», Петровская заявляет: «О моей оценке В. Брюсова-поэта можно сколько угодно спорить ‹…› Но “человека”?.. Я его знала таким, и не могу рассказывать об ином. Смею сказать, – я знала о нем то, о чем не догадывались другие. И больше: по-моему, только я, – путем самосожжения, правда, – приблизилась к его подлинной сущности, заслоненной тысячами “стилей” сознательных и бессознательных. В нем жило наполовину безумие, но воистину в этот пылающий горн он обеими руками лил холодную воду. ‹…› Писала же я о нем только правду и почти всегда горькую для меня».[433] В следующем письме к Ходасевичу Петровская развивала ту же тему: «Валерия никто, наверно, не помянет добрым словом. Тем хуже… А может быть тем лучше, что его никто, кроме меня, не понял. Я же ему себя не простила ‹…›, я просто поняла, что иным быть он не мог. Никто не может быть иным, а до конца пребывает тем, кто он есть. ‹…› Через годы, после его смерти я полюбила то счастье, что звала трагедией и горем по недомыслию моему. Поняв все это, ничего не ставлю ему в счет. Если это все-таки называется “простить”, – то да, – я простила, и образ его для меня сейчас лучезарен. ‹…› На “коммунизм” Валерия у меня моя точка зрения. Но скорее откушу язык, чем поведаю ее даже Вам… ‹…› Не сердитесь – всё о Валерии сейчас для меня Sacro e Santo <Свято и Священно – ит.>. Иначе не могу чувствовать. Слушайте: однажды в час великой тоски я написала ему письмо (недавно, в январе) и всунула в бумаги. Ну… звала прийти как-ниб<удь> ночью… И странно, – забыла что написала на три дня. На 4-ую ночь он пришел, – то был полусон, полуявь. В моей комнате, сел за столом против кровати и смотрел на меня, живой, прежний. И вдруг я вспомнила, что он умер… И завопила дико. Ах, с каким упреком он на меня посмотрел, прежде, чем скрылось видение. Звала сама же! Вот что сказал его взгляд».[434]
«Воспоминания» опубликовать тогда Петровской не удалось, а с прекращением издания «Накануне» для нее иссякли возможности литературного заработка. Беспросветная нищета – удел последних лет ее жизни. К лету 1927 г. она вместе с младшей сестрой перебралась в Париж, где жила случайными заработками – мыла посуду в ресторанной кухне.[435]
Свидетельствует Ходасевич: «Нина Петровская перед смертью была ужасна, дошла до последнего опускания и до последнего ужаса. Иногда жила у меня по 2–3 дня. Это для меня бывали дни страшного раскаяния во многом из того, что звалось русским декадентством. Жалко бывало ее до того, что сил не было разговаривать. Мы ведь 26 лет были друзьями».[436] Удерживала ее от смерти лишь необходимость заботиться о беспомощной больной сестре. В январе 1928 г. сестра умерла. Петровская пыталась последовать за ней сразу же, но не получилось: «Я колола ей руку иглой четыре раза, потом себе. Думала, заражусь трупным ядом. Но нет»; «Я верю в “тот свет” и, чтобы сделать ей радость, снова перешла в православие».[437] Последние дошедшие от нее слова – точнее, последний вопль – в письме к А. П. Шполянскому от 22 февраля 1928 г.: «Вся моя душа до дна парализована горем, а физически я так слаба, что не могу выйти на улицу, не держусь на ногах даже в комнате. Сейчас я живу буквально подаянием и как-то не стыжусь этого. За 45 дней после смерти моей сестры я увидала жизнь голую и поняла, что многие ее законы ложны и лживы. Я полумертвая, а это самая “жизнь”, пока не покончено с телом, ни с чем не считается. Мне подали счет за отопленье на 60 fr. Мне нечем их заплатить. ‹…› Я прошу лично Вас, я очень прошу (иначе меня вышвырнут из отеля), достаньте мне где-ниб<удь> эти 60 fr. Они мне нужны завтра вечером».[438]
На следующий день, 23 февраля 1928 г., Петровская покончила с собой в своем парижском жилище, отравившись газом. Отпевание состоялось 26 февраля в Русской церкви на рю Дарю, похороны – на кладбище Банье.[439]
В парижской газете «Дни» появился следующий анонимный некролог:
«Нина Петровская.
Известная писательница и переводчица Нина Ивановна Петровская покончила с собой. Кончилась ее подлинно страдальческая жизнь в маленьком парижском отеле, и эта жизнь – одна из самых тяжелых драм в нашей эмиграции.
Полное одиночество, безвыходная нужда, нищенское существование, отсутствие самого ничтожного заработка, болезнь – так жила все эти годы Нина Петровская, и каждый день был такой же, как предыдущий – без малейшего просвета, безо всякой надежды. Несколько месяцев тому назад она перебралась из Берлина в Париж, но и в Париже не стало лучше. Вынужденная жить буквально подаянием, помощью отдельных писателей, тоже дававших ей не от избытка, одинокая и забытая, – она не выдержала этой жизни, сложившейся для нее особо несчастно.
Мы еще вернемся к характеристике Нины Петровской. Пока же обнажим голову пред свежей могилой».[440]
Возможно, что этот текст был составлен Ходасевичем. К более подробной характеристике Петровской Ходасевич обратился, опубликовав вскоре в парижской газете «Возрождение» (12–14 апреля 1928 г.) мемуарно-аналитический очерк «Конец Ренаты», который долгие годы был едва ли не единственным источником общих сведений о ней. Едва ли не единственным – потому, что в читательском обиходе оставался еще и «Огненный Ангел».
«Санаторная встреча»
(Мария Вульфарт в жизни и стихах Валерия Брюсова)
24 ноября 1913 г. в Москве покончила с собой возлюбленная В. Брюсова поэтесса Надежда Львова.[441] Брюсов был потрясен до глубины души, готов был возлагать на себя вину за происшедшее; такой же неоплатный счет предъявляли ему многие, знавшие Львову и осведомленные о характере их отношений. Один из многих – Владислав Ходасевич, который сообщал в мемуарном очерке о поэте: «Сам Брюсов на другой день после Надиной смерти бежал в Петербург, а оттуда – в Ригу, в какой-то санаторий. Через несколько времени он вернулся в Москву, уже залечив душевную рану и написав новые стихи, многие из которых посвящались новой, уже санаторной “встрече”…»[442]
Имени той, с кем состоялась у Брюсова эта санаторная «встреча», Ходасевич, видимо, не знал. Не возникало оно долгие годы и в литературе, затрагивавшей биографию и творчество Брюсова. Видимо, впервые оно было упомянуто (в неточном написании) в 1974 г. в примечаниях к стихотворению «Еврейским девушкам» («Красивые девушки еврейского племени…»), написанному в Вильно в августе 1914 г. и включенному в позднейшую книгу Брюсова «Миг» (1922): «В 1914 г. Брюсов принял близкое участие в судьбе молодой еврейской скрипачки Марии Вульферт, которую ему удалось устроить в Варшавскую консерваторию. Вероятно, знакомство с Вульферт натолкнуло поэта на тему этого стихотворения».[443] То же имя фигурирует в статье Артура Приедитиса «Курземские друзья Брюсова», при ней помещен и фотопортрет скрипачки (Варшава, 1915).[444] Краткая справка о взаимоотношениях Брюсова с Марией Вульфовной (Владимировной) Вульфарт дана в наших пояснениях относительно биографического подтекста стихотворения Брюсова «Умершим мир!»,[445] содержащего отклик на гибель Львовой, которое заканчивается строками:
- Умершим мир! И нас не минет
- Последний, беспощадный час,
- Но здесь, пока наш взгляд не стынет,
- Глаза пусть ищут милых глаз![446]
Наконец, в общих чертах канва взаимоотношений Брюсова и Вульфарт прослежена в новейшей биографии поэта, написанной В. Э. Молодяковым, и в статье А. Л. Соболева «История Марии Вульфарт», вышедшей в свет почти одновременно с первой публикацией настоящей заметки.[447]
Поэтический образ Марии Вульфарт воссоздан в 14-м сонете («Последняя») венка сонетов «Роковой ряд», в котором Брюсов воспел четырнадцать возлюбленных, оставивших заметный след в его жизни:
- Да! Ты ль, венок сонетов, неизменен?
- Я жизнь прошел, казалось, до конца;
- Но не хватало розы для венца,
- Чтоб он в столетьях расцветал, нетленен.
- Тогда, с улыбкой детского лица,
- Мелькнула ты. Но – да будет покровенен
- Звук имени последнего: мгновенен
- Восторг признаний и мертвит сердца!
- Пребудешь ты неназванной, безвестной, –
- Хоть рифмы всех сковали связью тесной.
- Прославят всех когда-то наизусть.
- Ты – завершенье рокового ряда:
- Тринадцать названо; ты – здесь, и пусть –
- Четырнадцать назвать мне было надо![448]
Особенность «последней» в ряду других героинь «Рокового ряда» заключается прежде всего в том, что она воплощает образ «потаенной» любви: «Пребудешь ты неназванной, безвестной». Тому способствовали и житейские обстоятельства: прежние возлюбленные Брюсова обретались в Москве или Петербурге, многие из них были вхожи в «свет» и известны в литературно-художественном мире, М. Вульфарт же пребывала в отдалении от российских столичных кругов – в Риге, Варшаве, в городке Тальсен Курляндской губернии (безусловно, именно она подразумевается в строках стихотворения «Еврейским девушкам»: «В Варшаве, и в Вильне, и в задумчивом Тальсене // За вами я долго и грустно следил»[449]).
По письмам М. Вульфарт к Брюсову и некоторым другим документам из его архива можно в общих чертах воссоздать историю их знакомства и сближения, лишь отчасти прослеженную в упомянутой книге В. Молодякова и более подробно описанную А. Л. Соболевым.
Вопреки приведенному позднейшему утверждению Ходасевича, Брюсов после самоубийства Львовой не отправился из Петербурга прямо в Ригу, а вернулся (1 декабря 1913 г.) в Москву, где провел несколько дней с приехавшим тогда в Россию Эмилем Верхарном[450] и лишь после этого отбыл в сопровождении жены в санаторий доктора М. М. Максимовича на Рижском взморье в Эдинбурге II (ныне Дзинтари): «Врачи советовали санаторное лечение для укрепления нервов. По этому поводу декабрь и январь 1913/14 г. он провел под Ригой».[451] Скорее всего, именно там в декабре 1913 г. состоялось его личное знакомство с пациенткой санатория, юной Маней Вульфарт, которое – видимо, уже после отъезда в Москву И. М. Брюсовой – переросло в «роман».[452] Переживаниями этой новой любовной связи – сравнительно легкой и безмятежной, в очевидном контрасте с надрывным драматизмом отношений с Львовой, – явно продиктовано стихотворение Брюсова «На санках» (11 января 1914 г.) из его книги «Семь цветов радуги» (1916):
- Санки, в радостном разбеге,
- Покатились с высоты.
- Белая, на белом снеге
- Предо мной смеешься ты.
- <…..>
- Нет ни ужаса, ни горя:
- Улыбнулся детский лик,
- И морозный ветер с моря
- В душу ласково проник.[453]
М. Вульфарт уехала с Рижского взморья еще до возвращения Брюсова в Москву: первая ее открытка отправлена ему из Тальсена (ныне Талси) в Майоренгоф (ныне Майори; ближайшее к санаторию Максимовича почтовое отделение) 27 января 1914 г. на имя «А. Bakoulin» («конспиративный» прием; фамилию своего деда со стороны матери А. Я. Бакулина Брюсов неоднократно использовал и в печати как один из своих псевдонимов),[454] следующее письмо – от 30 января – уже в Москву. Новая их встреча состоялась в Петербурге в середине февраля 1914 г., М. Вульфарт приезжала к ее общей с Брюсовым знакомой по санаторию Максимовича Елене Павловне Шапот; по возвращении в Ригу она послала Брюсову 18 февраля две телеграммы: «Привет моему мальчику корзина найдена – глупая девочка» (видимо, подразумевается полученная от Брюсова корзина цветов), «Привет от твоей глупой девочки», – и в тот же день письмо в Москву с обращением: «(“Милый”) мой глупый и гадкий мальчик!»[455] Эти незатейливые фразы отчасти проливают свет на характер отношений и стилистику игрового поведения, которые складывались у Брюсова с его новой возлюбленной. Впрочем, семейное положение Брюсова и в данном случае накладывало свой отпечаток и давало повод его юной подруге для душевных волнений. Так, по возвращении из Петербурга М. Вульфарт писала Брюсову (19–23 февраля 1914 г.): «Мне тетя, напр<имер>, следующее говорит: милая, знай, что мы желаем тебе только добра, и поэтому выслушай меня: я знаю (она говорит) и все знают, что В. Я. в тебя влюблен, но ты ведь должна знать, что у него жена, и ты им разрушишь жизнь. Как тебе не совестно ‹…› Бранят меня с утра до вечера. ‹…› Я себе никогда не прощу, что поехала теперь в Петербург». Или – по получении известия о болезни И. М. Брюсовой (Рига, 29 апреля 1914 г.): «Валерий, даю Вам честное мое слово, что если мне не напишете, что с ней, почему она заболела, именно чем она страдает и т. д., Вы ничего больше от меня не узнаете. Должно быть, она из-за меня страдает, и этого я не переношу. Я покончу <c> собой, если это так…»[456]
И. М. Брюсова действительно была сильно озабочена новым увлечением своего супруга и даже, разузнав о его встрече с Вульфарт в Петербурге, обратилась с упреками в посредничестве к Е. П. Шапот. Последняя объяснялась в письме к ней от 13 марта 1914 г.: «Втроем мы бывали в театре, смотрели Петербург. Бывали в ресторане. ‹…› Может, Вы считаете недопустимым, что я, зная многое, не отвернулась от Манечки и В. Я. и не разыграла комедию, которую разыгрывали все санаторские гусыни. Я не могу, я не умею оценивать то, что не подлежит суду людей».[457] Узнав об этой переписке, Брюсов в свою очередь написал Е. П. Шапот (17 марта 1914 г.): «Вернувшись из Петербурга, я рассказал, что виделся там, часто, с Вами и с Манечкой, – только это. ‹…› И. М. приняла мои слова очень остро, и были у нас печальные разговоры ‹…› ни о каких фактах я ей ничего не сообщал (даже не говорил, что Манечка жила у Вас). Психологию И. М. я понимаю (как стараюсь понять психологию всех, с кем встречаюсь), но понимание это еще нисколько ее письма не оправдывает».[458]
Вновь они встретились в Риге в конце апреля – начале мая 1914 г. Стихотворение Брюсова «В старинной Риге» (1 мая 1914 г.) – тому почти документальное подтверждение:
- Здесь, в старинной Риге,
- В тихий день ненастья,
- Кротко я встречаю
- Маленькие миги
- Маленького счастья.
- ‹…›
- Иль влюблен я снова?
- Иль я снова молод?[459]
Вообще едва ли не все брюсовские стихотворения любовной тематики, относящиеся к 1914–1915 гг., так или иначе связаны с образом рижской возлюбленной поэта. Это – и «Безвестная вестница» (1914),[460] предвосхищающая «неназванную, безвестную» из венка сонетов, и названная по имени (и многократно возвеличенная анафорическим повторением заглавной буквы имени во всех словах) героиня мадригала «Мой маяк» (1914):
- Мой милый маг, моя Мария, –
- Мечтам мерцающий маяк.
- Мятежны марева морские,
- Мой милый маг, моя Мария,
- Молчаньем манит мутный мрак…
- Мне метит мели мировые
- Мой милый маг, моя Мария,
- Мечтам мерцающий маяк![461]
2 мая 1914 г. Брюсов вместе с М. Вульфарт побывал в Зегевольде (ныне Сигулда) под Ригой – в значимом для него месте, где был похоронен высоко ценимый им Иван Коневской (ранее он посетил Зегевольд вместе с Ниной Петровской в июле 1911 г., десять лет спустя после гибели поэта, и тогда же написал стихотворение «На могиле Ивана Коневского»[462]); в этот день они оттуда отправили Е. П. Шапот в Петербург приветственную открытку.[463] 5 мая они расстались. В письме от 12 мая Вульфарт укоряла Брюсова: «Удивляюсь, что за все время, уже неделя как ты из Риги, и получила я лишь секретку из поезда да телеграмму. А где же письмо, которое ты обещал из Петербурга?»[464] Разлука компенсировалась интенсивной перепиской (сохранилось 39 писем Вульфарт к Брюсову за 1914 г., его же письма к ней, по всей вероятности, утрачены); при этом Вульфарт постоянно терзалась вынужденным одиночеством и неопределенностью своего положения: «Но Валерий! почему Вы раньше не согласились со мной, когда я Вам говорила, что я Вам скоро надоем, когда уверяла Вас, что я слишком незначительный человек для Вас. Действительно, что же во мне, в самом деле? такая же смертная, как все остальные! (не больше чем маленькая девочка…) ‹…› Напишите проще, и если Вы этого сами желаете, я Вас совсем освобожу от себя, я не желаю Вас мучить, но – и не желаю играть! ‹…› Валерий! так и знайте, я Вас никогда не забуду, даже – если Вы это захотите. Мне это все равно! Прощайте пока, а кто знает, мож<ет> быть, навсегда!»[465]
Цитированное письмо датировано 29 июля 1914 г., а десятью днями раньше, 19 июля, Германия объявила войну России. Парадоксальным образом война не разъединила, а вновь сблизила Брюсова с его возлюбленной. В августе Брюсов отправился на театр военных действий как корреспондент «Русских Ведомостей». Основным местом его пребывания до апреля 1915 г. включительно стала Варшава,[466] куда прибыла с ним и М. Вульфарт, ставшая на это время постоянной спутницей его жизни (в квартире в доме № 1 по Мазовецкой улице); Брюсов заехал за ней в Тальсен по дороге из Москвы (27 августа 1914 г. он надписал в Тальсене Фердинанду Вецвиэту 15-й том своего Полного собрания сочинений и переводов; эту надпись воспроизводит А. Приедитис в указанной выше статье). Более полугода совместного проживания в Варшаве (с учетом постоянных разъездов Брюсова по нуждам корреспондентской работы) оказались самой продолжительной, но и финальной стадией развития их отношений. После возвращения поэта в Москву последовала целая серия писем Вульфарт из Варшавы, в которых выражались надежды на новое соединение, а также сетования по поводу брюсовского недуга, о котором ей стало известно, – пристрастия к морфию (25 июня 1914 г.: «Это твоя погибель – ты это знаешь. К сожалению, и я знаю, что ты никогда этого не бросишь. Моя любовь тебе мало для этого. Пусть будет проклята та, которая тебя погубила.[467] Я помочь не в силах. Я знаю это. ‹…› Ведь я хочу, чтобы наша жизнь устроилась совсем по-другому. Я хочу жить, жить, но не смогу же я жить, видя тебя погибающим, этого я не могу, тогда лучше вместе. ‹…› Клянусь тебе, что я умру, если ты не бросишь»[468]). Последнее в 1915 г. письмо Вульфарт к Брюсову датировано 8-м июля, в нем она сообщала, что решила остаться в Варшаве (ее близкие родственники в том же году эвакуировались в Воронеж).
После этого Брюсов и Мария Вульфарт более никогда не встречались. Ее сестра Эрика Владимировна Вульфарт написала Брюсову из Воронежа 20 апреля 1916 г.: «…не знаете ли Вы кое-что про Маню» – и спрашивала ее адрес.[469] Среди писем Марии Вульфарт к Брюсову сохранилось присланное «Обществом польских евреев» (16 июля 1917 г.) сообщение о том, что она живет в Варшаве и ожидает денежной помощи; 8 августа 1917 г. Брюсов переправил через эту организацию для нее 100 рублей. Приводим в извлечениях последнее ее письмо к нему.
Варшава, 20-ого июня 1918.
Многоуважаемый г-н Брюсов!
Уже минуло 3 года с тех пор, как не имею известий от моих родителей, а также от родных и знакомых. Это очень печально и очень больно. Неужели Вы никак не могли мне несколько слов написать. ‹…› Сейчас нахожусь в больнице, ибо нервы мои ужасно страдают. ‹…› Умоляю Вас, Валерий Яковлевич, немедленно, если возможно телеграммой, сообщить, где все находятся, а также о себе. ‹…› Еще раз умоляю сообщить мне о судьбе моей матери, сестер и братьев. ‹…› Поймите, больше 4 лет быть совершенно одной. Это не так легко и просто, да еще не имея денег. Если кому-нибудь возможно, очень бы попросила, мне выслать немного денег. Ибо мне они нужны. Итак, надеюсь, Вы меня не оставите на произвол судьбы. Неужели Вы меня уже забыли. Но, может быть, Бог нам еще поможет сойтись, тогда мы поговорим. ‹…›
Ваша очень огорченная Марья Владимировна Вульфарт.[470]
Судя по этому призыву о помощи, М. Вульфарт тогда переживала настолько отчаянное положение, что уповала на заведомо неосуществимое – на способность Брюсова разыскать в разгар Гражданской войны ее близких родственников. Последнее, по всей видимости, известие о былой варшавской подруге пришло к Брюсову от ее сестры Эрики из Воронежа в письме от 2 января 1919 г.: «…недавно получили письмо от Мани из Варшавы. Она просила меня известить Вас об этом и прислать ей Ваш адрес ‹…› она, как видно, устроилась: служит в каком-то учреждении, продолжает заниматься музыкой (но, кажется, собирается к нам)».[471] Воспользовался ли Брюсов присланным ему варшавским адресом Марии Вульфарт, мы не знаем, как и не располагаем вполне достоверными сведениями о ее дальнейшей судьбе.[472]
Статьи
Эдгар По в Петербурге: Контуры легенды
В статье об Эдгаре По («Поэ (Edgar Allan Рое) – знаменитый американский поэт‹…›»), помещенной в 1898 г. в солиднейшем и эталонном по тем временам Энциклопедическом словаре за подписью З. В., подразумевавшей одного из лучших знатоков западных литератур XIX века З. А. Венгерову, содержится следующий фрагмент: «Изгнанный из унив. за бесчинства, П. поссорился с Аллэном из-за неуплаты последним его долгов и отправился в Европу с целью сражаться в рядах греков против Турции. Блуждания по Европе, без денег и друзей, были полны приключений и кончились тем, что П. очутился в Петербурге, слоняясь по кабакам и живя как бродяга и нищий. Его разыскал американский священник Миддльтон и помог ему вернуться в Америку, где П. помирился с Аллэном и на его счет поступил в военную академию».[473]
Все содержащиеся в приведенной цитате сведния о блужданиях по Европе великого американского писателя, как авторитетно утверждают ныне его биографы, не соответствуют действительности. Восходят они к самому Эдгару По, составившему в 1839 г. по просьбе Руфуса Гризволда краткий автобиографический «меморандум», в котором он, в частности, сообщал, что в юности «в донкихотском порыве бежал из дома без гроша в кармане, чтобы принять участие в борьбе греков, сражавшихся за свою свободу, и, не добравшись до Греции, попал в Россию, в Санкт-Петербург. Из затруднительного положения, в котором я там оказался, – продолжает По, – меня любезно выручил мистер Г. Миддлтон, американский консул в СПб»[474]. Эти биографические подробности были повторены Гризволдом в некрологе По, появившемся в газете «Нью-Йорк геральд трибьюн», в «мемуаре» о писателе, сочиненном тем же Гризволдом, и перекочевали в статью «Эдгар По» (1852) Шарля Бодлера, положившую начало европейской славе американского автора. Само собой разумеется, сообщения о его странствиях проникли и в русскую печать.[475]
В анонимной статье «Эдгард Поэ», появившейся в 1866 г. в «Заграничном Вестнике», в частности, сообщалось: «… игорные долги ссорят его (По. – А. Л.) с названным отцом, и молодой человек отплывает в Грецию на битву с турками. ‹…› Отправившись в Грецию, он очутился потом в С. – Петербурге, откуда, при содействии американского посланника Генри Мидлестона, вернулся в отчизну».[476] «Затруднительное положение», в котором якобы оказался юный Эдгар По во время своего пребывания в российской столице, порождало догадки и домыслы о том, какие именно затруднения испытал заезжий американец: возникали неведомо на чем основанные подробности, причем одни и те же соображения или утверждения у разных авторов преподносились то как сомнительные, то как сугубо достоверные сведения. В предисловии «От переводчика», предпосланном выполненному им переводу «Ворона» – первому переводу стихотворного произведения По на русский язык, – С. А. Андреевский писал об авторе: «Между событиями его жизни замечателен тот факт, что, будучи почти мальчиком, он вздумал принять участие в восстании греков. Об его приключениях на Востоке ничего, впрочем, неизвестно; но достоверно то, что он был задержан, за неимение паспорта, в Петербурге и вынужден был обратиться к защите американского посольства, чтобы избегнуть уголовной ответственности по русским законам».[477] Другой русский популяризатор американского писателя выражал сомнение в том, что в Грецию юный По не попал «по недостатку средств»: «…недостаток средств не помешал Эдгару прожить целый год в Европе и забраться затем к нам в Петербург», – и заключал: «Как бы то ни было, в 1829 году мы видим его в Петербурге, где он затеял какой-то скандал с полицией и, чтобы избегнуть ее кары, вынужден был обратиться к американскому консулу Генриху Мидльтону, который помог ему возвратиться на родину». «Вообще пребывание Эдгара Поэ в Европе и в Петербурге, – осторожничает далее повествователь, – до сих пор остается необъясненным во всех его биографиях, и хотя опубликование его писем за эту эпоху часто обещалось американскими журналистами, но до сих пор не было приведено в исполнение».[478] В энциклопедической статье Венгеровой, призванной по самому назначению своему опираться исключительно на достоверные сведения, фантазирование, однако, набирает высоту: американский дипломат преображается в милосердного священника, а сам Эдгар По – в обитателя петербургского городского дна (прямое следствие многочисленных свидетельств об алкоголизме По, активно муссировавшихся в писаниях о нем, а также сведений о загадочных предсмертных днях писателя: 3 октября 1849 г. он был подобран в Балтиморе на улице в неадекватном состоянии, в грязной и рваной одежде).
Биографическими разысканиями о писателе документально установлено, что Эдгар Аллан По жил в Европе (в Англии и Шотландии) только в детстве – в 1815–1820 гг. – и после этого пределов Нового Света не покидал. В мае 1827 г. в Бостоне, после ссоры с опекуном Джоном Алленом, отказавшим ему в материальном обеспечении, восемнадцатилетний По вступил добровольцем в армию под именем Эдгара А. Перри и затем служил в составе артиллерийской батареи в фортах Моултри (остров Салливана, Южная Каролина) и Монро (Виргиния), уволился из армии в апреле 1829 г. Именно эти два года солдатской службы, проведенные вдали от всех, с кем он раньше и позднее общался, были в авторском «меморандуме» поглощены путешествием в Европу; тем самым «темный» период в биографии поддавался освещению в том свете, какой казался писателю наиболее угодным. Механизм мифотворчества в данном случае вполне понятен: рутинная солдатчина, житейская проза в своем самом наглядном воплощении – удел, несовместимый с образом художника-творца высокого романтического склада, который культивировал в себе Эдгар По. Другое дело – устремление вослед Байрону, одному из поэтических кумиров юности, борцу за свободу Греции. Другое дело – служение «Музе Дальних Странствий», которое для автора «Повести о приключениях Артура Гордона Пима» всегда было волнующим и привлекательным, и в этом смысле воображаемое посещение далекого и неведомого Петербурга могло ассоциироваться с путешествиями по неизвестным морям и землям, которым Эдгар По принес в своем творчестве весомую дань. (Примечательно, что, согласно зафиксированным свидетельствам, во время армейской службы По писал письма своей приемной матери, на которых как обратный адрес был указан Санкт-Петербург:[479] похоже, что легенда о пребывании в столице Российской империи уже тогда зародилась в сознании будущего писателя.) Эдгар По принадлежал к тому роду художников, для которых мечты и вымысел могли обладать подлинно безусловной реальностью, большей, чем явленная действительность, и эта особенность творческой натуры становилась питательной почвой для обогащения собственной биографии плодами воображения: известно, что своему университетскому товарищу Томасу Боллингу По рассказывал о предпринятых им «заморских путешествиях», что в 1848 г., за год до смерти, он поведал Марии Луизе Шью о якобы совершенном им путешествии в Испанию (где был ранен на дуэли и выхожен некой шотландской дамой) и в Париж (где написал роман, изданный под именем Эжена Сю), и т. д.[480] Злоключения в Петербурге – из того же ряда; не исключено, впрочем, что в Петербурге некогда побывал старший брат писателя Генри, и Эдгар в своих фантазиях мог отталкиваться от его подлинных свидетельств.
Сочиняя свою статью для Энциклопедического словаря, З. А. Венгерова явно не была знакома с разысканиями, предпринятыми в последние к тому времени десятилетия исследователями Эдгара По, – в том числе с двухтомной биографией, написанной Джоном Инграмом (1880), – которые однозначно разрешили вопрос о пребывании писателя в Петербурге. Между тем в конце XIX века легенду дезавуировали и на страницах отечественных изданий. Одному из первых сборников русских переводов из Э. По была предпослана статья французского критика Эмиля Эннекена, в которой не подвергался сомнению факт отъезда писателя в Европу в июне 1827 г., но тем не менее утверждалось: «Относительно пребывания По по сю сторону океана ничего точного неизвестно. Говорят, По решил ехать в Грецию сражаться против турок. Но ничто не доказывает, что он осуществил свой план. <..> Что же касается до его приключения в С. – Петербурге, где он, по Гризвольду, был замешан в ссору с матросами, задержан русскими властями и при помощи американского консула возвращен на родину, то это чистая выдумка. Исследования, сделанные в консульских книгах, не открыли ничего подобного».[481]
В ряде последовавших сообщений о жизни Эдгара По, появившихся в русской печати, факт его отъезда в Европу по-прежнему не подвергался сомнению, но неизменно указывалось на скудость и неопределенность фактических сведений, а о Петербурге, как правило, осторожно умалчивалось. В 1895 г. вышли в свет два сборника переводов из Э. По, авторы которых, не сговариваясь, написали примерно одно и то же. Один из них, журналист Генрих Иосифович Клепацкий, известив о решении По «в связи с примером Байрона ‹…› покинуть Америку и ехать в Грецию – сражаться за свободу эллинов», заключал: «Что происходило с По в течение следующих восемнадцати месяцев, – вопрос, до настоящего времени невыясненный».[482] Другой переводчик, К. Д. Бальмонт, перифрастически утверждал, что По «в 1827 году уехал в Европу, чтобы принять участие в той освободительной войне, которая оказалась роковой для другого поэта, тогда уже достигшего своего зенита и приехавшего в Грецию умереть на поле битвы. Удалось ли Эдгару По осуществить свой план, неизвестно. Несколько лет он скитался по Европе, но где он был, что он делал, этого не знают его биографы».[483]
Библиограф Н. Н. Бахтин, выступавший под псевдонимом Н. Нович, факт европейского турне Эдгара По сомнению не подвергал, но отмечал, что «о его путешествиях и приключениях в Европе ничего достоверного не известно».[484] Анонимный автор биографического очерка об Эдгаре По обтекаемо касался вопроса об отъезде в Грецию в 1827 г. и европейских странствиях По, но вполне определенно заявлял относительно Петербурга: «По находился в отсутствии более года, но никогда не рассказывал о том, что было с ним за это время, но и не опровергал впоследствии рассказов, ходивших по этому поводу. Более или менее достоверно лишь то, что он доехал до Англии, а что было с ним далее – остается до сих пор неизвестным. Рассказ о том, что он попал в Петербург и здесь оказался замешанным в какую-то темную историю, из которой помог ему выпутаться американский посол, лишен всякого основания».[485] Наконец, Михаил Александрович Энгельгардт, наиболее деятельный – наряду с Бальмонтом – переводчик Эдгара По на русский язык, сумел вплотную подойти к истине. Полагая, как и многие другие, что «увлечение греческим освободительным движением заставило Эдгара бросить Америку и отправиться в Европу помогать грекам», Энгельгардт добавлял: «Кажется, впрочем, до Европы он не добрался, а поступил вследствие крайней нужды в солдаты под чужим именем. Рассказ о том, как он, в конце концов, очутился в Петербурге, без денег, без документов, в каких-то, по-видимому, неприятных отношениях к полиции и как из этого отчаянного положения выручил его американский посланник, доставивший ему возможность вернуться в Америку, – относится в действительности к его брату, моряку».[486]
Механизм мифотворчества, однако, продолжал исправно работать. Некий д-р Ч. Мостович в статье о По сообщил, что «американский Гофман» (именно так озаглавлена статья) отправился в Миссолунги (надо полагать, для того, чтобы сражаться плечом к плечу с Байроном: именно в этом греческом городе в 1824 г. закончил свои дни английский поэт), «но, узнав еще в дороге о внезапной кончине Байрона, Поэ остался в Европе и начал вести такой разгульный образ жизни, что, попав в Петербург, был, по ходатайству нашей администрации, выслан с. – американским посланником на родину».[487] Русский эпизод в очередной раз воссоздается в статье С. А. Торопова «Мрачный гений».[488] О том, что легенда была способна устоять под натиском непреложных фактов, свидетельствуют две краткие заметки об Эдгаре По, помещенные в журнале «Исторический Вестник». В первой из них, напечатанной в 1897 г., «темный» период в биографии писателя освещается посредством сообщения достоверных сведений: «… в действительности он поступил в солдаты и несколько времени был образцовым и замечательно трезвым рядовым, писавшим в свободное время стихи».[489] Во второй заметке, появившейся ровно десять лет спустя, однако, в очередной раз сообщается, что По «не попал в Грецию, а очутился в Петербурге, где, как всегда, вел жизнь разгульную и кончил тем, что был взят в полицию», – и далее вновь о помощи американского посланника.[490] Сообщение о «бесконечных скитаниях по всей Европе» содержится в статье, приуроченной к 100-летию со дня рождения Эдгара По,[491] а очередное упоминание о пребывании в Петербурге – в краткой биографической справке о писателе, уместившейся на одной странице малого формата.[492]
Жизнестойкость легенды о посещении Эдгаром По Петербурга объясняется, конечно, ее исключительной привлекательностью для российских почитателей гения американской словесности. Вполне откровенно в этом отношении высказался К. Д. Бальмонт – создавший своего рода культ Эдгара По в отечественной среде почитателей «нового искусства», называвший его величайшим из поэтов-символистов и переведший на русский язык полный корпус его произведений. О том, что «возвышающий обман» для Бальмонта, знакомого с основными и наиболее авторитетными биографическими трудами об Эдгаре По, был милее и предпочтительнее «тьмы низких истин», свидетельствует фрагмент из его фундаментального «Очерка жизни Эдгара По» (в 5-м томе Собрания сочинений писателя), касающийся именно «петербургского» эпизода:
«Восемнадцатилетний юноша, в смутном очерке, явил себя поэтом, и затем, в течение целого ряда лет, от 1827-го до 1833-го года, жизнь его, в описаниях биографов, принимает противоречивые лики, и мы не знаем, был или не был он в какой-то год этого пятилетия в Европе, куда он будто поехал сражаться за греков, как, достоверно, он хотел в 1831-м году сражаться против русских за поляков, – был ли он или не был в Марселе или ином французском приморском городе, – и не очутился ли он, как то рассказывают, и как рассказывал он сам, в Петербурге, где с ним произошло будто бы обычное осложнение на почве ночного кутежа, и лишь с помощью американского посла он избежал русской тюрьмы. Или он на самом деле, как уверяют другие, под вымышленным именем Эдгара Перри, просто-напросто служил в американской армии, укрывшись, таким образом, от докучных взоров? Одно вовсе не устраняет возможности другого, и если легенда, которую можно назвать Эдгар По на Невском проспекте, есть только легенда, как радостно для нас, его любящих, что эта легенда существует!»[493]
В подкрепление своего права довериться «легенде» Бальмонт указывает, что в биографии Эдгара По «промежуток времени между 1827-м годом и 1829-м ‹…› затянут неизвестностью или освещен указаниями, которые представляются недостоверными и неполно убедительными».[494] С сомнением относится русский поэт и к факту военной службы По под именем Эдгара Перри. Эти акценты в бальмонтовском биографическом очерке вызвали особую похвалу другого поэта-символиста, Вл. Пяста – рецензента 5-го тома Собрания сочинений По: «Бальмонт сознательно избегал в построении биографии всего легендарного и был даже более осторожен, чем другие, европейские и американские, биографы. ‹…› Так, в неисследованной полосе 1827 – 29 годов Бальмонт не помещает с уверенностью По в Европу, – но и против версии о его волонтерстве в американской армии он приводит весьма ядовитые аргументы. ‹…› Бальмонт указывает на несоответствие примет Эдгара Перри (под именем которого По, якобы, зачислился в армию) с приметами поэта».[495] Поощряя Бальмонта на словах за недоверие к «легендарному», Пяст в то же время солидаризируется с ним и в недоверии к документально установленному. И Бальмонту, и Пясту очень трудно согласиться с версией о солдатской службе По, лишающей «петербургскую» легенду каких-либо фактических оснований.
Привлекательность этой легенды – не только в том, что ее бытование пришлось на эпоху становления русского модернизма, когда Эдгар По, наряду с Шарлем Бодлером, Оскаром Уайльдом и некоторыми другими иностранными авторами, воспринимался как провозвестник новейших эстетических веяний, когда факт его посещения Петербурга – предполагаемый или только воображаемый – мог послужить символическим прообразом связи между предтечей символизма и его преемниками – русскими символистами. Думается, что в рассматриваемой коллизии не менее значимую роль играет и второй непременный компонент – собственно Петербург, со всей его определившейся к тому времени культурно-исторической и литературной мифологией. Петербург фантасмагорический, демонический, являющий, по словам Гоголя, «всё не в настоящем виде» («Невский проспект»), город-мираж, готовый рассеяться, город, в котором сосуществуют люди и тени, – все эти контуры петербургского мифа идеально резонируют с творческим миром Эдгара По, являющим собой «дворец воображения»: «Реальная жизнь, как она есть, стала казаться мне видением и не более как видением, зато безумнейшие фантазии теперь не только составляли смысл каждодневного моего бытия, а стали для меня поистине самим бытием, единственным и непреложным».[496] Эти откровения героя «Береники» определяют тот образный код, которому подчинены многие другие персонажи, рожденные сознанием американского писателя; по словам 3. А. Венгеровой, «вся эта толпа существ с тревожными взглядами, бледными судорожными лицами, эти мятущиеся души, живущие на грани безумия, создают в произведениях П<оэ> фантастический мир, где возможное и несуществующее сливаются в новый род чудесного <.. >».[497] Петербург «строгий» и «стройный», расчисленный, прямолинейный, выверенный по ранжиру – еще одна ипостась, резонирующая с Эдгаром По, создателем безукоризненно выстроенных «логических» рассказов и мастером, способным «самые исключительные внешние или психологические положения», по слову Достоевского,[498] развертывать в ясные, четко скомпонованные и интеллектуально выверенные сюжеты. «В самых фантастических рассказах, – отмечает та же Венгерова, – он наиболее трезв, наиболее виртуоз ‹…›. Творчество Поэ не бессознательное. Душа его полна мистических настроений, но, чтобы передать их, он пользуется всеми ресурсами своего холодного, острого, насмешливого ума, создает искусственные формы, наиболее отвечающие его намерениям, и никогда не дает стихийным элементам творчества выходить из-под сдерживающей власти рассудка».[499] Правомерно предположить, что в подсознании – а может быть, и в сознании – литераторов, очарованных легендой о пребывании Эдгара По в Петербурге, американский писатель («безумный Эдгар») и мифопоэтический Петербург представали как две индивидуальности, влекущиеся друг к другу, ощущающие глубинное родство и единую сущность своих натур.
Уже в пореволюционные годы немало способствовал оживлению легенды Вл. Пяст, поведавший в своей мемуарной книге (1929) о событии, происшедшем в дни Февральской революции: «… полицейские сожгли свой архив (заключавший, как мне удалось впоследствии узнать, между прочим, вещь сказочной ценности для истории мировой литературы – документ, подтверждающий истинность того, что стало считаться с XX века легендой: запись о задержании на улице в начале 30-х годов XIX века американского гражданина Эдгара Аллена По)».[500] Похоже, что для того, чтобы попытаться убедить в достоверности разоблаченной легенды, Пяст сочинил еще одну легенду. Сообщение о якобы сгоревшей «вещи сказочной ценности» не побудило исследователей скорректировать канву биографии Эдгара По (примечательно, что датировавшийся ранее 1827–1829 гг. период предполагаемого пребывания писателя в Старом Свете у Пяста сместился к началу 1830-х гг.), однако заинтересовало нескольких писателей и подвигло к беллетристическим экзерсисам.
Привыкший начинать свою творческую работу там, где кончается документ (хотя бы в данном случае и сгоревший), Юрий Тынянов задумал новеллу об Эдгаре По в Петербурге. Об этом неосуществленном замысле писателя сообщил Н. И. Харджиев, приведя устный рассказ Тынянова «по памяти»:
«В ночную ресторацию на Невском приходит Пушкин. За соседним столиком сидит большелобый юноша со странным взглядом, сверкающим и мглистым. Юноша пьет водку, бормочет английские стихи. У Пушкина возникает непреодолимое желание протянуть ему руку. Но юноша смотрит на незнакомца почти презрительно и произносит сквозь зубы:
– У вас негритянская синева под ногтями…
Таков финал “жестокого рассказа” о воображаемой встрече тридцатилетнего Пушкина с двадцатилетним Эдгаром По».[501]
Следы этого замысла, сохранившиеся в рабочих записях Тынянова, проанализированы Е. А. Тоддесом.[502] Предполагалось двойное заглавие задуманного произведения: «Чревовещатель Ваттуар (Э. По в Петербурге)» (подразумевался Александр Ваттемар, французский артист, мим и чревовещатель, гастролировавший в Петербурге в 1834 г. и общавшийся тогда с Пушкиным[503]). Судя по программе рассказа, основная сюжетная нить должна была развиваться по линии взаимоотношений По и Ваттуара. Программа, в частности, включает пункты: «Взгляд По на Петербург. ‹…› Разговор о России. “Красный кабак” – Пушкин, офицеры.[504] Разговор о женщинах, поэзии. По Ваттуару: “Скажите, что не понимаю”. Ленора Катенина. Пушкин приводит цитату из Шекспира. По поправляет etc. ‹…› Арест. Американский консул. Обратное путешествие. Ленора». В плане отражена «криминальная» составляющая исходного сюжета, но Тынянов счел уместным затронуть в нем и темы, непосредственно относящиеся к сфере его собственных историко-литературных изысканий (что справедливо отмечено Е. А. Тоддесом): «Ленора Катенина» – это баллада «Ольга» (1816), выполненное русифицированное переложение немецкой баллады Готфрида Августа Бюргера «Ленора», ранее переведенной Жуковским в другом стилевом регистре («Людмила», 1808). Полемика вокруг этих произведений, проанализированная Тыняновым в статье «Архаисты и Пушкин» (1926), и балладные образы из русской литературы начала XIX века должны были, по всей видимости, корреспондировать с мотивами творчества Эдгара По (Линор в стихотворении «Ворон», рассказ «Элеонора»).
Неизвестно, знал ли о намерении Тынянова познакомить Пушкина и Эдгара По Валентин Катаев, но персонаж его производственного романа «Время, вперед!» мистер Рай Руп, заезжий американец на советской стройке, «обнаружил выдающуюся эрудицию в области русской истории», чему дается следующее подтверждение (гл. 47):
«Он заметил, что некоторые поэмы Пушкина имеют нечто родственное новеллам Эдгара По. Это, конечно, несколько парадоксально, но вполне объяснимо. ‹…›
В свое время Эдгар По, будучи еще юношей, посетил на корабле Петербург. Говорят, что в одном из кабачков он встретился с Пушкиным. Они беседовали всю ночь за бутылкой вина. И великий американский поэт подарил великому русскому поэту сюжет для его прелестной поэмы “Медный всадник”».[505]
И в харджиевской записи устного рассказа Тынянова, и в приведенном у Катаева откровении американского эрудита время встречи Пушкина и Эдгара По – ночь. Видимо, для отечественных интерпретаторов образа американского писателя это время суток было по отношению к нему наиболее предпочтительным, соответствовало мрачному колориту, господствующему во множестве его произведений, оказывалось своего рода непременным атрибутом его творческого мира (ночь обозначается в первой строке самого знаменитого произведения По – «Ворон»). В ночное время разворачивается и действие рассказа Гайто Газданова «Авантюрист» (1930); перепечатав его, Л. Н. Чертков указал на приведенный выше фрагмент из «Встреч» Пяста как на исходный творческий импульс.[506] В рассказе описана случайная встреча в Петербурге светской дамы Анны Сергеевны с незнакомцем-иностранцем, который представляется как странствующий по свету без определенной цели авантюрист («Я не очень хорошо знаю, зачем я приехал в Россию. Но, во всяком случае, я буду искренне жалеть, что через несколько часов я ее покину ‹…›»[507]), американский поэт Эдгар Аллан По. Выступающий подобием Вечного Жида, «безумный Эдгар» в изображении Газданова заключает в себе характерные признаки собственных неврастенических персонажей, носителей трансформированного сознания (выражение его лица – «неуловимо ненормальное, почти сумасшедшее», сам герой признается: «…в глазах всех знающих меня я только бродяга и сумасшедший»[508]) – и вместе с тем он исполнен обаяния и величия вдохновенного гения. Красота внешнего облика и стиля поведения Эдгара По, постоянно отмечавшиеся его современниками, у Газданова несут отпечаток мертвенности («…он не похож на живого человека ‹…› изумительное совершенство этого лица, скорее, было бы свойственно статуе или картине»; «… точно тут ‹…› лежало застывшее тело с мертвым и прекрасным лицом»[509]) – и вместе с тем этому человеку, по случайности заблудившемуся среди живых и самых обыкновенных людей, доступно мучительное сверхчеловеческое знание: «Я слышу звон снега и слова, которые еще не произнесли, но сейчас произнесут; ‹…› я чувствую, как тяжелым облаком летит в воздухе война, о которой еще никто не думает; и, сидя в Лондоне, я слышу, как трещит и содрогается корабль, который сейчас пойдет ко дну в середине Тихого океана».[510] Созерцание Петербурга пробуждает в нем эсхатологические мысли – по аналогии со «странной, но навязчивой грезой» о Петербурге у Достоевского («Подросток», гл. 8, 1):[511] «…не думали ли вы, глядя вокруг себя ночью в Петербурге, ‹…› что конец мира, когда он наступит, будет очень похож на это? ‹…› наши потомки будут просто замерзать и вот так же глядеть на прекрасные здания, погруженные в белизну и звон снега, как мы с вами смотрим на это сейчас».[512] В видениях газдановского Эдгара По, которые предстают перед читателем в финале рассказа, «в приморском холодном тумане возникает гигантская фигура, держащая в руке пылающий факел»,[513] напоминая о загадочном образе, венчающем «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима»: «… нам преграждает путь поднявшаяся из моря высокая, гораздо выше любого обитателя нашей планеты, человеческая фигура в саване».[514]
И еще один российский эмигрант соблазнился той же легендой – поэт Борис Нарциссов, автор цикла «Эдгариана», входящего в его четвертую книгу стихов «Подъем» (1969). Стихотворение «Разговор» из этого цикла – вопрошание к тени американского писателя, которому волею судьбы было отказано в общении с двумя корифеями русской литературы, его современниками:
- Зачем, зачем тогда, в ненастный вечер,
- Вы с братом Вильямом, матросом,
- В Санкт-Петербурге не остались?
- Ну, хорошо, участок, протокол, –
- Но ведь Руси веселье тоже пити!
- Об этом бы не стоило и думать!
- А вы бы встретились тогда
- С веселым смуглолицым человеком
- (Вы хорошо французский знали).
- Его рассказ про Германа и Лизу
- Британцы поместили рядом с вашим,
- С коротким примечаньем перед текстом:
- «Два старых мастера живут вовеки…»
- Там был другой – корнет гвардейский –
- – Тот хорошо английский знал –
- А ужас он носил с собою в сердце…
- Вот эти бы вас поняли, как надо!
- Ведь, всё равно, потом в России
- Вы были, – скажем, точно дома…[515]
На Пяста как на первоисточник сюжета своего рассказа «Драгоценный груз» указывает в послесловии к нему Леонид Борисов: «Владимир Алексеевич Пяст незадолго до своей смерти (в 1940 году) говорил мне, автору этого рассказа, об Эдгаре По, о документе, погибшем во время пожара полицейского архива в 1917 году. Помнится, что он, Пяст, называл мне не тридцатые годы, а именно 1847 год, когда американец Эдгар Аллан По был ночным гостем Санкт-Петербурга‹…›».[516] Видимо, Пяст сумел поверить в легенду настолько беззаветно, что решил изменить ранее обнародованное им хронологическое указание и отважился отправить Эдгара По в Россию в последнюю пору его жизни, когда все перемещения писателя в пространстве были надежно документированы и вояж из Нового в Старый Свет невозможно было представить даже в виде гипотезы. В рассказе Борисова По отправляется в Петербург как корреспондент американского журнала, в пути читает другим пассажирам парохода «Улялюм» и «Ворона», попадает, как и его герой Пим, в шторм, и прибывает в ночной – непременно ночной – Петербург («В полном мраке вошли в Неву»[517]). Вместе с матросами с парохода По отправляется в какой-то подозрительный трактир, в хозяйке которого он узнает черты своей умершей жены Виргинии, затем бродит по ночному призрачному Петербургу («Вот он, Санкт-Петербург, ночной, непонятный, чудесный»[518]), обозревает Медного Всадника, пьет водку в воровской компании, подвергается ограблению и наконец попадает в полицейскую Казанскую часть. Далее – по изначальному сценарию легенды: на помощь писателю приходит американский торговый представитель, и наутро По отправляется на том же пароходе в обратный путь. Опытный беллетрист, автор биографических повествований об А. Грине, Ж. Верне, Р. Л. Стивенсоне и других знаменитостях, Борисов в данном случае не рискнул насытить псевдобиографический сюжет исторически достоверным материалом, вместо этого он распахнул перед взором Эдгара По мифопоэтический Петербург – погруженный в туманную мглу, в дождевой полумрак, кажущийся, мерцающий отблесками галлюцинирующего сознания героя.
Как известно, одним из произведений, насыщенных реминисценциями из Эдгара По, является «Лолита» (1955) Владимира Набокова – реминисценциями, сознательно выведенными автором на поверхность начиная с первой страницы текста, на которой упоминается имя американского писателя, и с имени Аннабеллы Ли (детской любви Гумберта Гумберта), указующего на стихотворение По «Аннабель Ли», и кончая главной сюжетной коллизией, соотносимой с женитьбой По на совсем юной Виргинии Клемм (об этом в «Лолите»: «Маленькой Вирджинии еще не стукнуло четырнадцать, когда ею овладел Эдгар»[519]). Дж. Д. Гроссман полагает, что Набоков «сочинил пародию на Эдгара По в образах героев “Лолиты”»;[520] многослойные аллюзии из По в этом романе не раз становились предметом анализа.[521] Нас в данном случае интересует лишь небольшой фрагмент, имеющий, возможно, определенное отношение к рассматриваемому сюжету. Следом за сообщением о женитьбе Эдгара на Вирджинии в «Лолите» говорится: «Воображаю. Провели медовый месяц в Санкт-Петербурге на западном побережье Флориды. “Мосье По-по”, как один из учеников Гумберта Гумберта в парижском лицее называл поэта Поэ».[522]
Разумеется, в Соединенных Штатах Америки имеется свой Санкт-Петербург, и не один (К. Проффер отмечает, что писатель здесь заменяет Петербург во Флориде Петербургом штата Виргиния, где на самом деле проходил медовый месяц, во избежание каламбурного соотнесения с именем молодой жены По).[523] Но для Набокова, надо полагать, упоминание названия его родного города в данном случае не могло не скрывать определенного подтекста, и, возможно, не только автобиографического. Не таит ли в себе оповещение о пребывании Эдгара По в американском Санкт-Петербурге ироническую реплику по поводу всего того, о чем шла речь выше? И не сигнализирует ли о том, что контуры прослеженной легенды были различимы автором «Лолиты», избранная им в русском варианте текста романа архаическая транслитерация фамилии писателя – еще бытовавшая в ту пору, когда юный тенишевец Набоков мог прочесть статью З. А. Венгеровой об американском писателе Поэ в энциклопедическом словаре Брокгауза – Ефрона?
Юрий Сидоров: На подступах к литературной жизни
В статье «То, чего не читают» (1913) В. Ф. Ходасевич указал на повсеместное читательское равнодушие к стихам: по его мнению, никто их не читает, ни плохих, ни хороших; не читают даже крупных поэтов, а «молодые, начинающие» вообще оказываются в самом безнадежном положении: «Их книги заранее обречены разойтись в том количестве, сколько знакомых у автора».[524] Ходасевич привел список из 25 «молодых, начинающих» авторов, в который вошли имена, ставшие со временем популярными и даже прославленными: А. Ахматова, В. Пяст, М. Шагинян, В. Шершеневич и др., – однако были в этом перечне поэты, известность которых действительно ограничивалась кругом их личных знакомых, с годами расширившимся лишь за счет профессиональных историков литературы и любителей книжных раритетов. Один из этих поэтов, упомянутых Ходасевичем, – Юрий Сидоров, скончавшийся в возрасте 21 года, едва достигнув совершеннолетия (по российским установлениям того времени).
Поэтические опыты Сидорова собраны в небольшом посмертном сборнике «Стихотворения», изданном год спустя после кончины автора тиражом 1000 экземпляров.[525] В редакционной преамбуле сообщалось: «Юрий Ананьевич Сидоров родился в Петербурге 13 ноября 1887 года. Тринадцати лет поступил он в третий класс Борисоглебской гимназии, из восьмого класса которой перевелся в город Калугу, где и закончил успешно свое среднее образование. Осенью 1906 года он был принят в Московский университет, на философское отделение историко-филологического факультета. 21-го января 1909 года Юрий Сидоров умер».[526] Стихотворным текстам Сидорова в сборнике предшествовали три небольшие вступительные статьи – Андрея Белого, Бориса Садовского и Сергея Соловьева, объединенные общим горестным чувством утраты даровитого юноши, не успевшего даже в малой мере воплотить свои творческие задатки. Андрей Белый восклицал: «… о, я знаю – он был бы большим поэтом: его юношеские опыты свидетельствуют о таланте; талант, вспыхнув, быстро и ярко в нем разгорался на наших глазах».[527]
При жизни Сидорова были напечатаны лишь два его стихотворения – в альманахе «Хризопрас» (в посмертный сборник они не были включены). В январе 1909 г. – видимо, в дни предсмертной болезни или сразу после кончины – увидел свет его первый критический опыт в высокопрестижной «Русской Мысли»: рецензия на книгу Георгия Чулкова «Покрывало Изиды» (К. Г. Локс в мемуарной книге передает с чужих слов реакцию Валерия Брюсова по прочтении этой рецензии: «Вот человек, который нам нужен»[528]). Журнал «Весы» в апрельском номере за 1909 г. представил покойного поэта своей аудитории подборкой из четырех стихотворений. За ней последовал упомянутый посмертный сборник, не оставшийся по выходе в свет незамеченным. В одном из откликов говорилось, что стихи Сидорова «производят хорошее впечатление»: «В них много хорошего литературного вкуса, изящества и музыкальности, и, чт особенно ценно, они оригинальны и не шаблонны. Но в них чувствуется иногда явная подражательность современным поэтам-модернистам (например, А. Блоку и В. Брюсову). Очевидно, что в лице Ю. Сидорова наша современная литература, столь бедная настоящими поэтами, потеряла крупное и серьезное дарование. Автор лежащей пред нами книжки дал литературе очень мало: он отцвел, не успев расцвести, но то, чт он успел дать, полно яркой и свежей талантливости. Его стихотворения запоминаются и охотно перечитываются».[529] Более сдержанным и осторожным в своих оценках был В. М. Волькенштейн: «Трудно судить, в каком направлении развивалось бы дарование молодого поэта. Большинство стихов, оставленных им, – красочные наброски, сделанные довольно свободно, но недостаточно прочувствованные, как-то недостаточно интимные для того, чтобы посторонний читатель мог судить о нем ‹…› все эти яркие эскизы еще лишены той силы художественного содержания, которая необходима для того, чтобы стихотворение волновало и запоминалось».[530] Наконец, Е. Л. Янтарев (Бернштейн) вообще отказывал поэтическим опусам Сидорова в каком-либо литературном значении и полагал, что друзья покойного без всяких оснований возвеличивают его имя: «Ю. Сидоров был самым обыкновенным юношей, очень начитанным, очень не глупым, с громадной любовью к искусству, литературе. Таких восторженно любящих литературу, начитанных и пишущих стихи юношей тысячи, и из их числа Сидоров ничем не выделялся. Совершенно неизвестно, конечно, что вышло бы из Сидорова впоследствии, и труднее всего судить об этом по его слабым, наивным и несовершенным стихам ‹…› стихи Сидорова из тех, какие пишут все начинающие поэты его лет и развития. Есть несколько удачных строк, есть два-три новых образа, но в общем все тускло, наивно, подчас по-детски напыщенно, подчас просто смешно. Есть влияния почти всех современных поэтов. И решительно нет ничего своего, подлинного, такого, что давало бы хотя отдаленное основание утверждать о будущем значении Сидорова».[531]
Валерий Брюсов, напротив, в своих оценках не проявил обычной для него критической суровости и нелицеприятности и даже согласился с доводами тех, кто высоко отзывался о покойных поэтах (сборник Сидорова он рецензировал параллельно со «Стихотворениями» В. Полякова, еще одного безвременно ушедшего автора): «Почти всегда в начинающем писателе гораздо больше сил потенциальных, которые чувствуются при непосредственном с ним общении, нежели возможностей осуществить свои замыслы. ‹…› Вот почему приходится доверять показаниям друзей двух умерших поэтов и стараться найти в оставленных ими “опытах” крупицы тех богатств, какие с ними погибли».[532] Содержание книги убедило Брюсова в том, что «потенциальные силы» у ее автора имелись и готовы были с большей выразительностью проявиться: «В стихах Сидорова много подражаний, но самые эти подражания свидетельствуют об исканиях, о желании учиться своему делу. И то там, то здесь среди строф и стихов, сделанных по чужому образцу, мелькают приемы самостоятельные, видны попытки создать свой язык. Отдельные стихи решительно хороши ‹…›».[533] «Потенциальные силы», таящиеся за стихами, «еще такими незрелыми, такими подражательными», почувствовал у Сидорова и Н. Гумилев: «… попадаются у него свои темы ‹…› уже намечаются основные колонны задуманного поэтического здания: Англия Вальтер Скотта, мистицизм Египта и скрытое горение Византии».[534]
Все рецензенты посмертного сборника Юрия Сидорова констатировали, в той или иной мере и с различными оценками, преобладание в нем подражательных, ученических опытов, выявлявших сугубую зависимость их автора главным образом от его старших современников – символистов. «Переимчивый» характер своего стихотворчества, видимо, вполне ясно осознавал и сам Сидоров. Три стихотворения в сборнике посвящены Андрею Белому и представляют собой вариации характерных для этого поэта лирических тем; в них слышны отзвуки и из первой книги стихов Белого «Золото в лазури»:
- Я в воздушном, возлюбленном храме,
- Я – услышавший тайную весть:
- «С нами свет просветляющий, с наи,
- Смертной ночи не будет и несть»
и из позднейших его стихов, объединенных в книгу «Пепел», увидевшую свет незадолго до смерти Сидорова:
- Только вихри, мятели и вьюги
- По пустынным, по снежным полям.
- В неизбежном, в безвыходном круге
- И несутся, и вьются… А там, –
- Там народ мой изверился в Бога,
- А единый оставшийся путь:
- Занесенная снегом дорога,
- Безнадежная смерть как-нибудь.
- Злое сталось с отчизной моею,
- Не видать ни земли, ни небес,
- Вьюга, вьюга несется над нею
- И смеется, и плачет, как бес.
Историко-мифологические мотивы и «экзотическая» образность, отличительные для поэтических миров Бальмонта и Брюсова, в стихах Сидорова также развиваются на свой лад: начинающий поэт, правда, не парит над всеми веками и народами, а избирает для себя одну, но мало освоенную русской поэзией сферу – Древний Египет. (Отсвет этих тяготений знакомые Сидорова замечали даже в его внешнем облике: «Окаменелое, желтое, безволосое, похожее на маску лицо египетского аскета оживлялось детской улыбкой»;[536] «Бритая голова и прекрасные темные глаза, какая-то глубокая не то что старость, а древность делали его действительно похожим на бюст современника Рамзеса или Аменхотепа. Он знал об этом и писал “египетские стихи”».[537]) Впрочем, и египетские мотивы в его творчестве обнаруживают ближайшие отголоски опять же в русской поэзии: «Псалом офитов», например, непосредственно соотносится с «Песней офитов» (1876) Вл. Соловьева. Специфически декадентские «диаболические» дерзновения также оставили свой след в стихах Сидорова; в посмертный сборник составители не рискнули включить его стихотворение «Каинит» (январь 1907 г.), которое привел Борис Садовской в своей книге «Ледоход» (имя Христа заменено в этой публикации точками):
- Осанна вам, Содом-Гоморра,
- Хвала, – ваш блуд святой велик;
- Тебе, под тенью сикомора
- … предавший ученик;
- Кто воссылал богохуленья,
- Как гимн, во имя крыльев зла,
- Всем, кто дерзнул на преступленье,
- Да будет вечная хвала.[538]
Урбанистические зарисовки Сидорова очевидным образом навеяны аналогичными опытами Брюсова. Первое стихотворение начинающего автора, появившееся в печати и еще очень далекое от художественного совершенства, но отразившее живые и подлинные эмоции, рожденные революционными днями 1905 г., представляется, с одной стороны, всецело зависимым от брюсовских «Грядущих гуннов» и, с другой – бросающим отсветы в будущее, предвосхищающим одические инвективы и образную ткань блоковских «Скифов»:
Наде Ц.
- Нам часто твердят, что новые варвары, мы;
- Хотим разорвать золотые листы
- Пергаментов древних; храм знанья,
- Культуры старинной, хотим мы зажечь, –
- Поэтому смертью ликует наш меч,
- Подняли мы наши огни.
- Пусть так, – я не стану скрывать,
- Мы клятву даем до конца разрушать;
- Но разве не ярче те песни, что меч наш поет,
- Чем старых писаний чернильный налет?
- И в факелах наших не солнце ль горит?
- Глаза ваши тусклые ядом слепит.
- Но мрамором строен ваш храм из колонн –
- Коробится там и гниет почерневший картон.
- Поверьте – не меньше, а больше, чем вы,
- Мы любим святого познанья цветы.
- Мы знаем – светильник из пламенных роз
- Откроет нам Бога, – явится Эрос.
- Припомните, мудрые, – варвары Бога нашли,
- Христос – этот варвар, крушитель устоев, преград,
- И мир содрогнулся, как бурей объят.
- И муки терпели от вас, но радостно шли.
- Затем им смиренно хвалу возносили
- Вы, черви могильные, им же потом говорили:
- «Рим должно разрушить, чтоб счастье найти,
- – Не правда ли, братья, ведь нужно идти?»
- Вы – мерзкие гады, – слепцы.
- О, вот почему, не боясь, я кричу:
- «Я – варвар, но миру я Бога найду».[539]
Отчетливо обозначаются в стихотворениях Сидорова «неоклассические» тенденции, характерные и для одновременно рождавшихся поэтических опытов его друзей – Бориса Садовского и Сергея Соловьева, и для авторов, с которыми он не был лично связан (например, для петербуржца Юрия Верховского). Сидоров ориентируется одновременно на «золотой век» русской поэзии, пушкинскую традицию, и на культуру XVIII века, стилизуя ее отличительные жанровые особенности; объект его лирических излияний выступает под условным – вполне в духе стилизуемой эпохи – именем Алины:
- Какая странная отрада
- В исходе лета, ясным днем
- Среди зеленых кленов сада
- Сидеть с Алиною вдвоем!
- И поцелуи снова сладки
- И так волнующе легки,
- Когда разыщется в перчатке
- Просвет белеющей руки.
- Глядеть на нити паутины,
- На золотые кружева,
- Приготовляя для Алины
- Признаний робкие слова!..
Реабилитация «вещного» мира, развоплощенного в «декадентско» – символистской мелодике и риторике, сказывающаяся в этих лирических экзерсисах («перчатка», увиденная на руке сидоровской Алины, скоро, благодаря Ахматовой, окажется одной из опознавательных примет новой поэтической образности), сближает юношу-стихотворца с теми его сверстниками, которые громко заявят о себе несколько лет спустя после его кончины. Показательно, что будущий теоретик акмеизма в своей рецензии на сборник Сидорова отметил с похвалой стихотворение «Олеография»,[541] свидетельствовавшее о еще одном определившемся увлечении автора – английской живописью XVIII века и прежде всего творчеством Томаса Гейнсборо:
- Верхом вдоль мельничной плотины,
- Спустив поводья, едет лорд:
- Фрак красный, белые лосины
- И краги черные ботфорт.
- А рядом в синей амазонке
- Милэди следует, склонив
- Свой стан затянутый и тонкий.
- Кругом ряды зеленых ив.[542]
Всего в посмертном сборнике Сидорова помещено немногим более пятидесяти стихотворений, сочинялись они, по всей вероятности, в последние два-три года его жизни – в пору, когда он, став студентом, обосновался в Москве и завел знакомства в кругу своих однокашников и одновременно начинающих литераторов. В стихах Сидорова налицо скрещение самых многообразных влияний и личных вкусовых пристрастий – но и в мироощущении его также поначалу отсутствует какая-либо определенность. Борис Садовской, познакомившийся с ним в октябре 1906 г., сообщает в очерке «Памяти Ю. А. Сидорова (Из личных воспоминаний)»: «До чего был еще молод и неустойчив тогда Юрий, явствует, между прочим, из того, что на неизбежный в известную пору жизни вопрос “како веруеши?” он объявил себя “мистическим анархистом”, – причем товарищ тут же упрекнул его за быстрое отступничество от социал-демократической доктрины. Впоследствии Юрий очень сердился, когда я в шутку называл его “мистическим анархистом”».[543] Увлечение «мистическим анархизмом» Георгия Чулкова миновало быстро, причем Сидоров счел необходимым наглядно продемонстрировать свое кардинально изменившееся отношение к этому идейному поветрию; в первом (и единственном) печатном критическом выступлении он подверг пристрастному анализу сборник статей Чулкова «Покрывало Изиды». Указав на преизбыток в книге прославленных имен, к которым постоянно апеллирует автор в своих построениях, Сидоров заключает: «… и имен множество, и мысли, так сказать, необычайны, а сам г. Г. Чулков представляется нам все неопределенней. Как бы именами этими не подчеркнул он себя, а зачеркнул и сделался безыменным. ‹…› Понятия и имена большого смысла и содержания, но нет ни малейшего права ни сочетать их так, ни так ими пользоваться ‹…›». Приведя многочисленные примеры терминологической путаницы и невнятицы в теоретических выкладках Чулкова, критик выносит свой вердикт: «Ни к чему не обязывают эти слова. Услышал он их, пустил как сплетню, и пошли они гулять по белу свету, создавая г. Чулкову славу и философа, и критика, и мистика. Если бы осознал г. Г. Чулков свой безудержный дилетантизм, если бы чему-либо определенному поучился, во что-либо определенное поверил, – не имели бы мы прежних книг Г. Чулкова, не имели бы и этой».[544]
В изобличении идейных построений Чулкова Сидоров всецело разделял ту критическую установку по отношению к «мистическому анархизму» и связанным с ним явлениям в литературе, которую последовательно проводили «Весы», главный печатный орган московских символистов. В «Весах» сотрудничали Садовской и Сергей Соловьев, первые его друзья из литературного мира, эпизодически выступал там и еще один товарищ по историко-филологическому факультету, филолог-классик Владимир Нилендер; через Соловьева Сидоров познакомился с ведущим «весовцем» Андреем Белым.[545] В то же время Сидоров отнюдь не солидаризировался с основной идейно-полемической тенденцией «Весов», направленной не только против «мистического анархизма», но и на защиту символистских эстетических канонов от каких-либо посягательств и переоценок (26 июня 1908 г. он писал Садовскому: «Академизм и классицизм, огражденность “Весов” не способствует нимало их всамделишному достоинству: что-то уж очень смахивают сии самые, кажется, привлекательные лозунги на объявление об импотенции или, хуже того, свидетельствуют о гниении трупа человека, умершего с голоду»[546]). В отношении к современной литературной ситуации у начинающего автора уже складывался вполне самостоятельный критический подход; первоначальный хаос разнонаправленных увлечений от месяца к месяцу (годами духовную эволюцию Сидорова измерять не приходится!) преодолевался, претворялся в более или менее устойчивую и осмысленную систему жизненных, идейных и эстетических приоритетов.
«Призраки Египта и Византии, неизменно владея его мыслями, уже не насыщали, как прежде, его испытующего ума: смутная потребность какого-то последнего синтеза неясно предчувствовалась его душой», – вспоминает об исканиях Сидорова, относимых к 1907 г., Б. Садовской.[547] Сергей Соловьев, ближе узнавший Сидорова год спустя, указывает на вполне к тому времени определившуюся доминанту его внутреннего мира, на обретенный «последний синтез»: «Тогда сложилось уже его миросозерцание, проникнутое духом византийского аскетизма. Раньше Сидоров прошел через увлечения современности, он был поклонником Бодлэра, его влекло к себе учение египетских офитов. Из этой школы он вынес верное понимание греха, евангельское отрицание мира. Любимыми писателями его были Гоголь и Константин Леонтьев. ‹…› Однажды я, исходя из фальшивой точки зрения на Франциска Ассизского, противопоставлял его якобы природное христианство византийскому аскетизму. Сидоров ‹…› оживленно воскликнул: “Что написал Франциск? Гимн солнцу! А Златоуст написал литургию!” Я признал себя побежденным».[548] При этом православная церковность сочеталась у Сидорова с тяготением к далекому от ортодоксальности «неохристианству» Мережковского: «На личности г. Мережковского были сосредоточены все надежды Юрия до самых последних месяцев его жизни. Надеждам этим суждено было окончиться глубоким разочарованием».[549] А уже совсем не ортодоксальный, но горячо любимый Сидоровым Шарль Бодлер сопрягался в его сознании с миром совсем иных ценностей: по свидетельству К. Локса, «как хорошо было бы перевести Бодлера на церковнославянский язык! – говорил Ю<рий> А<наньевич>, – как бы он зазвучал!»[550]
Ближе других знавший Сидорова Борис Садовской писал: «… видя Юрия то аскетом-подвижником, то гулякой праздным, то царепоклонником, то анархистом, – я неизменно выносил одно и то же впечатление: полной искренности каждого из этих движений, сразу и всецело овладевавших чуткой его душой».[551] Садовской способствовал первой публикации стихотворений Сидорова в сборнике «Хризопрас».[552] 21 февраля 1907 г. датировано шуточное «Послание Борису Садовскому при дарении ему фарфоровой безделушки» Сидорова:
- Благословят тебя все боги
- Египта и сам Озирис.[553]
- Прими подарок мой убогий,
- Прими, поэт «Весов» – Борис.
- Пусть небеса совьются в свиток,
- Пусть все погибнет дважды, bis.
- Но сетью прочных крепких ниток
- Да свяжет дар мой нас, Борис.
- Хоть красный нос, как гусь, имеет,
- Но не беда… Пренебреги.
- То кровь рубином в клюве рдеет
- Моей к тебе, моей любви.
- Фарфоровый сей белый лебедь, –
- Напоминанье пред тобой,
- Когда в предсмертной будешь мгле петь,
- О милый друг, как лебедь пой.[554]
По письмам Сидорова к Садовскому (отдельные фрагменты из которых последний опубликовал в своей книге «Ледоход») можно убедиться в том, что их автор поверял старшему другу свои самые сокровенные мысли и признания, свои сомнения в самом себе: «… тебе посвящаю лучшую часть своих дум, стремлений и желаний. Пусть они будут неразрывно связаны с твоим именем, любимый мой. Прими этот бедный все-таки, я не скрываю, дар мой и храни его так же, как я храню в своей памяти и сердце твой образ» (Москва, 31 марта 1908 г.).[555] Сидоров делится с Садовским впечатлениями от прочитанного, размышлениями о текущей литературной жизни и умственных исканиях, а также глубоко волнующими его личными проблемами: «Мое собственное творчество увядает с каждой минутой. Пишу в месяц по одному плохому стихотворению. Вероятно, эти неудачи и заставили меня усесться поплотней за философию. Я ведь прочно помню гёльдерлиновское изречение, что философия есть госпиталь для неудавшихся поэтов» (Москва, 21 марта 1908 г.); «Дорогой мой, ведь кровью пишу я. Этим жил, в этом искал, этому молился. И вовсе я не умнее и не проницательнее остальных. Но что же мне делать, когда ясно вижу я во всем только по-прежнему одну восторгающуюся чернь. Мне неприятно было, когла ты звал меня мистиком. Какой я мистик, – я студент И<мператорского> М<осковского> У<ниверситета>, фил<ологического> фак<ультета> фил<ософского> отделения, с неважными способностями и наивно без всяких глубин верующий по символу православной церкви. Только невыносимо больно, до тяжелых мужских, бессильных и злобных слез, когда убеждаюсь я в том, что самое святое и чистое, бисер души твоей разметан перед свиньями. ‹…› Да не претендую я на свое особое благородство и аристократизм, но знаю, что всегда все-таки различу parvenu в обществе и комильфотное и не ком<ильфотное> благодаря полученному воспитанию. ‹…› В последние дни в Москве я еще живей сознал свое невыносимое одиночество и беспомощность, когда встретился с здоровым и сильным Соловьевым. Ему просто как-то непонятно было, очевидно, что со мной, и невольно, конечно, подобно Белому, заставила меня эта встреча уйти в себя и замолчать» (Калуга, 26 июня 1908 г.). 4 августа 1908 г. из Калуги, по возвращении из Оптиной пустыни («Хорошо там, и многому научился я, и многое узрел»): «Плохо, друг. Начну разбираться в воспоминаниях, произведу смотр самому себе, кто, мол, виноват, что такой малосильный и слабенький, и больной парнишка из меня вышел, и прямо руки опускаются. Ну, конечно, женщины причиной. Уж очень любил и люблю я их, этих нежных дьяволов ‹…› думается, все же я недаром пушкинским воздухом подышал, жизненным, а не поэтическим воздухом. Немножко душа-то и воспиталась для сжигающей безнадежной страсти, т. е. подсохла попросту и сгорает вернее и скорее от ее тихого и неугасимого огня».[556]
Чувство отчужденности от окружающего мира и во многом также от современной литературной действительности, сказывающееся в письмах Сидорова к Садовскому, роднило обоих корреспондентов. Правомерно предположить, что именно Садовской, ко времени знакомства с Сидоровым уже вполне определившийся в своих консервативно-монархических идеалах и неприятии либеральных и радикальных взглядов, преобладавших в среде творческой интеллигенции, способствовал оформлению разнонаправленных и хаотических умонастроений своего молодого друга в более или менее определенную систему мировоззрения. К. Локс пишет о Сидорове: «… он был славянофил. Любил К. Леонтьева, считал себя православным, и как мы узнали после его смерти, готовился надеть священническую рясу. Все это у него сплеталось с обаянием настоящей культуры, которую нужно носить в крови и нельзя купить ни за какие деньги».[557] Укореняясь в своих идейных установках, Сидоров проявлял все большую нетерпимость к тому, что после потрясений 1905 г. открывала разворачивавшаяся у него на глазах панорама литературы и общественной мысли. В письме к Садовскому от 26 июня 1908 г. он огульно нарекает все новейшие идейно-эстетические веяния, вызывающие в России брожение умов, «протухшей пошлятиной»: «Ах, естественно, мне могут указать на Запад – смотрите, ведь и там не лучше и там то же самое происходит, однако там не волнуются и спокойно созерцают, что происходит. Но, во-первых, я еще не встречал человека, знающего, что такое совр<еменная> иностр<анная> литература (не Ведекинд же и Гурмон с Гилем) ‹…›, а во-вторых, нам, наследникам Пушкина и Гоголя, не след утешаться примером Запада. ‹…› После хамских прокламаций стали читать Арцебашевых <так!> и Сологубов ‹…›. После нелепой политической смуты – нелепая интеллектуальная. И раз находятся мистические религиозные и социологические защитники первой чепухи, найдутся апологеты второй. Эх, прискорбно, что нет Столыпина, Трепова, одним словом, “усмирителя от литературы”».[558]
Безотрадные впечатления от литературной современности Сидоров компенсировал обращенностью в прошлое – к русским классикам и полузабытым писателям ушедшей эпохи, к старым журналам консервативной направленности. «В здешней библиотеке, – писал он Садовскому из Калуги 12 апреля 1908 г., – я набрел на “Русское Обозрение” за семь лет с 90<-го> по 97<-й> ‹…› Ах, дорогой друг мой, сколь много там полезного, поучительного, важного и дельного. Раскрывая любой том, нахожу я дорогие имена Леонтьева, Победоносцева и Каткова с одной стороны, с другой Фета, Пушкина, К. Павловой и других. ‹…› Прибавь к этому Гёте, читаю я его в тихие вечерние часы, и Декарта, над которым бесплодно сижу второй месяц, и ты поймешь, что не только отбросы современной литературы: Арцыбашевы и tutti quanti, но (что греха таить) и корифеи ее, вроде Брюсова, В. Иванова, – покрылись для меня дымкою забвения, ушли в туман полузабытого прошлого. Там ярче и живей вижу я облики упомянутых гениев и талантов. Приготовил я тебе небольшой подарок ‹…›. А именно, у букиниста посчастливилось мне приобрести “Сочинения” А. Погорельского в 2-х томах, Смирдинское издание 53 г. ‹…› люблю его за робкие, но верные и простые краски, за прекрасный и бесхитростный язык, за яркую и странную фантастичность, в которой он следовал великому учителю своему Гофману (предмету моей большой и искренней любви) ‹…›».[559] Вместе с Сергеем Соловьевым Сидоров открывает еще одного любимого писателя, всецело принадлежащего канувшей в прошлое литературной эпохе, – Вальтера Скотта: «С лихорадочной поспешностью в последние дни жизни читает он романы Вальтера Скотта, чуть ли не по роману в день, очевидно ища в разумности и объективной красоте Вальтера Скотта оружие против обставшего его извне и изнутри хаоса».[560] Общий пассеизм мировидения отображался у Сидорова в гармонировавших с ним эстетических образцах.
Консервативные и ортодоксально-церковные тенденции, возобладавшие в сознании Сидорова в последние месяцы жизни, не успели найти достаточно внятного и последовательного отражения в его творчестве. Трудно по стихам Сидорова также составить хотя бы самое общее представление о той или о тех, кто вдохновлял его на лирические признания, адресованные условно-поэтической Алине. Некоторые его стихотворения посвящены Ольге Павловне Михайловой – с нею же, согласно сообщению в письме к Садовскому от 31 марта 1908 г., он переписывался в это время; в последнем письме к Садовскому от 2 января 1909 г. фигурирует некая Надежда Николаевна, жительница Москвы (она же – Надя в дневниковых записях Сидорова). Никакими сведениями об этих женщинах и о том, какую роль они сыграли в жизни Сидорова, мы не располагаем; ничего определенного, впрочем, нельзя сказать и о калужской жительнице Марии Феоктистовне Власовой, адресате нескольких писем Сидорова, относящихся ко второй половине 1908 г.[561] Письма эти, однако, весьма выразительно характеризуют личность, круг интересов и эпистолярную стилистику их автора, поэтому представляется не лишним привести два наиболее содержательных из них. Первое написано по возвращении в Москву из Калуги, где Сидоров проводил лето в родительском доме и, по всей вероятности, регулярно общался с М. Ф. Власовой:
Дорогая Мария!
Сейчас уже второй час ночи, я устал за весь свой долгий и утомительный городской день, но все же хочется побеседовать хоть и немного с Вами. За три месяца спокойной и уединенной относительно жизни в Калуге я успел отвыкнуть и позабыть Москву, и вот словно ураганом завертела меня, ошеломила меня и напугала она своими интересами, трамваями, людьми и шумами. Только теперь несколько начинаю разбираться в том пестром хаосе встреч, впечатлений и новостей, которыми приветствовал меня город. Пока так распределилось время. Утром в Университете два или три часа толкаюсь и занимаюсь всяческими казенно-учебными делами, потом с кем-либо из знакомых или один пускаюсь в странствование, коего пути и цели не поддаются определенным наименованиям. Тут и Caf Grce должно упомянуть, и музеи, из них меня особо порадовала Третьяковская галерея с драгоценными новинками, «Демон» Врубелевский из них в первую голову; синематографы, церкви и букинисты. У последних, а именно у своего знакомого, почтеннейшего Аф. Аф. Астапова, старика, лично близко известного В. Соловьеву, Л. Толстому, Достоевскому,[562] мне посчастливилось найти не имевшуюся у меня ранее брошюру К. Н. Леонтьева, как Вы знаете, моего ближнего любимца и учителя, книжку стихов несправедливо забытой поэтессы К. Павловой и прелестную гравюру с одной картины Генсборо. Вечерами или… впрочем, ей Богу, вечерами не могу вспомнить как я распоряжаюсь. Один совершенно не походит на другой. Два раза был в театре, и т<ак> к<ак> теперь здесь всякие Метерлинки, Д’Аннунцио и проч., то мне, спасаясь от них, пришлось побывать в балете и в оперетке. От балета я в упоении (видел «Коппелию»), и пушкинские стихи так и напрашиваются на язык.
- Одной ногой касаясь пола,
- Другою медленно кружит,
- И вдруг прыжок, и вдруг летит,
- Летит, как пух от уст Эола
- ……
- … амуры, черти, змеи
- На сцене скачут и шумят /ul>(«Евг<ений> Он<егин>»).[563]
Но не подумайте, следя за столь эпически хладнокровным повествованием, что я чувствую себя прекрасно. Я не могу и не хочу доверить письму неприятностей, обид и мучительных минут, пережитых мною в этот небольшой срок пребывания в новой обстановке. Лишь при нашей встрече, подобной бывшим при той близости, которая установилась между нами за последнее время, мог бы рассказать Вам, мой дорогой друг, кое-что из этой области больных и злых душевных состояний.
Пора бай, бай. Напишите мне, близкая, о себе, о думах своих, о своем самочувствии, о всем, о чем пожелается. Простите.
Ваш всем сердцем Юрий.
1908 г. 3-го сентября 1908 г. Москва.