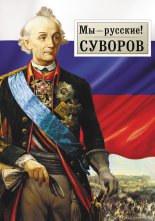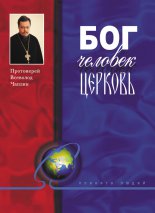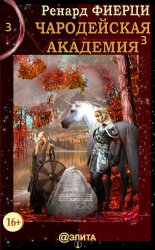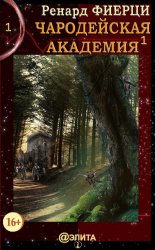Символисты и другие. Статьи. Разыскания. Публикации Лавров Александр
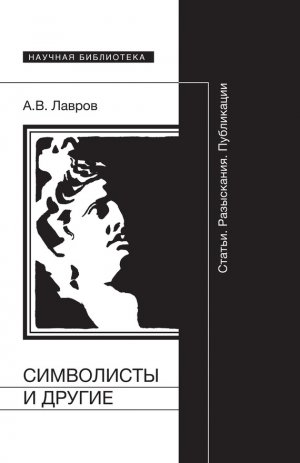
«Поствигилемусовский» период в истории «Мусагета» был отмечен лишь одним ярким событием, относящимся к сфере затронутых выше идейных контроверз. Решающим шагом в предпринятом Метнером наступательном движении стала изданная в «Мусагете» в 1914 г. его книга «Размышления о Гёте», представляющая собой последовательно критический разбор штейнеровских интерпретаций мировоззрения Гёте. Откликом на выход в свет «Размышлений о Гёте» явилась статья Эллиса «Теософия перед судом культуры», автор которой уже не ограничивался, как ранее в «Vigilemus!», нейтральными или умеренно порицательными характеристиками теософской и антропософской доктрин, а решительно поднимал свой голос против них. Статья, предназначавшаяся для «мусагетских» «Трудов и Дней», осталась ненапечатанной[1321] и надлежащего эффекта, который прогнозировал Эллис, заявивший в ней о своем негативном отношении к штейнерианству совершенно однозначно, не произвела. В последующие годы стремление противостоять антропософии как антихристианскому учению стало для Эллиса одной из доминант его идейных и духовных устремлений. А в 1917 г. в издательстве «Духовное Знание» вышла в свет книга Андрея Белого «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности» – ответ-отповедь Метнеру как автору «Размышлений о Гёте». Раскол в триумвирате былых учредителей «Мусагета» был определен окончательно.
Лейб Яффе и «Еврейская антология». К истории издания
В истории русской переводной литературы заметную роль сыграла инициатива основанного М. Горьким в 1915 г. петербургского издательства «Парус», одной из задач которого была подготовка «сборников по литературам племен, входящих в состав империи»; ответом на стимулированные Первой мировой войной настроения великодержавного национализма и формой противостояния им должны были послужить издания в русском переводе книг, представляющих словесное творчество народов, населяющих Россию.[1322] В мае 1916 г. увидела свет первая книга этой серии – «Сборник армянской литературы» под редакцией М. Горького (составленный при активном участии В. Брюсова, почти одновременно, в августе 1916 г., издавшего свою знаменитую антологию «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней в переводе русских поэтов»); за ней последовали «Сборник латышской литературы» (в июне 1917 г.) и «Сборник финляндской литературы» (в октябре 1917 г.) – обе книги под редакцией В. Брюсова и М. Горького. Планировались также сборники литератур грузинской, литовской, эстонской, украинской, татарской и еврейской; последний было намечено издать в двух томах, обязанности редактора поэтического раздела принял на себя Брюсов,[1323] который выполнил тогда переводы нескольких стихотворений Х. Н. Бялика. «Сборник еврейской литературы», подстрочные переводы для которого издательство «Парус» имело уже в феврале 1916 г., должен был выйти в свет зимой 1916–1917 г., однако это издание так и не состоялось.[1324] Вместо него увидела свет книга, во многом сходная по своим задачам, хотя и более узкая по тематическому диапазону и достаточно скромная по объему (если сопоставлять с неосуществленным двухтомником), – «Еврейская Антология. Сборник молодой еврейской поэзии под редакцией В. Ф. Ходасевича и Л. Б. Яффе» (М.: Сафрут, <1918>).
Как сообщалось в предисловии к сборнику, обязанности между редакторами распределялись следующим образом: «В. Ф. Ходасевичу принадлежит редакция самих переводов, как таковых», а «весь труд по составлению сборника (т. е. выбор авторов и отдельных произведений, а также расположение материала) выполнен Л. Б. Яффе»;[1325] последним были составлены также краткие биобиблиографические заметки о каждом авторе. Именно Яффе был инициатором этого издания, без его организаторских усилий оно не могло бы состояться. Яффе был и руководителем издательства «Сафрут», под маркой которого вышла «Еврейская Антология»; ранее в том же издательстве он опубликовал составленную им другую антологию – «У рек Вавилонских», – включавшую стихотворения на еврейские темы русских и иностранных поэтов, в том числе большое количество стихов еврейских поэтов в русском переводе (осуществленном в значительной части самим Яффе).[1326]
Лейб (Лев Борисович) Яффе (1875–1948) родился в Гродно в семье, происходившей от видного еврейского мыслителя XVI века Мордехая Яффе.[1327] Национальная еврейская тема с самых ранних лет стала основой для его самосознания и жизненного самоопределения. Уже в 1897 г., будучи студентом Гейдельбергского университета, он оказался одним из 197 участников Первого сионистского конгресса в Базеле,[1328] и задачи, сформулированные на этом учредительном форуме, явились для него стимулом во всей последующей многообразной деятельности. Еженедельная газета «Еврейская Жизнь», выходившая в Москве в 1915–1917 гг. при его ближайшем участии, помещала в каждом номере программный девиз: «Сионизм стремится создать для еврейского народа правоохраненное убежище в Палестине». Идея обретения Палестины, возрождения еврейства на исторической родине, восстановления в рассеянном по многим странам народе начал духовного единения и исторической преемственности, а также воскрешения и распространения исконного еврейского языка, языка Библии, стала для Яффе основополагающей идеей, пронизывающей все его творческие опыты в поэзии и публицистике. Писал он на иврите и по-русски, также переводил стихи с одного языка на другой. Первый его стихотворный сборник «Грядущее» включал раздел «Из новоеврейской поэзии», в который входили переводы из Л. О. Гордона, И. Л. Переца, Х. Н. Бялика, С. Черниховского и других поэтов. Открывался сборник исполненным пафоса стихотворением «Дома»:
- Уж больше нет силы сносить этот гнет,
- Позор и гоненье народа…
- Отчаянно сердце больное зовет:
- Исхода! исхода! исхода!
- Как узник, изведавший ужас тюрьмы,
- Оковы и рабскую долю, –
- Так жажду свободы, так рвусь я из тьмы
- На волю, на волю, на волю!..[1329]
Многие стихотворения Яффе навеяны «сионидами» классика средневековой еврейской поэзии Иегуды Галеви и даже обозначены как «подражание» ему – например, «Сион»:
- Плакать довольно мне: сердце истерзано;
- Нужно надеяться, ждать.
- Снова займется заря обновления,
- Будем опять ликовать.
- Будут левиты петь в храме торжественно,
- Прежнее счастье придет,
- Снова в Сионе величие Божие
- В дивной красе зацветет.[1330]
Тематически ориентированные на заветы и образы древней еврейской культуры, стихи Яффе были, однако, всецело выдержаны в традициях русской поэзии 1880-х гг., с характерными для нее надсоновскими мотивами и соответствующей поэтической фразеологией; в этом отношении они напоминали поэтические опыты другого весьма известного поэта конца XIX века, С. Г. Фруга, разрабатывавшего в надсоновской тональности ту же еврейскую национальную проблематику. Сказываются в поэтических опытах Яффе и другие влияния русских поэтов; в частности, без освоения Некрасова не могли бы быть написаны строки стихотворения «Еврейская школа в Палестине»:
- Так сейте ж разумное, доброе семя,
- Учители школы еврейской, родной!
- С любовью я к вам простираю объятья
- И шлю вам горячий и братский привет;
- Работайте бодро и радостно, братья,
- Пред вами далекий, но яркий рассвет![1331]
Задачей ознакомления современников с достопамятными страницами истории еврейского народа Яффе руководствовался, излагая на русском языке хроникальные повествования Германа Реккендорфа и Авраама-Шалона Фридберга.[1332] Он активно участвовал в сионистском движении,[1333] о чем свидетельствуют его многочисленные печатные выступления, неизменно подчиненные развитию одной и той же мысли и мечты – о грядущем возрождении еврейского народа на своей древней родине. Особенно активизировалась его публицистическая деятельность в дни Первой мировой войны. Именно тогда, по его убеждению, со всей очевидностью сказалось основное противоречие: «нет уголка в мировой культуре, на котором не лежала бы печать еврейского духа, на который не падал бы животворящий луч еврейского гения» – и вместе с тем «нет на земле народа слабее и беспомощнее еврейского народа ‹…› бесконечно жалка и ничтожна роль, которую наш народ играет в мире и в эти дни, в кровавой распре народов».[1334] Яффе писал о драматической ситуации в местах еврейской оседлости («Невообразимое поле сражения раскинулось там, где живет почти весь еврейский народ. По его бедным и шатким очагам, по его жалкому благосостоянию, накопленному горьким трудом, созданному слезами и кровью многих поколений, прошла растаптывающая, как нога прохожего муравейник, тяжелая, беспощадная и невидящая пята войны»[1335]), обрисовывал в цикле очерков картины жизни еврейских беженцев,[1336] взывал о помощи бедствующим еврейским переселенцам в Палестине: «В подобный момент палестинское еврейство должно стать предметом внимания и забот всего еврейского мира. ‹…› Он всеми силами должен охранять и лелеять каждый росток новой жизни в Палестине и дать палестинскому еврейству возможность провести свое дело до лучших дней ‹…›».[1337] Война только обострила уверенность Яффе в необходимости разрешения еврейской проблемы и удовлетворения «исторических притязаний на древнюю родину», равно как и усилила его оппозиционность по отношению к ассимиляционной идеологии «еврейских нотаблей и еврейских марксистов».[1338] Февральскую революцию он принял с энтузиазмом как обретение условий «для борьбы за осуществление нашей идеи»: «Входя в новую жизнь, приступая к новой работе для объединения и укрепления еврейства в возрожденной России, мы ни на миг не забываем о нашей конечной цели, о нашем историческом идеале».[1339] Убежденность и организаторская энергия Яффе были по достоинству оценены его единомышленниками: после смерти российского сионистского лидера Ефима Членова он был в феврале 1918 г. избран председателем Московской сионистской организации.
Контакты с известными русскими писателями установились у Яффе в предреволюционные годы, в пору, когда он сотрудничал в московском еженедельнике «Еврейская Жизнь» и возглавлял русско-еврейское издательство «Сафрут», выпустившее в 1917–1919 гг. ряд книг, имевших широкий общественный резонанс.[1340] В ранее опубликованных работах освещались завязавшиеся тогда отношения Яффе с Вячеславом Ивановым и Владиславом Ходасевичем.[1341] Общался Яффе в ту пору и с двумя другими крупнейшими поэтами эпохи – Валерием Брюсовым и Федором Сологубом. Примечательно, что он, поэтический выученик досимволистской поры, хотел видеть среди переводчиков современных еврейских поэтов на русский язык наиболее ярких представителей новейшей, модернистской формации.
Первой значительной культурной акцией, которую осуществил Яффе в содружестве с русскими писателями, была подготовка специального номера «Еврейской Жизни», приуроченного к 25-летию литературной деятельности крупнейшего еврейского поэта современности Хаима Нахмана Бялика. В открывавшей юбилейную подборку материалов вступительной статье Яффе патетически провозглашал: «Непонятным чудом, чем-то почти мистически-неожиданным было появление поэта такого роста и силы после многовекового перерыва в еврейской поэзии, когда временами казалось, что навеки замолкла песня Сиона на чужой земле».[1342] В сходной тональности были выдержаны статьи о Бялике М. Горького,[1343] Андрея Соболя, С. Черниховского, стихотворение в прозе С. Ан – ского (Ш. – З. Раппопорта) «Бялик», приветственное послание А. Куприна. В том же юбилейном номере были напечатаны посвященное Бялику стихотворение И. Бунина «Да исполнятся сроки» («– Почто, о Боже, столько лет…»)[1344] и стихотворные переводы из Бялика, выполненные самим Яффе, а также Вяч. Ивановым, В. Брюсовым и Ф. Сологубом. Обстоятельства подготовки «бяликовского» выпуска «Еврейской Жизни» проясняются в нескольких письмах Яффе к Брюсову;[1345] самое раннее из них:
20 II 1916.
Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич.
В ближайшие недели исполняется двадцатипятилетие литературной деятельности самого яркого представителя новоеврейской поэзии Х. Н. Бялика. Наша редакция намерена дать специальный нумер, посвященный характеристике и оценке поэта. Для нас было бы чрезвычайно важно и ценно, если бы Вы нашли возможным дать хотя бы небольшую статью о Бялике.
Особенно желательно было бы, если б Вы согласились помимо статьи дать нам несколько его стихотворений в Вашем переводе.
Зная Ваш глубокий интерес к поэзии всех стран и народов, позволяем себе надеяться, что Вы не откажете нам в этой просьбе.
С глубоким уважением
Л. Б. Яффе.
Ответ Брюсова был в принципе положительным, о чем можно судить по следующему письму Яффе к нему:
14 III 1916.
Многоуважаемый Валерий Яковлевич.
От души благодарю Вас за Ваш отклик. Я не ответил Вам немедленно, потому что уже несколько дней лежу больной.
Посылаю Вам три стихотворения Бялика с транскрипцией подлинника и дословным переводом.
Зная несколько Ваши переводы из армянской поэзии, я не сомневаюсь, что Вам удадутся и переводы с еврейского.
Помимо перевода мы бы очень просили Вас дать хотя бы небольшую статью в 50 – 100 строк о Бялике или по поводу Бялика (вроде Вашей рецензии[1346]).
Для нас очень важно, чтобы к этому празднеству еврейской поэзии проявилось отношение лучших представителей русской поэзии.
«Юбилейный №» выходит несколько позже, чем мы предполагали, и последний срок для сдачи материала – 25 марта.
Я через несколько дней надеюсь подняться и тогда позволю себе позвонить Вам.
С глубоким уважением
Л. Б. Яффе.
На просьбу о статье Брюсов не откликнулся, но перевел для юбилейной подборки стихотворение Бялика «Где ты?» («Из мест, где скрыта ты, о жизни свет единый…»).[1347] 24 марта 1916 г., предлагая Брюсову передать с подателем письма текст перевода, Яффе просил поэта и о профессиональной консультации: «Если Вас не затруднит, я бы позволил себе просить Вас прочесть прилагаемый перевод стихотворения Бялика и высказать Ваше мнение о нем. ‹…› Стих<отворение> дано для юбилейного №». Возможно, в данном случае имелся в виду перевод стихотворения «Al Ha’schchitah» («О резне», или «Над бойней»), выполненный Сологубом, который не во всех формулировках удовлетворял Яффе.[1348] 26 марта, высылая Брюсову корректуру стихотворения «Где ты?», Яффе просил его и о переводе стихотворения, уже переведенного Сологубом: «Может, найдете возможным прислать мне перевод стихотворения о резне. Это стих<отворение> меня очень интересует и хотелось бы видеть его перевод». Брюсов выполнил пожелание Яффе, и в результате в «бяликовской» подборке появились два перевода одного и того же стихотворения – «О милости, небо, проси для евреев…» (Сологуба) и «Для меня милосердий, о небо, потребуй!..» (Брюсова).[1349]
С просьбой написать о Бялике для «Еврейской Жизни» Яффе обратился 25 февраля и к М. О. Гершензону, с которым был знаком еще со студенческих лет (два ранних письма Яффе к нему относятся к лету 1897 г., когда они оба находились в Германии):[1350]
Помимо еврейских поэтов и писателей в юбилейном нумере примут участие некоторые лучшие представители русской литературы.
Для нас было бы чрезвычайно важно и ценно, если б Вы нашли возможным принять участие в этом нумере и дать нам хотя бы небольшую статью о Бялике.
С глубоким волнением читал я Вашу статью «Народ, испытуемый огнем».[1351]
Может быть, Вы еще помните молодого студента, который в Гейдельберге писал под Вашу диктовку и который затем посещал Вас во Франкфурте.
Гершензон представил в «Еврейскую Жизнь» статью о Бялике под заглавием «Ярмо и гений»,[1352] а также содействовал привлечению в юбилейный номер новых участников (11 марта 1916 г. он сообщал родным: «… я познакомил Яффе с Шестовым и Вяч. Ивановым, у которых он также хотел просить статей»[1353]). О ходе работы Яффе оповестил Гершензона в письме от 15 марта 1916 г. (в автографе описка в обозначении года: 1915):
Дорогой и многоуважаемый Михаил Осипович.
От души благодарен Вам за Вашу прекрасную статью о Бялике. Я не откликнулся и не поблагодарил Вас до сих пор, потому что я уже некоторое время болен, лежу.
Юбилейный № выйдет в последних числах марта, несколько позже, чем мы предполагали. Материал мало-помалу получается. Сегодня получил статью от М. Горького.[1354] В. Брюсов согласился дать нам перевод из Бялика. Послал ему несколько стихотворений, с транскрипцией оригинала и дословным переводом. Должен был посетить 12-го Вячеслава Иванова, но тогда уже лежал. На днях поднимусь и пойду к нему.
Лев Шестов был у меня в редакции. Результат разговора: он статьи не даст. Не умеет писать на публицистические темы, к тому же еврейские темы его слишком волнуют, когда он думает о них, и он не в состоянии писать об этом.
Когда поднимусь, посещу Вас, если позволите. Низкий поклон Вашей уважаемой супруге.
Жму Вашу руку
с глубоким уважением
Л. Б. Яффе.
Проведенная организаторская и редакторская работа послужила для Яффе непосредственным стимулом к воплощению более масштабного замысла – сборника стихотворений новейших еврейских поэтов в русских переводах. Два месяца спустя после выхода в свет «бяликовского» номера «Еврейской Жизни» он писал Гершензону уже о будущей «Еврейской Антологии»:
Многоуважаемый и дорогой Михаил Осипович.
Я очень извиняюсь, что до сих пор не сообщил Вам о ходе работ для сборника. Состояние моего здоровья было таково, что меня насильно оторвали от работы и услали отдохнуть и полечиться. Перед отъездом успел только побывать у Валерия Брюсова. Он охотно будет переводить для сборника. К Вячеславу Иванову, к сожалению, не успел заехать. Был бы Вам очень благодарен, если б Вы мне сообщили его адрес. Пока читаю еврейских поэтов, составляю подстрочники, списываюсь с авторами. У Валерия Брюсова я видел произведения новейшей евр<ейской> поэзии, которые должны войти в хрестоматию, издаваемую М. Горьким.[1355] Всего этих стих<отворений> – от Бялика и после него – около десяти. Из них – только одно, которое мне очень хотелось бы иметь в нашем сборнике – небольшая поэма Бялика.
Где проведете это лето?
Низко кланяюсь Вашей супруге.
С сердечным приветом и глубоким уважением
Л. Б. Яффе.
6 VI 1916.
Мой адрес до 15-го июня ст. Подсолнечная Никол<аевской> ж. д. Санаторий.
Яффе надеялся на всемерное участие Брюсова в новом своем начинании. «Я Вас очень прошу не отказать мне дать хотя бы несколько переводов для сборника новоеврейской поэзии, – писал он Брюсову 5 октября 1916 г., одновременно жалуясь, как и ранее Гершензону, на непрекращающиеся недуги. – Не могу себе представить, чтобы сборник мог быть выпущен без Вашего участия». Письмо застало Брюсова в сходном физическом состоянии (он болел с августа 1916 г.), о чем поэт сообщил Яффе в ответном послании:[1356]
9 окт<ября> 1916.
Многоуважаемый Лев Борисович!
Душевно жалею о Вашем нездоровьи, и сочувствие мое тем более живо, что и я лишь недавно вышел из стен лечебницы и на своем опыте изведал все тягости долгой болезни. Что до Вашего желания, то я очень рад был бы его выполнить, – если тому откроется возможность. После двух с половиною месяцев вынужденного, болезнью, «безделья», я теперь едва возвращаюсь к своим работам. Количество срочного дела, которое я обещал выполнить уже без малейшего медления, – прямо неимоверно. В сущности мне следовало бы сейчас работать беспрерывно, день и ночь, чтобы хоть сколько-нибудь исправить все, мною упущенное. Чувствую, однако, что я не имею нравственного права отнимать для какой-либо иной работы время, которое должен посвятить исполнению обещаний, ранее данных издателям и редакциям и, как мне известно, для них важным. Достаточно сказать, что моя болезнь на те же 2 мес<яца> задержала выход двух изданий «Паруса»,[1357] и т. под. Но все, что могу, я постараюсь для Вас сделать. Если Вы можете еще некоторое время не торопить меня, я через 3–4 недели, вероятно, смогу освободить себе столько досуга, чтобы перевести желаемые Вами стихи. Прошу извинить мне такой долгий срок, но сейчас, переводя ежедневно стихи финских поэтов,[1358] я прямо не в силах «настроить свою душу» так, чтобы взяться еще за перевод еврейских. Вы – тоже поэт, Вы тоже пишете стихи и поймете это мое объяснение.
Сердечно желаю Вам здоровья,
преданный Вам
Валерий Брюсов.
Предварительным договоренностям с Яффе Брюсов оказался верен: в «Еврейской Антологии» были опубликованы 7 стихотворений в его переводе, в том числе два перевода из Бялика (одно из стихотворений, «Где ты?», перепечатано из «Еврейской Жизни»), один из Саула Черниховского, один из Якова Кагана, два из Якова Фихмана и один из Р. Шоула (Шоула Ротблата).[1359]
О ходе работы по подготовке «Еврейской Антологии» дают определенное представление письма Яффе к Ф. Сологубу.[1360] Поскольку составитель издания проживал в Москве, а поэт-переводчик – в Петрограде, эпистолярные контакты между ними дают документальную основу для прояснения обстоятельств воплощения в жизнь этого замысла. Первое из этих писем Яффе, относящееся еще ко времени выхода в свет «бяликовского» номера «Еврейской Жизни», представляет собой отклик на запрос Сологуба (в письме от 5 апреля 1916 г.) об этом номере и дополнительную просьбу: «Мне было бы очень приятно, если бы Вы пожелали высылать мне Ваш журнал»:[1361]
8 IV 1916.
Глубокоуважаемый Федор Кузьмич.
От души благодарю Вас за Ваше стихотворение. Юбилейный № нашего журнала выслал Вам. Мы, конечно, с величайшим удовольствием будем высылать Вам наш журнал.
С глубоким уважением
Л. Б. Яффе.
Следующее письмо Яфе к Сологубу уже непосредственно касается замысла «Еврейской Антологии»:
8 VIII 1916.
Глубокоуважаемый Федор Кузьмич.
Позволяю себе обратиться к Вам с нижеследующей просьбой. Мы в ближайшем времени намерены приступить к изданию сборника стих<отворений> лучших еврейских поэтов в русском переводе. Предполагается в виде первого опыта дать стих<отворения> новейших евр<ейских> поэтов, начиная с Х. Н. Бялика. Сборник выйдет с предисловием М. О. Гершензона. К участию в нем мы приглашаем лучших представителей русской поэзии. Считая особенно важным и ценным Ваше участие в этом сборнике, просим Вас не отказать взять на себя некоторые переводы из Бялика и др<угих> евр<ейских> поэтов.
По получении от Вас ответа, вышлю Вам транскрипцию и подстрочный перевод некоторых стихотворений. Может, Вы бы нашли возможным указать, какого рода стих<отворения> Вам было бы желательно получить для перевода.
Позволяю себе надеяться, что и на этот раз мы встретим с Вашей стороны такое же отзывчивое отношение, как при первом обращении к Вам.
В ожидании Вашего ответа
С глубоким уважением
Л. Б. Яффе.
Ответ Сологуба был безусловно положительным, что выясняется из последующих писем Яффе к нему:
2 IX 1916.
Многоуважаемый Федор Кузьмич.
Я хворал несколько недель, поэтому не ответил сейчас же на Ваше письмо, за которое я Вам искренно благодарен.
Посылаю Вам два стихотворения Х. Н. Бялика с транскрипцией оригинала и подстрочным переводом. В ближайшие дни пришлю Вам небольшую поэму Бялика и несколько стихотв<орений> других поэтов.
Я забыл написать в предыдущем письме, что мы можем предложить гонорар 50 коп. со строки. Если разрешите воспользоваться некоторыми переводами для нашего журнала до их появления в сборнике, мы сможем предложить еще 25 коп. со строки.
Если Вас не затруднит, я бы просил Вас подтвердить получение письма и стихотворений.
С глубоким уважением
Л. Б. Яффе.
12 Х 1916.
Многоуважаемый Федор Кузьмич.
Очень извиняюсь, что не писал Вам и не послал стихов. Объясняется это тем, что я в последнее время часто и подолгу хвораю.
Как только оправлюсь, пришлю Вам другие стихотворения.
Если переводы из Бялика уже готовы, я бы очень просил Вас прислать их мне.
С глубоким уважением
<Л. Б. Яффе>[1362]
После этого в переписке Яффе и Сологуба образовался перерыв, длившийся более полугода. Осуществить издание «Еврейской Антологии» в предварительно намеченные сроки не удалось,[1363] и вновь за реализацию этого замысла Яффе взялся летом 1917 г., уже в новых исторических условиях, – и опять обратился к Сологубу:
6-го июня 1917 г.
Многоуважаемый Федор Кузьмич.
По причинам личного и общественного характера мне пришлось отложить издание «Еврейской антологии». Теперь снова приступаю к этой работе.
Позволяю себе просить Вас прислать переводы стих<отворений> Бялика, посланных Вам в прошлом году. Прошу также разрешить мне прислать Вам еще несколько стих<отворений> для перевода.
В ожидании Вашего ответа
С глубоким уважением
Л. Б. Яффе.
Более подробно о своих книгоиздательских планах Яффе писал в тот же день Гершензону: «Я в ближайшие дни освобождаюсь от “Еврейской Жизни”, приступил к своему издательскому делу. Очень прошу Вас, Михаил Осипович, прислать обещанную статью для первого сборника нашего издательства. ‹…› В этих сборниках, которые скорее всего будут книжками ежемесячника, будет меньше всего политики. Основная цель их – углубление в сущность еврейства, в ее проблемы. ‹…› Был бы Вам очень благодарен, если б Вы могли мне прислать статью к 10–15 июля. К концу августа хотим выпустить сборник».
Речь в этом письме идет об основанном Яффе в Москве издательстве «Сафрут» и о подготовке сборников этого издательства, которые, как оповещалось в редакционном предисловии, «будут посвящены обсуждению и углублению основных проблем еврейской национальной мысли, выяснению вопросов еврейской общественности и сионистского движения, а также ознакомлению с еврейской литературой и искусством».[1364] В письме к Гершензону от 3 августа 1917 г., вновь настойчиво призывая дать статью для первого сборника, Яффе сообщал о своих масштабных, несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства революционных дней, издательских проектах: «Невероятно трудно теперь печатать книги, но мы решились пойти на это. Нашли две типографии, купили вагон бумаги. Мы спешим, потому что чем дальше, тем труднее будет. Уже несколько лет нет серьезных книг в еврейской журналистике на русском языке. Постараемся хоть несколько восполнить этот пробел. Печатаются уже книги “Основные течения в евр<ейской> истории” М. М. Марголина, “Судьбы еврейского народа” Д. С. Пасманика,[1365] сборник национально-евр<ейских> мотивов в мировой поэзии.[1366] Готовим к печатанию в первую очередь первую книгу наших сборников, затем рассказы Бялика,[1367] том избранных статей Ахад-Гаама,[1368] Плач Иеремии Эфроса[1369] и т. д.». Статью для сборника «Сафрут» Гершензон так и не представил, но свое сочувствие издательским начинаниям Яффе проявил иначе – написанием предисловия к «Еврейской Антологии», в котором расценивал новую еврейскую поэзию как значительное событие, свидетельствующее о выходе из духовного гетто и обретении гордого национального самосознания.
С лета 1917 г. работа Яффе над «Еврейской Антологией» протекала в тесном содружестве с Вл. Ходасевичем, который (согласно его свидетельству в статье «Бялик», 1934) занимался распределением материала между переводчиками.[1370] Письмо Ходасевича к Сологубу, отправленное в усадьбу Набатовой Княжнино (близ Костромы), где писатель жил летом и ранней осенью 1917 г., посвящено той же теме, что и приведенные выше письма Яффе; получено оно, по всей вероятности, 18 августа 1917 г. (предположительная датировка полустертого почтового штемпеля):[1371]
Глубокоуважаемый Федор Кузьмич,
еще прошлой осенью Вы дали Л. Б. Яффе любезное свое согласие перевести несколько стихотворений для «Еврейской антологии». В настоящее время Л. Б. Яффе решил с изданием книги поторопиться. Редакция переводов поручена мне, – и Вы, конечно, понимаете, в какой степени Ваше активное участие в Сборнике было бы мне радостно. Так вот, если посланные Вам 2 стихотворения Бялика уже переведены, – то не будете ли добры прислать их мне. Не согласитесь ли также перевести еще что-нибудь? Если да, то я немедленно вышлю Вам подстрочные переводы.
Если стихи еще не переведены, то, быть может, Вы бы не отказались перевести их в ближайшем будущем.
Так как почтовые операции там, где Вы живете, кажется, не совсем просты, то не сообщите ли, каким образом, получив стихи, я должен Вам переслать гонорар. (Он, кстати сказать, повышен до 75 коп. за строчку).
Вас глубоко уважающий
Владислав Ходасевич.
Мой адрес: Москва, Плющиха, 7-й Ростовский пер., д. 11, кв. 24, Владиславу Фелициановичу Ходасевичу.
Переписку с Сологубом на эту тему продолжал и сам Яффе. Очередное его письмо было адресовано в ту же костромскую усадьбу и переправлено оттуда по петербургскому адресу Сологуба:
11 Х 1917.
Многоуважаемый Федор Кузьмич.
Выражаю Вам искреннюю благодарность за присланные Вами переводы. На днях вышлем Вам несколько новых подстрочников. Сборник сдается уже в набор и к началу весны он будет готов.
Выслал Вам в счет Вашего гонорара сто рублей в костромское отд<еление> Волжско-Камского Коммерческого банка, текущий счет № 452.
С глубоким уважением
Л. Б. Яффе.
Новинский бульвар, Проточный пер., д. 10, кв. 19.[1372]
Следующее письмо Яффе к Сологубу отослано полтора месяца спустя:
29 XI 1917.
Многоуважаемый Федор Кузьмич.
Посылаю Вам еще два стихотворения. По-еврейски они красивы и музыкальны. Уверен, что Вы им придадите ту же музыкальность и по-русски.[1373]
Не откажите разрешить мне воспользоваться одним из Ваших переводов стих<отворений> Бялика для литературно-художественного сборника, который будет выпущен нашим издательством до выхода в свет антологии.[1374]
За ответ Вам заранее благодарен,
искренно уважающий Вас
Л. Б. Яффе.
Около месяца т<ому> н<азад> послал Вам в Кострому сто руб. Не знаю, получены ли Вами эти деньги.
И, наконец, последнее письмо относится к завершающей стадии работы над Антологией:
23 I 1918.
Многоуважаемый Федор Кузьмич.
Если перевод стихотворения Каценельсона Вами еще не выслан, очень просил бы его выслать возможно скорее, т<ак> к<ак> сборник заканчивается печатанием и мы сдали уже весь материал.
В ожидании Вашего ответа
Заранее Вам благодарный
с истинным уважением
Л. Б. Яффе.
«Еврейская Антология», включавшая стихотворные переводы из 15 поэтов, вышла в свет в начале июля 1918 г., за первым последовало второе издание, а в 1922 г. в Берлине появилось ее третье издание, – что очевидным образом свидетельствовало об успехе книги, сумевшей вызвать живой читательский интерес даже в отнюдь не самые благополучные времена. По приведенным письмам Яффе может создаться впечатление, что Сологуб как переводчик принял в подготовке сборника весьма активное участие. Между тем в него вошли всего два переведенных им стихотворения – «Так будет, – найдете вы…» Бялика и «В пламя солнце погрузилось…» Ицхака Каценельсона.[1375] Гораздо более представительным оказался вклад в «Еврейскую Антологию», помимо Брюсова, также Вяч. Иванова, Ю. Балтрушайтиса, Вл. Ходасевича, Вл. Жаботинского. В книгу вошли переводы Ю. Н. Верховского, С. Я. Маршака,[1376] Амари, О. Б. Румера, самого Яффе и молодых по тем временам поэтов-переводчиков – К. А. Липскерова, П. Н. Беркова[1377] и др.
После появления «Еврейской Антологии» издательская деятельность Яффе в Москве пошла на спад – неизбежный в условиях всеобщей разрухи и большевистского хозяйствования. Воодушевление, стимулированное февралем 1917 г., сменилось у руководителя «Сафрута» совсем иными настроениями: «… снова сгустились над нами зловещие тучи ‹…› бесчисленные новые имена вписываются в синодик еврейского мученичества», – и в этих условиях «еще ярче, чем всегда, горит в нашей душе наша единственная радость, наше единственное утешение – Палестина».[1378]
В сентябре 1918 г. Яффе уехал из Москвы в родное Гродно, откуда вскоре перебрался в Вильну, где, редактируя ежедневную газету на идише, прожил около года и прошел через тяжкие испытания.[1379] На рубеже 1919–1920 гг. Яффе переселился в Палестину, обосновался в Иерусалиме. 8 января 1922 г. он писал Гершензону: «Мы здоровы. Работаем тяжело. Много забот личных и общественных. Недавно провел несколько месяцев в Европе. Заехал в Гродно – повидаться со старушкой матерью – и в Вильну. Был по делу в Германии и Англии. Жизнь там легче и привольнее, но не променял бы на нее все наши тревоги и заботы».
С той поры жизнь и литературно-общественная деятельность составителя «Еврейской Антологии» были всецело связаны с исторической родиной – Палестиной. Там его и настигла смерть – 11 марта 1948 г. в Иерусалиме, от взрыва бомбы, подложенной арабскими террористами в здание Основного фонда, председателем которого он был.
Автобиографии А. А. Кондратьева
А. А. Кондратьев скончался в Америке (в штате Нью-Йорк) в преклонном возрасте в 1967 г., на много десятилетий пережив ту негромкую и весьма локальную известность, которой пользовались его стихи и проза в 1900 – 1910-е гг. Первый шаг к воскрешению писателя из забвения предпринял два года спустя Г. П. Струве, опубликовавший довольно большую подборку писем, дававших вполне отчетливое представление о личности Кондратьева и о его жизни и деятельности в пореволюционный период.[1380] В последующие годы в России и за рубежом была продолжена публикация эпистолярного наследия Кондратьева,[1381] появились обобщающая энциклопедическая статья о писателе[1382] и сборники его поэзии и художественной прозы;[1383] наконец, вышла в свет книга о Кондратьеве В. Н. Топорова, в которой творческие опыты писателя рассматривались как последовательное воплощение «неомифологизма», чрезвычайно характерного для русской литературы, изобразительного искусства и музыки начала XX века.[1384]
Монография В. Н. Топорова включает и обзор большого количества архивных документов – с пространными цитатами, – оказавшихся в поле зрения исследователя («Эпистолярное и поэтическое наследие А. А. Кондратьева (по материалам Рукописного отдела Государственной Публичной Библиотеки)»). Задача собирания и публикации рукописей, имеющих отношение к творческому пути и литературным связям Кондратьева, тем более значима, что архив писателя – безусловно, содержавший множество ценнейших документов, включая многочисленные письма к нему (А. Блока, В. Брюсова, Ф. Сологуба, И. Ф. Анненского, Б. А. Садовского, М. А. Кузмина и т. д.), мемуарные очерки и заметки Кондратьева (частично опубликованные в редчайших изданиях 1920 – 1930-х гг., частично остававшиеся в рукописи),[1385] – погиб: остался без присмотра в Ровно, занятом в 1939 г. советскими войсками. Источником сведений о Кондратьеве остаются его письма и рукописные материалы, отложившиеся в архивах других лиц.
При этом доля «рукописного» творчества в общем объеме сочиненного Кондратьевым весьма велика. Писатель с осознанными, и рачительно охраняемыми, «архаическими» литературно-бытовыми привычками и предпочтениями, он считал насущнейшей потребностью прежде всего самовыражение и свободное общение, а не жесткие нормативы текущей и спешной литературной деятельности. В письмах он старался быть щедрым на слово и обстоятельным – явно убежденный в том, что выходящий из-под его пера эпистолярный текст не только несет в себе конкретную утилитарную информацию, сообщаемую в определенный день определенному лицу, но и исполнен более широкого историко-культурного содержания. «Замечали ли Вы, изучая писателей двадцатых и тридцатых годов, как хорошо и пространно писали они письма? – спрашивал Кондратьев Б. А. Садовского в письме от 24 марта 1915 г. – Теперь, к сожалению, времена уж не те. Литератор вместо письма перешел на открытку. Каждая написанная им и не оплаченная строка кажется ему пятиалтынным, убегающим из кармана. Не будем стараться быть современными в этом отношении».[1386]
Тщательность, доскональность, внимание к подробностям, присущие «рукописному» творчеству Кондратьева, отчасти объясняются и самоосознанием того места в писательской среде, которое он занимал и которое во многом сам для себя определил – всемерно отклоняясь от литературного «центра» и последовательно отдавая предпочтение литературной «периферии» (В. Н. Топоров пишет в этой связи о Кондратьеве как о человеке, занимающем «некую “среднюю” позицию, периферийную (тем не менее) по отношению к тому, что было высшими достижениями эпохи в разных ее проявлениях (литература, искусство, религия, идеи общего характера, моды, вкусы, modi vivendi и т. п.)», о сознательности этого «среднего» выбора).[1387] Характерен преобладающий интерес Кондратьева в его историко-литературных и биографических штудиях к литераторам второстепенным, «забытым» или вообще никогда не пользовавшимся широкой известностью, даже к литераторам-дилетантам (Н. Ф. Щербине, А. И. Подолинскому, Авдотье Глинке, Ф. А. Туманскому, Панкратию Сумарокову и др.): «маргинальные» фигуры из прошлого оказывались предметом особого тяготения для писателя, избравшего для себя маргинальное место в литературном настоящем. Историк литературы Кондратьев ясно осознавал, что для таких авторов, обычно обделенных вниманием потомков, наличие архивных документов и их оснащенность биографическими фактами – главное и непременное условие сохранения от окончательного забвения. Подробность, детализованность, библиографическая точность характерны для кратких автобиографий Кондратьева – в том числе и для тех, которые сосредоточены в Рукописном отделе Пушкинского Дома.[1388]
Первая по времени составления автобиография хранится в архиве Петра Васильевича Быкова (1844–1930) – поэта, прозаика, историка литературы, библиофила, с которым Кондратьев общался на протяжении ряда лет и делился своими историко-литературными разысканиями;[1389] автобиография предназначалась для «Словаря русских писателей», составлением которого Быков занимался долгие годы, но так и не довел работу до конца. Текст приводится по автографу.[1390]
Родился 11 мая 1876 г. в Петербурге. Отец был чиновником и служил в Типографии при Канцелярии Государственного Совета. Учился и кончил курс в 8-ой СПБ. гимназии, где директорами при мне были: Я. Мор, Инн. Анненский и К. В. Фохт. О всех трех я сохранил лучшие воспоминания. Любовью к античному миру я обязан Иннокентию Федоровичу Анненскому, переводившему на русский язык Эврипидовские трагедии и потом нам их читавшему. Одна из переведенных им трагедий была даже разыграна гимназистами.[1391] Я всегда питал органическое отвращение к математике (несмотря на то, что преподавателем ее был человек, которого я глубоко уважал и любил)[1392] и не ладил с грамматикой древних языков. Почти не способен к отвлеченному мышлению. В Университет поступил осенью 1897 г., по желанию отца, на Юридический Факультет. Очень жалею, что не удалось побыть на историко-филологическом. Сдал государственные экзамены весною 1902 г. и в том же году, осенью, поступил на службу в Управление Железных Дорог М<инистерства> П<утей> С<ообщения>. Стихи начал писать в старших классах гимназии, подражая товарищам, но первые, самостоятельные, попытки относятся к самому раннему детству. В юные годы, не умея еще читать, очень любил декламировать пушкинскую «Полтаву». Затем любимым моим автором стал Алексей Толстой. Первое стихотворение мое было напечатано в 1899 г. А. К. Шеллером в «Живоп<исном> Обозрении».[1393] Шеллер относился к моим первым опытам весьма снисходительно и печатал, по доброте сердечной, вещи довольно слабые, потом хотя и переделанные, но не все вошедшие в Сборник моих стихотворений.[1394] Так же снисходительно ко мне относилась и «Петерб<ургская> Жизнь», где я с того же 1899 г. стал помещать свои стихи. К 1899 г. относится и начало моего сотрудничества в журнале «Шут» (стихотворения «Из античного мира», иллюстрировавшиеся талантливым художником Як. Як. Бельзеном).[1395] Помещал свои стихи и небольшие рассказы в «России», в «Звезде» («Лебеди Аполлона»),[1396] в «Детском Отдыхе», в «Новой Иллюстрации» (приложение к «Бирж<евым> Ведомостям»), «Севере», «Почтальоне» (мифологическая повесть «Пирифой»),[1397] «Беседе», в «Слове», в «Литературно-Художественном Сборнике студентов СПб. Университета» (издан в 1903 г. под редакцией приват-доцента Б. В. Никольского).[1398] Сотрудничал в «Новом Пути» (между прочим рассказ «Белый Козел» и «Материалы к биографии Алексея Толстого»),[1399] вальманахах «Гриф» (рассказ «Иксион»).[1400] Из ненапечатанных вещей упомяну повесть «Фамирид»[1401] и заканчиваемый в настоящее время роман «Сатиресса».[1402]
Сборник, в котором я поместил большую часть напечатанных и несколько не напечатанных стихотворений, выпущен мною в мае 1903 г. и встречен критикой, за немногими исключениями, сочувственно. Наиболее содержательными благоприятными рецензиями были П. В. Быкова («Слово», прилож<ение> к № 159 за 1905 г.) и Б. Вл. Никольского («Московск<ие> Ведом<ости>», № 149 за 1905 г. Вышла затем отдельной брошюрой под заглавием «Заколдованный Талант»). Из отрицательных рецензий следует упомянуть Вал. Брюсова («Весы» № 7, 1905 г.).[1403]
Должен, в заключение, признаться, что стихи даются мне не легко; пишу я их медленно и очень мало. Легче всего они писались в Италии, которую я посетил летом 1904 года.[1404]
Ал. Кондратьев.
9 февраля <19 >06 г.
Восемь лет спустя Кондратьев составил другой текст автобиографии – на этот раз по заказу С. А. Венгерова, собиравшего материалы для своего Словаря русских писателей и ученых.[1405] Автобиография хранится вместе с сопроводительным письмом Кондратьева Венгерову:[1406]
Ст. Поповка Николаевской ж. д.; поселок Подобедовка. Большой просп., дача Кондратьевых.
6. VII. 1914.
Милостивый Государь Семен Афанасьевич.
Отвечаю не тотчас же на Ваш запрос, т<ак> к<ак> живу на даче и лишь вчера получил адресованное мне на городскую квартиру Ваше письмо. Т<ак> к<ак> архив мой теперь не при мне, то я посылаю Вам лишь краткие сведения о себе и написанном мною (опуская журнальные и газетные статьи).
Примите уверение, глубокоуважаемый профессор, в моем совершенном почтении к Вам.
Александр Кондратьев.
Кондратьев, Александр Алексеевич, родился 11. V. 1876. в Петербурге. Отец и мать были русские и православные. Мать потерял (умерла) 3 лет. Отец служил в Государственной Типографии (умер в ноябре 1904 г.). По его совету и желанию я пошел, по окончании 8-й СПБ. Гимназии, на Юридический Фак<ульте>т, где с достаточною степенью добросовестности изучал соответствующие науки. В гимназии был несколько лет учеником Иннокентия Федоровича Анненского, с которым поддерживал хорошие отношения вплоть до его смерти. Русский язык в гимназии преподавался мне Петром Максимовичем Филоновым и Платоном Васильевичем Красногорским. Им обоим я весьма признателен за то, что они научили меня грамотно писать. Любовью к литературе учебным заведениям, в которых воспитывался, обязан мало. Писать стихи начал в гимназии; печатать их – в Ун<иверсите>те (в 1899 г.). Первый рассказ напечатан мною в амфитеатровской «России» в 1901 г. (на тему из области деревенской мифологии).[1407] Напечатал много стихов, преимущественно под псевдонимом Э. С., в журнале «Шут, издававшемся Р. Р. Голике. Сотрудничал и помещал стихи и рассказы в журналах: «Новый Путь», «Золотое Руно», «Перевал», «Весы», «Аполлон», «Русская Мысль», «Огонек» и многих других. Помещал также статьи, заметки, стихи и беллетристические произведения в «Голосе Москвы», «Русской Молве», а также еще в 2–3 недолго выходивших московских газетах (о «России» Амф<итеатро>ва я уже упоминал). Из альманахов сотрудничал почти исключительно в «Грифе». Кроме того я занимался исследованиями в области истории русской литературы; написал несколько статей об Алексее Толстом (помимо вошедших в книгу о нем – «“Крымские очерки” гр. А. К. Толстого», см. «Современник» 1912 г., VI).[1408] Писал об Авдотье Глинке, Н. Ф. Щербине, Панкратии Сумарокове…[1409]
Стихотворения мои вышли в двух книжках: 1) Стихи А. К. СПб. 1905 г., 2) «Черная Венера». СПб. 1909. Беллетристика состоит из романа «Сатиресса» М. 1907, кн<игоиздательст>во «Гриф», и двух книг рассказов: 1) «Белый Козел». СПб. 1908, и 2) «Улыбка Ашеры». СПб. 1911. Кроме того, в кн<игоиздательст>ве «Огни» – «Гр. А. К. Толстой. Материалы для биографии». Мною же переведена была книга Пьера Луиса «Песни Билитис», второе издание которой было уничтожено по постановлению суда.[1410]
Из других событий литературной жизни моей, пожалуй, стоит упомянуть лишь о победе на поэтическом конкурсе, организованном журналом «Золотое Руно» в 1907 г.[1411]
Мои внелитературные занятия – служба – сперва в Юридической части Управления Железных Дорог, затем (с 1908) в Канцелярии Государственной Думы.[1412]
Ал. Кондратьев.
Третий автобиографический документ Кондратьева относится уже к совсем другой эпохе. Это, собственно, не автобиография в строгом жанровом определении, а письмо, содержащее рассказ о жизненных перипетиях писателя в пореволюционные годы и о том положении, в каком он оказался в разоренной войной Польше, под Краковом, бежав из имения своей тещи на Волыни, «освобожденной» советскими войсками. Адресат письма, Евгений Александрович Ляцкий (1868–1942) – литературный критик, историк литературы, фольклорист, – постоянно проживал в Праге с 1922 г., где вел широкую общественную и благотворительную деятельность, состоял председателем Комитета по улучшению быта русских писателей в Чехословакии. Связанный с Ляцким еще по Петербургу деловыми отношениями и близкими историко-литературными интересами,[1413] бедствующий Кондратьев обратился к нему за денежной помощью и, получив ее, откликнулся подробным письмом, в котором не только поведал о своей жизни, но и поделился надеждами на будущее и собственными специфическими «узнаниями» (в частности, сообщил своему корреспонденту о некоторых «сновидческих» прецедентах, которым он придавал большое значение и которые нашли преломление в его творчестве – прежде всего в повести «Сны», включающей автобиографическую подоплеку).[1414] Письмо приводится по автографу из архива Ляцкого.[1415]
Absender Aleksander Kondratjew.
15/2. V. 1942.
Дорогой Евгений Александрович.
Вчера получил Ваше доброе письмо, а сегодня дочь принесла присланные Вами деньги (ей выдали на почте польскою валютою 20 злотых). Огромное Вам спасибо за Ваше великодушие. Стыдно мне принимать эти деньги, зная, что Вы сами стеснены в средствах. Но отказаться тоже не могу. Только вместо букета приобрету кусок мыла, ибо здесь, выражаясь мягко, наблюдается некоторый недостаток такового, равно как и некоторых других предметов, чем пользуются тайно продающие эти предметы или продукты лица. Кило сала (помимо получаемых по карточкам не очень часто жиров) стоит около 100 злотых. Вздорожали несколько керосин, сахарин и сахар… Но пока, слава Богу, сыты (кончаем остатки запасенного с осени картофеля и крупы)… Мне еще в 1907 г. все это было предсказано. Ясновидящая говорила между прочим, что хотя будет трудно, очень трудно, но того, ч<то>б<ы> нечего было есть, не случится. В свободные получасы разворачиваю иногда спасенные дочерью и увезенные ею из усадьбы записные книжки свои и некоторые бумаги и отрываюсь от действительности… Мне не очень повезло в занятиях моих литературою и историей литературы. Пропал, между прочим, с любовью составленный труд – биография поэта Федора Туманского, в котором приведены были некоторые его ранние стихотворения. У меня существует подозрение, что, благодаря сходству инициалов, кое-какие произведения Туманского приписываются Тютчеву. В одном из ранних произведений первого есть выражение, повторяющееся у второго («Возвышенная стыдливость страданья»)…[1416] Остались в Петербурге выписки и заметки по славянской мифологии и фольклору, лет за 10 до революции. Да и книги кое-какие по этим областям там остались. У меня был между прочим труд Вашего предшественника по «Слову о Полку Игореве», гр<афа> Мусина-Пушкина.[1417] Конечно, ошибок у него много, но и любопытного много, особенно принимая во внимание его эпоху. Вы – первый, если не ошибаюсь, указали, что произведение это принадлежит нескольким авторам…[1418] Время от времени задумываюсь над значением слов: «Див? кличет вверху древа» и т. д.
Не повезло мне и в изучении оккультных наук. Правда, несколько книжек по демонологии, главным образом на франц<узском> языке, у меня были, но романа из жизни обитателей ада написать мне так и не удалось. Покойный профессор Вяч<еслав> Мих<айлович> Грибовский[1419] добыл раз для меня из библиотеки СПБ. Ун<иверсите>та что-то вроде адского адрес-календаря на франц<узском> языке – середины ХVШ в., если не ошибаюсь. – «Эту книгу я доставал там несколько ранее и для покойной Мирры Лохвицкой», – говорил он мне… Этот Грибовский кончил свои дни в Риге и до самой смерти своей писал мне оттуда. Я не принадлежал к числу университетских его слушателей (меня больше интересовал тогда Л. И. Петражицкий).[1420] С Грибовским же я сблизился по кружку поэтов и поэтесс К. К. Случевского. У меня сохранилась здесь даже рукописная статейка – воспоминание об этом кружке.[1421] Сохранилось и еще что-то вроде статейки – заметка с воспоминаниями об умершем поэте Рославлеве,[1422] одном из молодых писателей, носивших, по примеру Горького, Леонида Андреева и Бунина, поддёвку (такую же носил и Есенин)… Две тетради с наклеенными на их страницах газетными вырезками воспоминаний моих о знакомых русских писателях остались в г. Ровно. Не знаю, уцелели ли…
Возвращаюсь к невезению с оккультными науками. Еще в СПб. работал я над биографией поэтессы Авдотьи Глинки, жены поэта Ф. Глинки. Т<ак> к<ак> кое-какие материалы по биографии последнего и бумаги его хранились в Шереметевском архиве, я был очень рад, когда получил туда рекомендацию не то из Публичной Библиотеки, не то из Архива Академии Наук (не помню). Мне говорили между прочим, что там хранятся розенкрейцерские ритуалы для вызова видений. Т<ак> к<ак> я в тот момент больше интересовался Авдотьей Глинкой, то, получив на первый раз лишь часть рукописей Глинки, не очень был огорчен, не найдя там текстов этих ритуалов, а лишь тетрадь со тщательно зарисованными видениями. Цветными карандашами там изображены были надгробные памятники, эмблемы, кажется, – ангелы и т. п. Я решил, что самые ритуалы я успею списать в другой раз. В подлинности их я не сомневался, т<ак> к<ак> Федор Глинка был в довольно высоких для России градусах… Когда же я пришел во второй раз, Шереметевский архив был закрыт по случаю войны (1914 г.).
На Волыни (с 1918 по 1939 г.) у меня было сравнительно много свободного времени и очень мало попадало в руки интересных книг. По истории литературы я перечитывал учебники и «курсы», бывшие в библиотеке Ровенской гимназии, ядром которой послужила библиотека б<ывшего> директора Ровенского реального училища Соколова. Ничего нового для себя я там не прочел, но списал много. Составлял я тогда для себя что-то вроде рукописной библиотеки-словаря по истории русской поэзии. Покупать книги удавалось редко, – главным образом, начиная с середины тридцатых гг., когда жена моя унаследовала именье, в котором мы жили. Жили мы не столько на доходы с земли, сколько на остатки от сумм, вырученных от продажи земельных участков для уплаты обыкновенных и чрезвычайных налогов. Доходов для жизни и налогов не хватало, и приходилось продавать землю. Пробовали сдавать землю в аренду, – арендаторы не платили нам условленных взносов, так что не на что было даже воспитывать детей. Сына, напр<имер>, пришлось взять из Львовского политехникума, куда он поступил, прилично выдержав вступительные экзамены. Боюсь, что именье это, на котором не было налоговых долгов (все были уплачены до войны), нигде не заложенное, в наши руки не вернется. Еще поляки некогда говорили мне, – «Ваша земля нужна нам для наших польских крестьян»…
У меня лично была земля в Шлиссельбургском уезде (доходов она не давала). Во время войны осенью 1916 г. я ее продал (вместе с совладельцами). На мою долю досталось не то 125, не то больше тысяч рублей. 75.000 р. я отдал на военный заём. На остальные деньги отправил в Крым и держал там семью до осени 1918 г., когда перебрался на Волынь, к теще. Несколько тысяч пропало в каком-то Киевском банке, а то, что не было растрачено на жизнь, утратило цену и обратилось в ничто…
Теперь все это кажется мне сном. Я благодарен Судьбе, что сон моей жизни не лишен был интересных картин и впечатлений. В молодости, когда я служил в М<инистерстве> П<утей> С<ообщения>, удалось мне 3 раза совершить три больших путешествия (1904, 1906 и 1908 гг.). Помимо европейских больших городов и находящихся в них музеев, побывал я в Греции, Египте и Малой Азии. Это дало содержание многим стихам. А картины российской «Великой и Бескровной», виденные мною в Таврическом дворце![1423] Сколько предшествовавших поколений желало их повидать! А сколько интереснейших литераторов и ученых удалось мне встретить в жизни, и не только встретить, но и пользоваться их расположением. Благодаря Вам, напр<имер>, увидела свет работа моя об Алексее Толстом…[1424] О другом очень полюбившемся мне в молодости поэте, Н. Ф. Щербине, закончить работы мне не удалось. Петр Бернгардович Струве напечатал в «Р<усской> М<ысли>» начало этой работы: «Молодость поэта Н. Ф. Щербины». Незадолго до начала войны мой варшавский (тогда еще заочный) знакомый, приват-доцент С. Ю. Кулаковский (сын киевского профессора византинолога)[1425] прислал мне, без предупреждения, в презент, эту статью, вырезав и склеив соответствующие страницы из книжки журнала. За день до получения этой посылки вижу сон: приходит ко мне будто бы покойный Н. Ф. Щербина. Я его спрашиваю: чему я обязан удовольствием его видеть. А он мне отвечает: «Ведь Вы обо мне писали». Когда я получил свою статью, я понял, почему видел этот сон. А поэта А. К. Толстого во сне никогда не видел. Зато за последние годы, годы изгнания, часто вижу разных покойных или по всей вероятности умерших поэтов, знакомых своих. Хотя бы, напр<имер>, Петра Петровича Потемкина,[1426] который мне приснился в 1941 г. А на другой день иду в клинику, где содержалась жена, подхожу по дороге к лотку с книгами (меня обычно тянет к этим лоткам). Спрашиваю, нет ли русских книг. Торговец протягивает мне книжку стихов Потемкина. Купил ее за 30 грошей. Снились мне здесь в Холмщине и И. И. Ясинский, и С. А. Кречетов-Соколов, и совсем недавно – Б. В. Бер.[1427] (Не знаю, слыхали ли Вы об этом поэте – я познакомился с ним у Шеллера-Михайлова, – у которого собирался очень небольшой поэтический и артистический кружок довольно интересных людей, как напр<имер> кн. Г. С. Гагарин†, Евдоким Николаевич Квашнин-Самарин, Ив<ан> Ив<анович> Тхоржевский, молодой скульптор Микешин, сын знаменитого, и др.).[1428] Валерий Яковлевич Брюсов снится мне обычно перед болезнью кого-либо из членов моей семьи. При жизни В. Я. очень хорошо всегда ко мне относился, хотя я, пока он был жив, не напечатал о нем ни строки. А после его смерти печатал только хорошее. Не знаю, чем объяснить такое совпадение. Думаю, что объяснить могут только оккультисты.
Простите, что я так заболтался, и таким мелким почерком! Рассчитываю на доброту Виды Павловны,[1429] которая не откажет, вероятно, прочесть Вам мои каракули.
Жена, хотя и очень смущена неожиданностью Вашего подарка, просит меня поблагодарить Вас за Ваше внимание к ней и доброту. Она просит Вас также сообщить, не известно ли Вам чего-нибудь о судьбе Вашей поклонницы, общей знакомой нашей Марии Эмильевны Штраус.
Дай Вам Бог здоровья и благополучия и радости, дорогой Евгений Александрович. Не знаю, удастся ли мне Вас увидеть. Многое будет зависеть от того, вернут или нет жене ее именье на Волыни (немного больше 150 дес<ятин>). Если бы удалось повидать Вас, был бы счастлив. Не знаю, удастся ли сыну перетащить нас на Волынь. Он в марте переехал туда и пристроился там, кажется, на пивном заводе. Но на Волыни едва ли не сильнее, чем здесь, чувствуется, особенно в городах, экономический (вероятно, – временный) кризис. Пристроиться же самому на какое-либо место не удается, из-за незнания немецкого и недостаточного знания польского и местных наречий… Счастлив буду, если напишете.
Виде Павловне целую ручки. Вас обнимаю.
Ваш душевно Александр Кондратьев.
16/3 – V – 1942.
В. А. Мануйлов – ученик Вячеслава Иванова
В ноябре 1920 г. Вячеслав Иванов был избран профессором по кафедре классической филологии на историко-филологическом факультете Бакинского государственного университета и исполнял свои обязанности (чтение лекционных курсов, ведение семинаров) по май 1924 г. включительно, 22 июля 1921 г. был удостоен степени доктора классической филологии за работу, два года спустя вышедшую в свет отдельным изданием под заглавием «Дионис и прадионисийство» (Баку, 1923).[1430]
После тяжелых жизненных испытаний первых пореволюционных лет, проведенных в Москве, Иванов воспринял свое пребывание в Баку как период относительного благополучия. «Университет, где я занимаю кафедру классической филологии, мне мил, – писал он 12 мая 1922 г. И. М. Гревсу. – Он имеет около 2000 студентов, достаточное число действительно выдающихся ученых сил, работает дружно всеми своими аудиториями, семинариями, лабораториями и клиниками, печатает исследования, пользуется автономией и, по нашим временам, представляет собою зеленеющий маленький оазис среди академических развалин нашей родины. ‹…› Вокруг меня ревностные ученики. ‹…› Мне говорят, что у меня призвание быть академическим учителем, и в самом деле кафедра – лекции, семинарий, направление т<ак> наз<ываемых> “научных сотрудников” ‹…› – совсем по мне, по моим вкусам, по моему эросу».[1431] В какой-то мере постоянные бакинские общения Иванова с коллегами по университету и студентами соотносились с былыми «симпосионами» на петербургской «башне»; вновь ему открылась возможность выступить в привычной для него роли протагониста и духовного наставника. Одним из «ревностных учеников», о которых Иванов упоминает в письме к Гревсу, был Виктор Андроникович Мануйлов (1903–1987), впоследствии выдающийся историк русской литературы XIX века, крупнейший специалист по Лермонтову, главный редактор «Лермонтовской энциклопедии» (М., 1981), зачинатель изучения жизни и творчества М. Волошина.[1432]
Литературные интересы В. А. Мануйлова обозначились еще в дореволюционные годы – в Новочеркасске, где он родился и учился в Частной классической гимназии Е. Д. Петровой. По окончании ее (уже переименованной в 8-ю Советскую школу II ступени) летом 1921 г. начинающий восемнадцатилетний поэт отправился в Москву, где сразу оказался в гуще литературной жизни: «Лето 1921 года подарило мне незабываемые встречи с С. А. Есениным, В. Маяковским, М. Кудашевой и Б. Пастернаком, я слушал В. Я. Брюсова и впервые был у него дома ‹…›, познакомился с Рюриком Роком, Сусанной Мар, Наталией Бенар, В. Шершеневичем, А. Кусиковым, А. Б. Мариенгофом и другими».[1433] 4 августа 1921 г. в кафе имажинистов «Стойло Пегаса» Мануйлов познакомился с Есениным и передал ему на просмотр тетрадку своих стихов; после этого он по рекомендации Есенина был принят во Всероссийский Союз Поэтов и получил удостоверение его действительного члена, встречался с ним еще несколько раз и выступал с чтением своих стихов с эстрады.[1434] Таким образом, когда в следующем году Мануйлов оказался в Баку, где в дневные часы отбывал военную службу в политотделе Каспийского военного флота, а по вечерам учился на историко-филологическом факультете университета, он уже обладал определенным опытом общения с литературной средой.
И тем не менее встреча с Вячеславом Ивановым произвела на него экстраординарное впечатление: «Впервые я увидел Вячеслава Иванова ранней весной 1922 года в вестибюле Азербайджанского государственного университета. Высокий, румяный, он шел легкой походкой, немного сутулясь ‹…› Это Вячеслав Иванов – с нескрываемым восхищением сказал мне мой собеседник. Его волнение передалось мне: да, именно таким я представлял себе этого удивительного человека, о котором столько уже слышал, учеником которого мечтал стать». «Читал он обычно, – продолжает Мануйлов, – в самой большой аудитории. Греческие и латинские стихи звучали у него как музыка. Все лекции Вяч. Иванова были необыкновенно красочны и, открывая неведомые миры, оставляли глубокое впечатление. Он говорил всегда увлекательно, вдохновенно, хотя и не для всех понятно, удивляя разносторонностью своих интересов и познаний. ‹…› Вскоре лекции Вячеслава Иванова стали для меня и небольшой группы сплотившихся вокруг него учеников, посещавших также и его семинары по Пушкину и поэтике, самыми главными, самыми значительными в нашей университетской жизни событиями».[1435]
В сообщении «О Римском архиве Вяч. Иванова» Д. В. Иванова и А. Б. Шишкина говорится: «Один из авторов этих строк вспоминает, как с волнением и гордостью рассказывал В. А. Мануйлов в ближнем круге о том, что в брюссельском собрании сочинений Вяч. Иванова воспроизведена бакинская фотография поэта с его учениками, где студент Мануйлов сидел ближе всех к учителю; оригинал ее висел у изголовья Мануйлова».[1436] В этих словах – две неточности. Одна – мелкая: автор этих строк отчетливо помнит, что фотография Иванова в группе друзей и учеников висела не у изголовья, а на стене, вдоль которой стояло спальное ложе В. А. Мануйлова в принадлежавшей ему комнате коммунальной квартиры в доме на углу 4-й Рождественской (тогда и поныне 4-й Советской) и Дегтярной улиц. Вторая неточность – более существенная: в вышедшем в свет в 1971 г. томе I брюссельского Собрания сочинений Вячеслава Иванова воспроизведена другая фотография, 1923 года (вклейка между с. 160 и 161): Иванов и 11 его учеников, по правую руку от учителя – Мануйлов, по левую – М. С. Альтман. Фрагмент фотографии, висевшей в комнате Мануйлова, был опубликован в томе IV брюссельского издания в 1987 г., в год его кончины, и этот том он уже не мог подержать в руках. На этой фотографии, после 1987 г. неоднократно воспроизводившейся, Иванов запечатлен в группе участников бакинского поэтического кружка «Чаша»,[1437] собиравшегося в большой комнате у профессора химии Петра Измайловича Кузнецова. Снимок сделан в мае 1924 г. на веранде квартиры Кузнецовых: 19 человек, в их числе дочь Иванова Лидия, его друзья Вс. М. Зуммер и С. В. Троцкий, ученики Иванова: будущий известный критик и литературовед Ц. С. Вольпе, литературовед и библиограф М. А. Брискман, впоследствии видный лингвист-германист М. М. Гухман, художник-график и поэтесса В. Ф. Гадзяцкая, в будущем научный сотрудник Эрмитажа искусствовед М. Я. Варшавская, а также Е. А. Миллиор, К. М. Колобова, Е. Б. Юкель и др. Давая в мемуарах краткие пояснения о ряде лиц, представленных на фотоснимке, Мануйлов добавляет: «Фотографируясь, я удостоился чести сесть у ног Учителя и положить ему на колени согнутую в локте правую руку».[1438]
Такая композиция в центральной части фотоснимка может быть признана знаковой. В мемуарах Мануйлов признается: «В 1922–1924 годах в Баку я был как бы член семьи Вячеслава Ивановича, он доверял мне и многое рассказывал о себе ‹…›».[1439] У Иванова установились неформальные доверительные отношения с целым рядом его бакинских учеников – ближе всего с Ксенией Колобовой, Еленой (Нелли) Миллиор, Моисеем Альтманом, автором ценнейшего документального источника – «Разговоров с Вячеславом Ивановым», составленных по образцу классических «Разговоров с Гёте» И. П. Эккермана. И все же близость учителя и ученика, наглядно продемонстрированная на групповом фотопортрете, имела особый характер, что признавали и другие, безмерно преданные учителю ученики. 12 июня 1924 г. Е. Миллиор писала Мануйлову: «Что касается забот В. И. о тебе, – он действительно большой души человек! Делать так, как он, по-настоящему, до конца, решительно и вместе просто – кто мог бы еще из окружающих тебя людей, особенно профессоров?»[1440] 28 июля того же года Мануйлову писала К. Колобова, откликаясь либо на его устное признание, либо на слова из неизвестного нам письма: «Если тебе В. И. дороже родных, то я не могу даже подумать, дороже кого мне В. И. ‹…›».[1441]
Чем была обусловлена эта близость? Разумеется, Иванову должен был импонировать студент с широкими литературными и культурными интересами, инициативный, деятельный, способный к организационной работе (Иванов поручил Мануйлову обязанности секретаря двух своих университетских семинаров – по Пушкину и по поэтике) и вместе с тем начинающий поэт: в бакинские годы поэтическое поприще было для него на первом плане. Не могли не располагать к себе и душевные качества, тогда уже вполне проявившиеся: юноша, открытый миру и людям, излучающий доброжелательность и теплоту (те, кому довелось общаться с В. А. Мануйловым в его преклонные годы, подтвердят, что эти качества он пронес нерастраченными через всю свою нелегкую жизнь) и вместе с тем готовый к благодарному постижению не только внешних личин и оболочек мира, но и его «тайн», живо интересующийся разного рода эзотерикой. «…Чего стоят всяческие “метафизические” и “чернокнижные” ереси, до которых и я большой охотник, оставаясь, впрочем, жизнерадостным язычником, стремящимся ко Христу», – признавался Мануйлов в первом своем письме к М. А. Волошину (21 октября 1925 г.).[1442] Эта самоаттестация свидетельствует о том, что в лице Мануйлова Иванов обрел не только исполнительного и преданного ученика, но и духовного последователя, способного подхватить и развить те мажорные звучания, которые доминировали в его собственном самосознании. В мемуарной книге, писавшейся в советские годы и в расчете-надежде на публикацию в советских идеологических условиях, Мануйлов очень обтекаемо и явно не договаривая касается тех аспектов, которые обусловили его неформальную, внутреннюю связь с университетским наставником: «Вячеслав Иванов был сама мудрость. Но он проявлял такую любовную заинтересованность, что с ним говорилось, как с родным человеком, который мудрее тебя, но говорит с тобой, как с равным, хотя знаешь, что ни о каком равенстве не может быть и речи. ‹…› Однажды я спросил Вячеслава Ивановича, почему он так внимателен ко мне и тратит столько времени на разговоры со мной вне университета, дома. Он ответил, что беседы со мной и рассказы об уже пережитом, знание моего прошлого и настоящего позволяют ему уверенно заглянуть в будущее, а направленность моего пути он уже чувствует по моим ранним стихам».[1443] Уверенность Иванова в том, что и в будущем, – перспективы которого тогда уже четко вырисовывались для него отнюдь не в благоприятном свете, – Мануйлов выдержит заданную «направленность пути», побуждала, таким образом, уделять ученику повышенное и благосклонное внимание.
Тему взаимоотношений учителя и ученика затрагивает и Ксения Колобова в стихотворении, написанном, вероятно, по случаю первого юбилея Мануйлова – 20-летия со дня его рождения (22 августа / 4 сентября 1923 г.); она возникает, обрамленная главной темой – «первой юношеской любви»[1444] Мануйлова к Елене Борисовне Юкель, также ученице Иванова по Бакинскому университету, представленной в обличье Елены из греческой мифологии – спартанской царицы, прекраснейшей из женщин:
- Вите Мануйлову
- Ведь издавна поэты мечтали о Еленах,
- но на дороге редким встречалось это имя…
- То – Мирра, то – Мария, а то Елисавета,
- а то и деревенское – простая Серафима.
- Но Ты – Судеб Избранник, прославленный дарами,
- все Боги благосклонны – поэт, друзьями чтимый, –
- досель не опьяненный дурманными парами,
- вегетерьянец скромный, Ивновым любимый.
- Ах, Оккультист заядлый, влюбленный в тайны мира,
- и Wunderkind, но, право, для вящей скажем славы:
- один из членов тайного вселенческого клира,
- достойный сопрестольник гордыни Вячеслава!
- Все Музы и Хариты сбежались на рожденье
- и каждая с собою дар принесла бесценный –
- Лишь Афродита весело – «Взгляни на отраженье,
- пускай запечатлеется в тебе лицо Еленино».
- Ах! из Москвы от Брюсова сбежал в Баку к Иванову,
- Вздохнул свободно, радостно избавился от плена,
- не знал, что Афродитою мечтанья затуманены,
- что плен сладчайший зиждется – здесь учится Елена.
- Один на Мирру смотрится, другой поет Марию,
- Елисавету третий в Унив<ерситета> стенах…
- Ты оправдал надежды – спаситель и Вития,
- ты – Менелай, вернувший сокрытую Елену.[1445]
Из немногочисленных стихотворений, которые Вячеслав Иванов написал во время пребывания в Баку, большинство обращено к ученикам. Это – цикл из трех сонетов «Моисею Альтману» (один из сонетов – акростих), написанный 10–14 апреля 1923 г.;[1446] стихотворный экспромт «Какая светлая стезя…» (май 1924 г.) на фотопортрете, подаренном «моей филологической сотруднице и сомечтательнице Елене Александровне Миллиор»;[1447] стихотворение «Ксения, странница…», адресованное К. М. Колобовой и записанное также на обратной стороне подаренного ей фотопортрета;[1448] наконец, опять же на обороте фотопортрета в берете и с книгой в руках, – стихотворение, обращенное к Мануйлову (около 20 декабря 1923 г.):
Victori manu Elohim
- Поэт, пытатель и подвижник
- In nuce и в одном лице,
- Вы, бодрый путник, белый книжник,
- Мне грезитесь в тройном венце.
- Вы оправдаете, ревнитель
- И совопросник строгих Муз,
- Двух звуков имени союз:
- Рукою Божьей победитель.
Это стихотворение немедленно (22 декабря) вызвало к жизни ответное послание, которое Мануйлов приводит в мемуарной книге:
- Ты сердцем солнечным, Учитель милый,
- Меня давно неудержимо влек,
- И я летел к тебе золотокрылый,
- И трепетный, и глупый мотылек.
- Я тоже солнечный, но Всемогущим
- Мне мудрости змеиной не дано,
- Я только радуюсь лугам цветущим,
- Я только пью медвяное вино.
- Что принесу тебе я легкокрылый?
- Твои цветы в твои же цветники!
- За то, что ты, Учитель, свет мой милый,
- Взял мотылька к себе в ученики.[1450]
Мануйлов акцентирует здесь ту важнейшую доминанту, которая сближает его юношеские творческие порывы с поэтическим мироощущением автора «Cor ardens», – мотив солнечности. Другую доминанту, обозначенную в этом стихотворении и относящуюся уже только к его автору, Иванов определенно нашел меткой и выразительной. Об этом можно судить по его поэтическому экспромту, приписанному несколько дней спустя на обороте той же фотографии, под текстом стихотворного послания «Victori manu Elohim»:
Ответ
- В. А. Мануйлову
- Я вижу: детям Солнца милы
- Мои живые цветники,
- Коль мотылек воздушнокрылый
- Ко мне упал – в ученики.
Уподобление, найденное Мануйловым и санкционированное пером его учителя, вошло в обиход ближайшего круга ивановских учеников. Оно определяет образный строй одного из стихотворений Ксении Колобовой, посвященных Мануйлову:
- Виктору
- «Не вспоминай и не зови»
- Юр. Деген
- Ты любимый, живой и желанный
- огнекрылых стихий мотылек.
- Вихрь тебя породил ураганный,
- захотел ты и многое смог.
- Подари же меня приветом,
- как других любовью даришь.
- Знаю я – пронизанный светом,
- от меня навсегда улетишь.
- И не мне полететь за тобою,
- словно камни ступни тяжелы.
- Мотылькам, завлеченным игрою,
- мои мысли враждебны и злы.
- Не простится Господнему року:
- мое солнце в зияньи орбит,
- глядя горько расплавленным оком,
- черным пламенем тихо горит.[1452]
В архиве Мануйлова сохранился также машинописный список цикла Иванова «Лебединая память» (11 стихотворений), опубликованного в журнале «Русская Мысль» (1915. № 8) с дарительной надписью автора: «Эфирному мотыльку песни Памяти – Вите Мануйлову Вяч. Иванов».
Об особом положении Мануйлова в ближайшем кругу бакинских учеников Иванова свидетельствует и тот факт, что именно ему последний, отправляясь в Москву на празднование 125-летия со дня рождения Пушкина, предложил стать своим спутником. 21 мая 1924 г. Мануйлов писал родителям и сестре Нине в Новочеркасск: «6-го июня в Москве большие пушкинские торжества. ‹…› Вячеслав Иванович вызван Луначарским для доклада в Большом театре на тему “Пушкин в 1824 г.” Вячеслав Иванович считает, что мне необходимо воспользоваться отпуском и правом бесплатного проезда и ехать с ним, чтобы в Москве сам Вячеслав Иванович мог меня познакомить со всеми, с кем это нужно, и, может быть, перевести меня для дальнейшего образования в Москву. Сами понимаете, как все это для меня важно. ‹…› Я выезжаю 27 V. ‹…› Вячеслав Иванович прилагает все усилия устроить меня в скором поезде, пишет письма нашему комиссару, хлопочет еще в Наркомпросе и т. д.»[1453] Примечательно, что Иванв надеялся перевести Мануйлова для завершения университетского образования в Москву: вполне определенно он планировал уже тогда не возвращаться в Баку, а выхлопотать себе в «высших» инстанциях заграничную командировку, и в перспективах этого хотел обеспечить своему любимому ученику более благоприятные условия, чем те, которые ожидали его в Бакинском университете. Из этого намерения, впрочем, не последовало ожидаемых результатов.
В цитированном письме в Новочеркасск Мануйлов сообщал также: «Завтра сдаю предпоследний экзамен, накануне отъезда последний. Еще один, возможно, в дороге между Баку и Москвой либо Зуммеру, либо Вяч<еславу> Ивановичу». Последняя фраза достаточно выразительно свидетельствует о том, насколько неформальный характер имел процесс обучения в Бакинском университете при Вяч. Иванове. В мемуарном очерке о своем учителе Мануйлов не сообщает, принимал ли Иванов у него экзамен в купе вагона во время следования в Москву, но приводит надпись на обложке книги Иванова «Дионис и прадионисийство» (Баку, 1923), подаренной ему автором в ходе этого путешествия: «Милому спутнику из Баку, Виктору Андрониковичу Мануйлову, при переезде через Оку, “любовью требуя” – верности эллинскому языку. ВИ. 30/V 1924».[1454] Исполнить этот завет Мануйлов, однако, не смог: в отличие от других самых близких и самых верных учеников Иванова – Моисея Альтмана, Ксении Колобовой, Елены Миллиор, ставших высокопрофессиональными филологами-классиками, он в дальнейшем сосредоточился в своих интересах на истории русской литературы (хотя в бакинские годы, безусловно, был увлечен и той сферой знаний, в которую вводил своих слушателей Иванов: среди первых публикаций Мануйлова имеется, в частности, рецензия на популярную книжку М. Брикнера «Страдающий бог в религиях древнего мира» (М., 1923), вполне благосклонная: «Удачно проведена аналогия между древними религиями и христианством»[1455]).
В мемуарном очерке «О Вячеславе Иванове» Мануйлов воскрешает эпизоды пребывания в Москве летом 1924 г.[1456] – посещения московских друзей и знакомых Иванова (П. Н. Сакулина, М. О. Гершензона, В. Я. Брюсова, Г. И. Чулкова и др.), визит к А. В. Луначарскому, знакомство с М. П. Кудашевой, близкой приятельницей М. Волошина и впоследствии женой Ромена Роллана (Иванов устроил своего ученика жить в ее квартире), общение с Б. Пастернаком, поездку в подмосковное имение к композитору А. Т. Гречанинову. В архиве Мануйлова (ИРЛИ) сохранились относящиеся к этой поре документальные материалы. В их числе – билет на 1924 г. Вяч. Иванова как действительного члена Всероссийского Союза Поэтов, а также записка Иванова: «Прошу о пропуске в Ак<адемию> Х<удожественных> Н<аук> на мой доклад 9/VI для студента бакинск<ого> университета, моего ученика, В. А. Мануйлова. Вяч. Иванов». Имеется также письмо, адресованное поэту Василию Васильевичу Казину (1898–1981), одному из руководителей Общества пролетарских писателей «Кузница» и сотруднику редакции первого советского литературно-художественного журнала «Красная новь»:
23/VI 1924.
Дорогой товарищ Казин,
Позвольте обратить Ваше внимание на моего университетского ученика (в Баку), тов. В. А. Мануйлова, как на поэта, обнаруживающего, по моему мнению, замечательное дарование. Познакомившись с ним, Вы, я надеюсь, не откажете ему в добром содействии на первых шагах его литературной деятельности и, быть может, устроите его стихи в «Красной Нови».