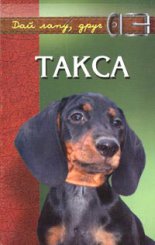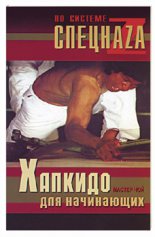Венец всевластия Соротокина Нина
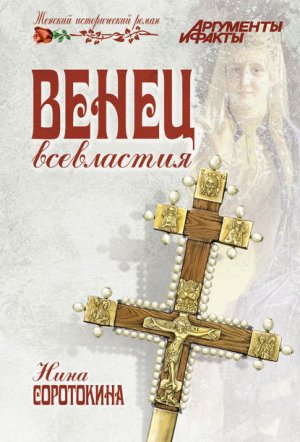
– Пигмента не хватает, – объяснила она Киму, поправляя прическу. – Мне подруга говорит – покрась, а по-моему, вполне приличный цвет.
– У вас красивые волосы, – подтвердил Ким, и добавил про себя: «Только их в три раза меньше нормы».
Теперь она играла в даму, несколько испуганную, но любопытствующую. Интересно ведь, зачем явился этот молодой верзила? Появление Кима было развлечением в бедной событиями жизни.
– Кофе, чай?
– Я ничего не хочу. Спасибо.
– Ну что вы? Как можно. Покурите пока.
Спустя несколько минут она опять вплыла в комнату с подносом: чай, свежие бутерброды с колбасой, печенье в украшенной салфеткой вазочке, словом, все очень прилично. Галина Ивановна с улыбкой смотрела, как он ел, потом спросила доброжелательно, хотя вопрос должен был таить в себе обиду:
– Вы, наверное, пришли, чтобы вещи отцовские забрать? Так у меня ничего нет. Как-то вот жили-жили и ничего не нажили.
– Да нет… какие вещи? – активно запротестовал Ким. – Я хотел познакомиться… про отца узнать. И еще спросить – он писал? Романы, повести… Прозу, одним словом.
Она согласно кивнула головой – было дело.
Галина Ивановна никак не тянула на образ мегеры, который нарисовала ему мать. Но, может, жизнь ее привела в порядок, пообтесала явные недостатки. Вероятно, когда отец к ней ушел, она была задорной, склочной красоткой и активно сражалась за свое приобретение. Но не похоже, чтобы мать выясняла с ней отношения и пыталась вернуть непутевого мужа. И уж если честно оценивать ситуацию, Галина Ивановна нравилась Киму. С ней было спокойно. Видимо, гены играли роль. Он давно про себя решил, что симпатия к собеседнику возникает в первую очередь от взаимодействия биологических полей, а уж потом ты пытаешься выяснить умный он или глупый, добрый или злой, ну и так далее.
– Вы понимаете, мне надо собрать рукописи отца. Они где-то разбросаны по разным местам. Я и к вам, если честно, за рукописью пришел.
– Он все с собой унес. Может быть, черновики остались. Что-то лежит в ящике на балконе. Я посмотрю. Только ведь это очень давно было. Уж десять лет пошло. Бумага-то небось истлела. Все истлело, одна фотография осталась, – Галина Ивановна указала на стену. – Это его последняя фотография. Здесь он уже некрасивый. А когда печень еще здоровая была, он красивый был.
– Отец сильно пил? – спросил Ким сочувственно.
– Ой, сильно! Вначале он запойным был. Два месяца мог не пить, а потом – облом. Ну а потом пил почти каждый день.
– Когда же он писал?
– По ночам, – простодушно ответила Галина Ивановна. – И знаете, ведь какая вещь странная. Павел был очень хорошим человеком. Очень хорошим. Мы ведь прожили вместе почти тринадцать лет, а лучше сказать – полных двенадцать. А потом он исчез.
– Как – исчез?
– Ушел. Ночью спать легла, а он что-то шебаршил по квартире, потом рядом лег. А утром встала – нет его. Думаю, куда это он в такую рань отправился? И сумки его нет. Потом смотрю, и этого нет, и того нет, и бритвы нет. Я и поняла, что он ушел. По моргам или больницам, ну, как обычно делают, я его не искала. А месяца через три сам позвонил.
Ты говорит, Нюся – он меня почему-то Нюсей звал – ты не ищи меня. Я у друга живу и к тебе не вернусь, потому мы с тобой все уже изжили, и я ничего не хочу, кроме свободы. И как это понять? Вполне допускаю, что я его несытно кормила, рубашки плохо гладила, но уж свободы у него было вдосталь. А это значит, что само мое присутствие рядом, даже дыхание мое было ему в тягость. Можно, конечно, сказать, что он мою жизнь сгубил. Не будь его рядом, я бы кого-нибудь другого в мужья взяла – непьющего. Но ведь это неправда. Вернее сказать – не вся правда. Скучно ему было со мной, вот что.
– И вы его не искали?
– Нет. А зачем? Мы уже друг друга не поддерживали. Мы только бранились. Это ведь тяжелый крест – с пьяницей жить. Тем более – с потаенным. Для всех вокруг – он душа компании, а для близких – мучитель.
– Расскажите еще.
– А что о нем рассказывать. Больше, чем ваша мама, я вам не сообщу. Он когда ко мне пришел, то очень несчастный был. На работе всегда веселый, деловой, а здесь, одно слово – приполз. Мы с ним тогда вместе на картине работали. Снимали фильм «Свидание в Петербурге». Не видели? Костюмный, из жизни восемнадцатого века. «Свидание» это как-то незаметно прошло, а работы на нем было очень много. Он режиссер, я – костюмерша. Массовки огромные, всех одень, проверь, чтоб монашенки с маникюром в кадр не лезли, чтоб парики впору, иные костюмы прямо на людях приходилось подгонять. Вся жизнь – в работе. Я ведь одинокая была. Мужа похоронила, детей нет. А что он женатый, то уж позднее узнала. Да хоть бы и не узнала. Когда в экспедицию ездили, то у всех, почитай, романы были. Вот тогда-то мы с ним и сошлись. А в дом ко мне он пришел, когда съемки уже кончились. Да, да, точно, тогда шел монтажный период. Пришел на неделю, а остался на годы. Он говорил: «Я там в тягость, а здесь не в тягость». А я говорю: «Ну и давай будем жить, как люди».
– Отец обо мне когда-нибудь вспоминал?
– Он любил вас очень. Но считал, что пока вы были ребенком, отношения ваши с ним были бы только во вред. И все приговаривал… вот уже вырастет мой мальчик…
– Я уже вырос.
– Ничем не могу помочь. Мы не виноваты – ни я, ни вы. Пьянство его сгубило. Я вам позвонить хотела, да как-то не собралась. Да и матушки вашей побаивалась. Воинственная женщина! Она ведь была здесь. Такую сцену закатила! А в чем я виновата? Павел на коленях перед ней стоял и говорил: отпусти! А она ему: «Что ты спектакль устраиваешь? Куда – отпусти? Катись на все четыре стороны, но хоть объясни!»
Когда кино рухнуло, я имею в виду всю киноиндустрию, он уволился. Вернее, его уволили. Правда, звали потом на мелкие частные картины. Ну те, что на помойке снимали. Тогда много чернухи делали. Спонсерам надо было деньги отмывать, и они с готовностью предоставляли средства. Давали на сотню, а в отчетах писали на миллион. Но Павел отказывался. Говорил, мол, гадость все это. Дома стал сидеть. Я же шила, нам хватало. А он все писал, все писал. В какие-то журналы статейки носил, платили копейки. Он и для кино писал. Только это никому не было нужно. А ему было как бы все равно. Очень много времени он проводил в библиотеках. Когда, конечно, в запое не был.
– Так отец и сценарии писал?
– Один сценарий пошел в производство. Ираклию, главному режиссеру, очень нравился материал. Там даже деньги на съемку были. Вернее сказать, с такими деньгами можно было начать делать кино, но не кончить. Фильм ведь очень дорогостоящий процесс, – добавила она важно.
– Вы хотите сказать, что фильм недосняли?
– Да они и трети не сделали. Ираклий очень неверный и тяжелый человек. Разругался со спонсором. А если честно, то и режиссер он никакой. Один гонор. Ираклий себе карьеру хотел сочинить, а мой-то ему в этом подпевал: «Россия обретает лицо. Нам нужен фильм о начале государственности. Мы мечтаем снять фильм о древней Москве!» Вот и остались одни мечты! На государственность денег надо миллионы в долларовом выражении, а у них всех средств – кот нарыдал. Смешно сказать, как эти съемки проходили. Павильонов, конечно, никаких, все в интерьере. Снимали в особняках, где еще остались стены в два метра толщиной и потолки сводчатые. А костюмы я им сама возила. Господи, можно сказать – воровала. Наработала связи на Мосфильме, вот мне их и выдавали под расписку. Разве это съемки? А потом все окончательно рухнуло.
– Сценарий этот был про Софью Палеолог?
– И Софья там была, и многие другие прочие. Кабы дали мне костюмы самой шить, уж я бы их одела. А так… курам на смех.
– А где отец сейчас? – через силу спросил Ким. – Он все еще живет у друга?
– Нет. От друга он тоже ушел. Это точно. А год назад мне позвонил некто, мужчина, и сказал, что Паша умер. Но я этому не верю, – голос Галины Ивановны звучал бесстрастно, даже, пожалуй, величественно. – Батюшка ваш как ветер, его нельзя поймать. Если он жив, сам позвонит, а пока мне остается одно – молиться.
– Расскажите поподробнее. Кто вам звонил?
– Он не назвался. Вам надо Ираклия найти. Я знаю, что они общались. Павел был талантливый человек, а Ираклий из тех, которые пока все сливки с молока не соберут – не отвяжутся. Сейчас я вам его телефончик найду. Но все может быть и это зря. Ираклий уезжать собирался. Хотя, что ему за границей делать? Америка отнимает у нас самых умных. А Ираклий… на кой он там им нужен? Вообще-то я вас ждала, если честно говорить. А вы тоже пьете? – спросила она вдруг.
– С чего вы взяли? – Ким внезапно покраснел.
– Я вижу, пьющий вы. Я пьяниц сразу определяю. У них какой-то взгляд особый… Понимаете? Взгляд и обувь.
– А обувь-то здесь при чем? – Ким на всякий случай спрятал кроссовки под стул.
– Обувь пьющего человека сразу определишь, – сказала она убежденно. – Павел последнее время не ел ничего, только пил. Демократия первым делом сделала выпивку дешевой, а чего еще русскому мужику надо. Худой стал, как спица. Новой одежды не покупали, он был болезненно экономным и носил старую. В ней ему было просторно, как в колонном зале, – она невесело засмеялась. – А обувь… плотно сидела на ногах. У него здесь, знаете, косточки выступали. Кожа на башмаках истончилась, как на нем самом, и точно повторяла форму ноги. Он эти туфли чистил, чистил, а все равно видно – пьющий. Ладно. Пойдем на балкон. Посмотрим, что от твоего отца на свете осталось.
– А можно я к вам еще приду? – спросил Ким на прощание.
– Отчего ж нельзя? Я рада буду. Ты женат? Дети есть?
– Дочь.
– Вот и ее, Пашину кровиночку, с собой приводи.
Ким вышел на улицу с пакетом искореженных, битых временем бумаг и с убеждением, что он не только не приблизился к тайне или некоему важному решению, но как бы и отдалился. Более того, у него появилось предчувствие, что этой тайны не было вообще.
6
Ираклий Иосифович Гудуаров считал себя человеком, который всегда правильно чувствует ситуацию, но при этом никогда не может ее использовать. Карма такая, ничего не поделаешь. Он всегда знал, что и к какому сроку нужно государству и людям, но либо он к этому сроку не поспевал, либо люди, ради которых он старался, иными словами – народ, подводили его самым неприличным способом.
Во времена Андропова он снял и уже смонтировал фильм о дисциплине, как внутренней, так и поведенческой. С помощью незамысловатого сюжета он доказал, что расхлябанность на рабочем месте, бесконечные чаепития в конторах, проектных организациях и НИИ приводят к развалу хозяйства, дискредитируя саму идею социализма. Фильм получился острым и нужным, но Андропов как-то внезапно умер, и настали совсем другие времена.
Страна хотела быть критичной, и он был критичным вместе с ней. Он начал снимать острый и смелый фильм о Ленине, и поспел как раз к тому сроку, когда уже сам Ленин – ни плохой, ни хороший – никому не был нужен.
С картиной про становление государства Российского и Ивана Великого он совершенно правильно угадал. Многосерийный этот фильм был бы очень нужным и своевременным, но здесь в игру вмешались новые капиталистические отношения, и кинематографическая казна совсем опустела.
Наступила великая пора демократии. Что бы они там ни говорили, наши молодые, задорные, образованные и прогрессивные, но дело свое они сработали не так, как надо. Десять лет было у Ельцина со всей его демократической мухарайкой. Маленький срок, согласен, в длинной жизни государства он может ничего не значить, но в переломный момент десять лет – это очень много. Палач и выродок Гитлер был у власти-то был всего двенадцать лет, а как поднял Германию! Правда, он ее потом и уронил, но это не помеха в рассуждениях. Вычтем из общей суммы «двенадцать» три года упадка, получается вообще девять лет. Тогда почему же нашим демократам не хватило их десяти, чтобы Россия на ноги встала и люди стали жить по-человечески?
А вообще-то удивляться здесь нечему. Владимир Ильич, умнейший человек, написал шкаф книг на тему – как взять власть, и тонюсенькую брошюрку в объяснение – что с этой властью делать. Наши демократы тоже великолепно справились с первой задачей – все разрушить. Это им хорошо удалось. Куда ни кинь взгляд – наука, производство, кинематограф – везде развалины. А что на развалинах возводить – не продумали до конца, пустили дело на самотек. Само собой выстроилось нечто безобразное. И как всегда – конкретно никто не виноват. Виноватый всегда один – русский менталитет. Следовательно, вся ответственность на него и ложится.
Ираклий Иосифович с демократами не спелся, не нашел денег на продолжение съемок, однако сообразил завести маленький, но надежный бизнес. Не будем здесь рассказывать, какой именно бизнес, это не суть важно. Ираклий Иосифович не то, чтоб процветал, но на подержанную «ауди» и редкие походы в ресторан денег хватало. Он мечтал поднакопить денег, продолжить работу над фильмом и поднести сильному государству на блюдечке с голубой каемочкой киноэпопею о величии русского государства. В девяносто восьмом все, разумеется, рухнуло. Ну и черт с вами, так вам и надо.
Встретили двадцать первый век. И тут вдруг напомнил о себе живущий в Израиле двоюродный брат – прислал поздравление. Ефим отбыл на землю отцов в первый отъезд, где-то в восьмидесятых, и с тех пор не подавал признаков жизни. Невидимый шов во времени – ведь в третье тысячелетие переползаем – и на него произвел впечатление. Ефим написал обстоятельное письмо. Между строк он сообщил оглушительную новость. Оказывается, тетя Нинель за последние двадцать лет успела не только выйти замуж за миллионера (а такая корова была, ни кожи ни рожи!), но и овдоветь.
Без большого труда Ираклий выяснил американский адрес любимой тети и принялся жаловаться на невыносимость бытия в обе стороны: и в Штаты, и в Израиль.
Узнав о бедственном положении Ираклия, Ефим отреагировал неожиданно, как-то уж слишком по-человечески, слишком гуманно. Он позвал брата в Израиль, обещая кров на первое время и помощь с трудоустройством. Очень хорошо, спасибо большое, но там у вас в Тель-Авиве взрывают! Кроме того, жарко, непривычно, провинциально. Что он там будет делать, какие фильмы снимать? Уж если уезжать, то в Америку. Америка куда больше подходила на роль земли обетованной.
Пока тетка не собиралась делиться миллионами с племянниками, но в проявлении родственных чувств была последовательна. Ни один праздник теперь не обходился без ее открыток, а на Пасху даже позвонила и без малого час выспрашивала Ираклия о московской жизни. Желание Ираклия перебраться в Америку она поддержала очень сдержанно, но обещала помочь.
Все складывалось замечательно, беда только, что Ираклий слишком долго собирался. Тут подоспело роковое 11 сентября. Ну, в общем, сами понимаете. Не желали давать американцы визу, не желали – и все! Окончательного отказа тоже не давали, видно, это было не в их правилах, но тянули резину уже полтора года, и никак нельзя было предсказать, сколько это еще протянется.
А Ираклий с семьей, как говорится, «жил на чемоданах» около телефона. И покупатель на квартиру был найден, и цена на жилье успела упасть на двадцать процентов, и библиотеку с мебелью продали, а Америка продолжала капризничать и отказывать в визе.
Словом, Ираклий жил в крайнем раздражении, и в тот момент, когда ему позвонил Ким, находился мечтой в совсем другом мире. Поэтому отреагировал на фамилию Паулинов весьма примитивным способом. Он решил, что это звонит сам Павел, и сколько ни бубнил голос в трубке, что он, собственно, не отец, а сын, Ираклий его не слышал и продолжал гнуть свою линию. Людям свойственно в трудную минуту валить с больной головы на здоровую. Трудно поверить, что ты сам, любимый, был виной творческой неудачи, и подвернувшемуся так не вовремя Павлу Паулинову была тут же уготовлена роль козла отпущения. Тем более что ребята, право слово, вы же знаете, что с Паулиновым нельзя работать. Сценарий из него пришлось буквально щипцами выдирать, он пьяница, а потому человек крайне необязательный, но как всякий пьяница полон не только всяческих фобий, но и гамлетовского самомнения, все-то ему нужно, ничтожеству, знать смысл жизни.
– Нашелся, батенька мой! – громыхал Ираклий. – Нажрался огуречного рассолу и решил вспомнить дружка? А где ты раньше был? Ты знаешь, как мы тебя с Аркашкой искали? Но ведь ты работать не умеешь! Ты знаешь, куда делся отснятый материал? А он мне, между прочим, очень нужен. И я нашел способ, как вывезти его за пределы отечества.
– Понимаете, я сейчас вам все объясню… – блеяла трубка.
– Ты вор, и Аркашка – вор! Только у вас ничего не выйдет. Если вы хоть кадр используете из отснятого материала, я подам на вас в суд. А в Штатах, между прочим, к этому относятся очень серьезно. Это у нас всем наплевать на авторские права. А из-за бугра я вам такой счет предъявлю, что будет международный скандал. Слушай, Павлуша, давая полюбовно. Давай я у вас все куплю. Больших денег не дам, что же я свою собственную работу буду у вас за тысячи покупать? Но в нашей реставрированной совдепии деньги всегда деньги. Да и никто вам за них не только доллара, рубля не даст!
Когда недоразумение разъяснилось, Ираклий Иосифович сообразил сменить тон. Если до этого он скандалил и грубил, сохраняя при этом свойские, почти родственные отношения, то сейчас он стал и вовсе не приступен.
– Ну и что же вы от меня хотите, молодой человек?
– Я хочу узнать у вас, что вы знаете о моем отце.
– Здрасте, – рявкнул Ираклий. – Что я могу знать о вашем отце, если мы расстались пять лет назад?
– Мне ваш телефон дала Галина Ивановна Штырева, – уважительно объяснял Ким. – Понимаете, я совсем не знаю моего отца. А сейчас из-за некоторых обстоятельств, не стоит объяснять природу наших отношений. Не потому, что тайна, а просто это слишком долго… Так вот, она говорила, что вы знали местожительство отца в то время.
– В какое – в то? Когда он от Галки сбежал?
– Именно. Я знаю, что он жил на квартире у некого человека и хотел бы узнать у вас его адрес или телефон.
– Вона чего захотели! Я помню только, что это был крайне неприятный больной субъект. Между прочим, такой же пьяница, как и ваш батюшка. Мало того что алкаш, так еще сумасшедший.
– Почему? – вскричал Ким, ему очень неприятно было думать, что отец по доброй воле коротал жизнь с душевно больным. – В чем это выражалось?
– А у него была мания чистоты. Он себя отмыл до дыр. Лицо – цвета салата. Хорошенькое сочетание, – доверительно хмыкнул Ираклий, – изгой, помешанный на санитарии.
– Отец снимал у него угол?
– Ой, дорогуша, не знаю я! Кажется, этот субъект был его родственником. Но, может, я все путаю. Я был у них на квартире всего один раз.
– А где это? Вы не можете вспомнить?
– Где-то в районе Мясницкой. То ли в Кривоколенном, то ли в Златоустовском.
– Может, у вас адрес где-нибудь записан?
– Может, и записан, да его уже не найду. Я на узлах живу. Скоро в Америку уезжаю. Единственно, чем я могу вам помочь, это дать телефон Аркадия, потому что я помню его наизусть. Вы пишите? Записывайте, – он подиктовал цифры. – Аркадий – мой оператор, с которым я вдрызг разругался. И не без помощи вашего папеньки!
– Я, наверное, вмешиваюсь не в свои дела, но что вы толковали про украденный материал. При чем здесь мой отец?
– Вот именно – не ваши дела. И забудьте об этом. А если вспомните, что передайте Аркаше мой привет. И напомните про обещанный суд! И отцу вашему передайте, что я как имел права на его сценарий, так и имею. Да, ему не заплатили полностью, но нам всем не заплатили. Но аванс был, поэтому и права на сценарный материал сохранены.
Уже повесив трубку, Ираклий Иосифович с недоумением окинул взглядом телефонный аппарат. «Что это он так вдруг завелся, зачем разоткровенничался с этим мальчишкой». И не нужны ему никакие пленки. Год назад были нужны, когда он надеялся возобновить работу. Иван III со всеми его великими делами и в России никому не нужен, а уж во Флинте, штат Мичиган, где он собирался обосноваться рядом с тетушкой, это вещь сотой необходимости. И вдруг грустно стало Ираклию Иосифовичу в предчувствии своей абсолютной ненужности в богатой и нелюбопытной к чужой истории стране.
А Ким из разговора вынес твердое убеждение, что он найдет отца. Вот только сделай последнее усилие, а потом протяни руку – и ощутишь в ней тепло незнакомой ладони. Мысль эта волновала, пугала, голос неведомого наблюдателя шептал: «Дальше не лезь, не к добру, жил без отца, и дальше можешь жить», и сколько ни гнал он от себя этот противный, с прагматическим привкусом голос, сам-то он знал, что косматое чудище, живущее внутри него коммунальным квартирантом, на этот раз, пожалуй, право.
Аркадию Ким позвонил в тот же вечер. Приятный женский голос сообщил, что мужа нет дома, он в экспедиции и когда вернется – неизвестно.
– Позвоните через месяц, молодой человек.
7
А в среду, упредив о своем приезде телеграммой, на голову Кима свалилась сахалинская тетка Варвара. Со стороны матери у Кима имелось непросчитываемое количество родственников, расселенных по бывшему Советскому Союзу. Белорусский прадед, твердый середняк, правильно рассудил, что, покончив с кулаками, возьмутся и за него, поэтому быстро продал дом и лошаденку, коров отдал в колхоз безвозмездно, а сам, прихватив семью, подался в город к старшему сыну-студенту.
Детей было одиннадцать душ, из них восемь девок. Двух сыновей убили на войне, а прочие разъехались кто куда, девицы повыходили замуж и дали могучий приплод. В Москве осел только Кимов дед, профессор всевозможных строительных наук. Он рано умер от инфаркта, но Ким его помнил – высокого, бородатого, шумного. Большинство белорусских родственников обосновалось почему-то в Средней Азии. В Московской квартире всегда жила какая-то транзитная родня, пахло урюком и дынями. Дед говорил, что через его квартиру проходит великий шелковый путь.
Развал Союза внес в жизнь свои коррективы, шелковая дорога жизни была прервана. Из СНГ в столицу не наездишься. Здесь не только на покупки, на билет денег не соберешь. И только двоюродная тетка Варвара с завидным постоянством – раз в три года – совершала вояж в Европу. Она летала через Москву в Черкассы, где проживала ее престарелая мать.
Тетка Варвара была веселым человеком. Сама того не ведая, она следовала в жизни советам американского психолога Уильяма Джеймса, утверждавшего, что эмоции связаны с телом обратной биологической связью: вначале человек расслабляет мышцы лица в улыбке, и только потом понимает, что жизнь прекрасна. То есть вначале засмейся, а потом уж соображай, с чего ты ржешь, как лошадь.
Так, шаманя улыбкой, она и нашла свое счастье в лице капитана дальневосточного траулера, хотя сама по себе жизнь никакого такого счастья не сулила. Первый брак в Черкассах был неудачным. Оставив сына на маму и улыбаясь надменно, мол, не на такую напали, юная Варвара завербовалась на Тихий океан. «Ох, и трудно было, – рассказывала она, возбужденно блестя глазами, – и сайру консервировали, и крабов, в путину работали по шестнадцать часов в сутки. Потом повезло, устроилась буфетчицей на китобое». С этого рабочего места до счастья было уже рукой подать.
Теперешний Варварин муж Шурик, прозванный ею «капитаном Бладом», подкармливал родню по всему «шелковому пути» вплоть до Черкасс. Секрет богатства состоял в том, что горбатился капитан не на отечество, а на Японию, которая уже десять лет, как зафрахтовала вышеозначенный траулер.
Теперь тетка собиралась купить квартиру в Москве, чтобы «быть к маме поближе».
– А муж? – недоумевал Ким.
– Одобряет. Шурик по девять месяцев в море. Забежит на недельку, и опять к себе на корабль. Точно так же он сможет «залетать» в Москву.
– Но уж если вы хотите быть «к маме ближе», то не проще ли купить квартиру в Черкассах?
– Ты что? Я там со скуки сдохну!
Здесь тетка Варвара явно подвирала. Еще не придумано было то место на земле, где она могла бы заскучать. Энергия била в ней камчатским гейзером. Она нисколько не удивилась, что Юлия Сергеевна обретается в Лиссабоне. «И правильно, что дома сидеть? Надо же бабе проветриться», – сказала она таким тоном, словно столица Португалии размещалась рядом с Малаховкой. Выгружая на стол подарки и снедь, среди которой была удивительная какая-то выпивка – граненые с хрустальными пробками штофы в благородных этикетках, – она также не удивилась замечанию Кима: «мне пить нельзя», не стала канючить, мол, ну, капельку-то «со свиданьицем» всегда можно, и тут же убрала штофы с глаз долой. Очевидно, слова «мне пить нельзя» были ей хорошо знакомы, то есть имели двойное дно, с которым не поспоришь.
На следующий день тетка, оглядевшись, сказала: «Как квартиру-то… (дальше нецензурное слово). Юлька всегда была грязнухой, а ты вовсе бомжатник развел» и пригласила в дом лифтершу, молодую бойкую женщину, которая начала уборку с того, что быстро собрала старые рукописи, намереваясь отправить их в мусоропровод. Ким отобрал бумаги чуть ли не силой.
– Зачем тебе эта бумажная рухлядь? – недоумевала тетка. – Эти листы плесенью пахнут.
– Мне нужно это для работы!
– Ты что – в писатели заделался? Им же не платят ни черта!
– Никуда я не заделывался! Это у меня хобби такое – вносить в компьютер старые тексты.
– Ска-ажите пожалуйста! У советского народа сейчас одно хобби – выжить.
– По вас и видно!
– Мы – особ статья! – веселилась тетка. – Нам дружественный японский народ с голоду сдохнуть не дает. – Отсмеялась и спросила мирно: – А сам ты, как деньги зарабатываешь? Смотрю, целыми днями дома сидишь, никуда не торопишься…
Хороший вопрос… Он и себе-то не мог объяснить сущность своей работы.
– Я занимаюсь весьма разнообразными делами, – строго ответил Ким. – Например, помогаю художникам и модельерам устраивать просмотры и выставки.
– А трудовая книжка у тебя есть?
– А у вашего капитана Блада она есть?
– А как же! Нам ведь бухгалтерия начисляет зарплату. Кажется, две тысячи в месяц.
– Кажется, – усмехнулся Ким. – Моего приятеля по жуткому блату, там была сложная система подстав «ты мне – я тебе», устроили на теплое место в таможню. В первый же день его посвятили во все тонкости работы. Приятель мой человек активный, горячий, погрузился в деятельность по охране торговых границ с головой. Живет не тужит, заработки выше ожидания. Только через три месяца посыльному из бухгалтерии удалось поймать его на складах и схватить за руку: «Мария Ивановна ругается, что ты за зарплатой не приходишь. Кто вместо тебя будет в ведомости расписываться? У бухгалтерии могут быть неприятности». Приятель был потрясен: «Так здесь еще и государство платит?» Он, сердечный, думал, что на таможне только на взятках живут.
Тетка расхохоталась.
– Именно так… Очень точно подмечено. Но мы работаем с японцами на законных основаниях.
– У нас рыбы нет, а мы на японцев ишачим.
– Да если бы не японцы, траулер наш давно бы на металлолом распилили. А то и вовсе гнил бы, как «Титаник» на дне океана. Да бог с ними, с японцами. Ты говоришь, на модельеров работаешь. А что сейчас в Москве носят? Нет, не так надо ставить вопрос. Что носят, я и так вижу. Ты объясни, что считается модным.
– Объясняю, – начал Ким тоном телевизионной дивы, – В этом сезоне особенно моден стиль «милитари». Блуза цвета запекшейся крови, брюки оттенка нестираных, гнойных бинтов. В этом стиле чувствуется оттенок жертвенности, героизма. Война, если быть объективным, это очень красиво.
– Тьфу на тебя!
– Ты думаешь я дурака валяю? Да это перепев одного французского модельера. Сам по телеку слышал. А вот с одеждой для мясников мне предстоит работать самому. Красные брызги по белому полю…
– Сдурел народ, – насупилась тетка и тут же отодвинула эту тему как негодную.
Вопрос о Любочке и Сашке был задан только на четвертый день. Это был и не вопрос даже, а приглашение пожаловаться.
– Сбежал из семьи? Почему? Мой Валерка, – имелся в виду сын, – тоже сбежал, но она у нас стерва, невестка-то моя. Сама гуляла, а Валерку выгнала, и теперь к сыну его подпускает только потому, что мы с Шуриком алименты в долларах платим. Я хочу Валерку в Москву перевести, в Черкассах и работы нет, но ведь тогда придется и стерву с собой брать. Куда Валерка поедет от сына. А ты говоришь…
– Я теть, Варь, ничего не говорю.
Киму не хотелось жаловаться. Он был рад приезду Варвары Игнатьевны хотя бы потому, что она на время отвлекла его от навязчивой идеи найти реальные, а не виртуальные следы Софьи Палеолог, но тратить освободившееся от призраков время на перемывание грязного белья – нет уж, увольте. Будем говорить о погоде, модах, демократии, королях и капусте. Меньше всего он сейчас хотел касаться сокровенного, но вопрос сам с языка слетел, как говорится, выпорхнул:
– Вы моего отца знали?
– Павла? Что это ты вдруг заинтересовался? Раньше в вашем доме на эту тему не говорили. Павла я мало знала, но ненавижу его, как их всех.
– Кого – всех?
– Алкоголиков. Считается, они больные. А я тебе так скажу. Больных среди них процентов десять, а все прочее – рабы бесхарактерности, распущенности и попустительства собственному «я». Как ты думаешь, что раньше: яйцо или курица. Характер негодный, потому что пьет, или пьет от того, что плохой характер. Здесь обе формулы подходят. Главная черта алкоголиков – они ответственности на себя не хотят брать. Не хотят отвечать ни за своих близких, ни за себя самого. А от такой жизни – пьяной и безответственной – у людей отрафируются совесть и стыд. Вы все очень любите цитировать этого вашего Достоевского, мол, мир спасет красота. Вранье все это. Я считаю, что мир может спасти только чувство стыда. Для нормального человека стыд вещь непереносимая, и он стремится себя исправить. Я бы и молитву такую придумала: «Господи, пошли мне стыд!»
– А страх? Страх может помочь себя пересилить?
Тетка посмотрела на него строго и внимательно.
– Очень даже может быть, особенно когда за свою шкуру трясешься. У нас на «Академике Курчатове» матрос был с каким-то хитрым кожным заболеванием, то ли экзема, то ли псориаз – не знаю. Во время путины на судах сухой закон. Он работает лучше всех, и кожа у него, как у младенца, ни пятнышка. Как на берег сойдет, весь в красный горох, как заварной чайник, а под мышками и в прочих потаенных местах и вовсе мокнущие раны. А был он холостой, а еще пьяница и бабник. Врач осмотрит его, репу почешет: «Аллергия на безделье». Потом сообразили. На берегу он пьет беспробудно, а печень все эту дрянь, все отходы алкогольного производства на кожу и выбрасывает.
– Он испугался и перестал пить?
– Этого я не знаю, но разумный человек, конечно, испугался бы.
– Вы про отца расскажите…
– А я уже все рассказала. Сколько он твоей матери нервов попортил! Юля бедная, всегда боялась, что его с работы выгонят. Работа, это последнее пристанище, это как бы якорь, который не дает выплыть в океан, который по колено. Вот Павел слиняет куда-нибудь дня на три, а то и на неделю, а с Мосфильма звонят: где такой-сякой-эдакий?… Потом явится домой, а Юлька его пытает: «Как же ты мог исчезнуть? Ты же людей подводишь?» А он ей: «Плевал я на всех. Я эту работу ненавижу и решил уволиться». Это он в пьяном угаре, только чтобы продлить отключение сознания, уже уговорил себя – все, увольняюсь. Потом протрезвеет, и словно другой человек. Даже не верит, что говорил такое. Будь моя воля, я бы алкоголиков кастрировала, как котов. Чтобы не воспроизводили себе подобных.
– Вымрем, теть Варь.
– А мы и так уже вымерли. Это раньше Россия была большая страна, а теперь она маленькая. Семью не по квадратным метрам считают, а по людям.
– Я вам тайну открою, теть Варь. Отец роман написал. Я сейчас его рукопись перепечатываю. Роман исторический. О том, как Иван III собирал Русь. Чтобы земли к Москве присоединить, и воевали, и дочерей замуж выдавали, о вообще что только не делали.
– А сейчас эта самая Русь по кускам разваливается. Попомни мне, будет Дальний Восток самостоятельным государством. А что ты хочешь? Ведь ничего никому не жалко!
Вот так нагонит тоску, а сама сядет перед зеркалом и спокойно, с улыбкой начнет мазаться кремом: отдельный тюбик для век, какая-то коробочка особая для щек и подбородка, потом также неторопливо и обстоятельно мажет ладони, потом руки с тыльной стороны.
– Завтра к Любочке пойдем. Вечером. Слышишь, Ким? Я уже договорилась. И подарки Саше давно заготовлены. Что молчишь? Я же слышу – не спишь!
– Теть Варь, – подал голос Ким, – ты штофы иностранные из дома унеси, а то на меня иногда накатывает.
– Да я их уже приятельнице подарила. Пусть ее мужик травится, а своих – побережем.
8
Александр писал Ивану, что пора бы возвратить Литве взятые у нее по перемирию волости, потому что ему, Александру, «жаль отчизны своей». Иван невозмутимо ответствовал, что ему тоже жаль своей отчизны, Русской земли, которая все еще находится под Литвою. В числе прочих назывался Киев и Смоленск. В каждом письме Иван спрашивал зятя, почему он не строит дочери церковь греческого вероисповедания. Александр терпеливо отвечал, что закон литовский запрещает увеличивать число православных храмов. Великий князь и царь злили друг друга, как могли, и все вежливо, через велеречивых послов. Кто их рассудит? Кто прав, а кто правее? Тезис – история рассудит – здесь совершенно неправомочен. Евреи вон просят назад в полную собственность Стену плача и окрестные земли на том лишь основании, что эта стена принадлежала им три тысячи лет назад. И за такой-то срок не могли добиться своего и договориться.
У Александра было трудное положение. Он желал сохранить Литву в тех границах, которые завещал ему отец. У него не было сил воевать с Москвой, и он боялся рассориться с ней окончательно. Оставалось вести изнурительные переговоры с Иваном и искать союзников. На какой-то момент он их находил, но ситуация тут же менялась, как ландшафт в дюнах.
Подул ветер, и барханы незаметно переместились, поменяв контуры и очертания.
Особенно ненавистны Александру были заигрывания Москвы с крымским ханом Менгли-Гиреем. Предпочесть дружбу с татарином добрым отношениям с собственным зятем! Но татарин татарину рознь. Иван ненавидел Ахмата, последнего хана Золотой Орды. Ахмат погиб, и теперь Иван ненавидел весь приплод его. А Александр смел искать отношения с Ахматовыми сыновьями! Оба государя, и литовский, и русский, плели интриги, но где было Александру состязаться с медлительным, как бы даже неповоротливым в своем умении выжидать, коварным и дальновидным московским царем. Залогом хрупкого мира была Олёнушка. Царь любил дочь и страдал, подозревая, что сама Олёнушка в любви и привязанности более верна мужу, чем отцу.
А кто лучший советчик в этом тонком деле, как не жена? Иван вспомнил их последнюю встречу, когда Софья, с трудом уперев руки в жирные бока, кричала в голос:
– Я была плохой советчицей? А кто тебе посоветовал басму Ахметову порвать и не платить дань? Чтоб деньги не вернуть – ты смел! Жалко с казной расставаться. Понимаю, жалко. И правильно, что не отдал и войной на Ахмата пошел. А потом ведь и испугался. И что я тебе советовала?. Не быть Москве в рабстве – вот был мой совет. И к благому ты им воспользовался. А кто научил тебя позвать на Русь Аристотеля и прочих муролей знатных? Кто тебе пушки льет и ядра ладит? Итальянцы, коих я с собой привезла.
У бабы, конечно, волос долог, да ум короток, свое участие в делах Ивана Софья сильно преувеличивала, но в тех гневливых словах была своя правда. С женой надо помириться. Иван это не только умом понимал, сердцем чувствовал. Да и привык он к этой женщине, давно не замечал он ее безобразной, болезненной полноты. Кашу маслом не испортишь, на Руси любили тучных женщин. И умела Софья угадать его настроение, речи ее всегда были созвучны той размеренной и грозной мелодии, которая звучала в его душе.
Стражу давно убрали от царицыных палат, но Софья продолжала жить затворницей, никого не принимала, в город не выезжала. Одно приятное событие скрасило ее жизнь. Посеянное разумное, а именно дар Волоколамскому монастырю с заверением в верности, дало свои плоды. Духовник Станислав передал царице послание от игумена Иосифа. Письмо не было пущено через дворцовую канцелярию, и в этом увидела Софья добрый знак. Стало быть, суровый старец отлично понял положение царицы, он увидел подтекст в переданных ей словах и дал понять, что воспользуется ее покровительством.
Как раз в это время царь послал в Венецию с посольством грека Дмитрия да Митрофана Карачарова. Ехали они по торговым делам и через посредника испросили царицу, что желает она иметь в подарок с латинской земли. Софья ответила – ничего. Конечно, посольские не стали бы что-либо «испрашивать» без согласия Ивана. Но Софья не хотела принять царское прощение столь малой уступкой. Зеркала да бисер венецианский – разве это цена за ее страдания? Она ждала более осязаемого знака царской милости и дождалась.
Утром на выходе из крестовой, где Софья молилась, ее встретил дворецкий с тугим свитком дорогой бумаги.
– От кого? Кто передал?
– Государь Иван Васильевич.
Дворецкий собирался произнести все полагающиеся по дворцовому порядку слова, но царица не стала их слушать. Она вырвала из рук дворецкого свиток и пошла прочь. Развернула бумагу она только в своей горнице, с трепетом ожидая увидеть письменное, по форме изложенное прошение. Но нет, это было письмо от Олёнушки. Софья вздохнула, надела стекла и принялась читать.
Тон послания был обиженный. Софья зримо видела писца, склоненного над бумагой, видела дочь, сидящую за столом, а может, в кресле, у окна, брови вытянулись ниткой, губы слегка пришлепывают, словно вылепляют очередное слово, а пальцы беспокойно теребят перстень на среднем пальце. И через фразу повторяет беспокойно: «Нет, это не так, это зачеркни, а это лучше вот так сказать. Когда перебеливать будешь, не забудь исполнить все в точности!» Не исключено, что сама дочь накарябала послание, в ином месте буквы пляшут, как скоморохи.
«Государь мой батюшка, о церкви я била челом великому князю, но он мне отвечает то же, что московским послам. Ты пеняешь мне, что поп Фома выслан в Москву, но поп Фома не по мне, а другой поп есть из Вильны очень хороший. А кого мне в попы звать? Сам знаешь, что в Москве я не видела никого».
Вон, оказывается, какие изменения случились, пока Софья сидела под стражей! Она помнила священника Фому, худенького, говорливого, обидчивого, но твердого в догматах православной веры. Чем же не угодил он дочери? А может, под чужую диктовку писалось это послание, а Оленушка только подпись начертала?
«А боярыню ко мне из Москвы прислать, как ее держать, как ей со здешними сидеть? Коли батюшка хотел, то сразу бы со мной старую боярыню прислал. В прислуге я ущерба ни в чем не имею и в церковь хожу греческую. А волостей новых мне муж не дает и не дарит, говоря, мол, тесть побрал у него много земель после мирного согласия».
– Ах, ты! – воскликнула Софья. – Смела стала Оленушка!
А дальше, как ни в чем не бывало, словно не наступила только что отцу на больную мозоль, дочь тем же простодушно-обиженным тоном сообщала, что шкурки горностаев, число пятьсот штук, да белок, числом полторы тысячи, она получила, о чем благодарствует, но с черными соболями, о которых раньше наказывала, вышел конфуз. «Я ждала соболя черного с ногами передними и задними и с когтями, а получила шкуры с ногами отрезанными».
Софья понимала, как разозлило и опечалило это послание Ивана, и если он нашел нужным показать его опальной жене, то, значит, прощает и доверяет ей. Царица призвала дворецкого и наказала передать государю, что благодарит его за прощение и нижайше просит о встрече. В этот же день был передан устный ответ Ивана: он звал жену вместе отужинать.
Ужин состоялся на женской половине. Царица расстаралась, чтобы трапеза была праздничной: чаши, кубки, тарели – все было золотым, уксусница и солонки из венецианского стекла, пили греческие вина. Встретились супруги спокойно, словно и не было тяжелой размолвки, лютых казней и угроз. Чарошница разлила мальвазию по кубкам, царица тут же отослала ее прочь – она сама будет ухаживать за государем.
Надо было начинать разговор.
– Не сердись на Оленушку за письмо, государь, – сказала Софья. – Это она по простоте своей.
– Знаю я, кто ее устами говорит, – раздраженно ответил царь. – Я думал, дочь мне помошницей в делах будет, но ошибся.
– Молода еще, неопытна. Ты пошлешь ей соболей с лапами?
– Не в соболях дело.
– Оленушка пишет, что священника Фому отослала от себя. Чем же он ей не угодил?
– Оленушке-то поп Фома гожь, зато Александру не потребен, поскольку вере истинной предан. Князь и крестовых дьяков моих, и поваров, что при дочери были, отослал из Литвы. И пишет с ухмылкой, де, если нам заблагорассудилось приставить к княгине Елене панов наших и служилых людей, то в этом ущемления греческой вере нет. Как же нет, если папа римский, а это доподлинно известно, велел всеми правдами и неправдами склонить Елену к латинской вере! Знаю также, что папа не позволяет Александру жить с иноверкой. Словно они и не венчаны!
– Александр промеж двух стульев сидит. Трудно ему, – примирительно сказала Софья.
Царь так и вскипел.
– А что трудно? У него выбор есть. Я не могу понять его слепое усердие в католической вере! Гедимин не был католиком, вся Русь под Литвой тоже православная. Он все делает мне в укор. Когда ехал турецкий посол в Москву, Александр не позволил ему ехать по Литве. И отговорка глупая, де, посол будет высматривать его государство. Раньше без всякой зацепки ходили послы туда-сюда, его и мои, и гости торговые ходили. Я думал, что мы с ним в любви живем и в мирном докончании, и в креслом целовании, а он ко мне послов не пропускает.
– А величает как? – тихо спросила Софья, понимая, что касается заповедной темы.
– Великим князем, – ответил Иван с издевкой, – не желает признавать меня государем всея Руси. Послы его нагло мне в глаза глядят: «Великий князь Литовский и Русский только тогда согласится признать тебя государем всея Руси, когда ты по договору закрепишь за Литвой Киев». Я про такую нелепицу и слышать не хочу!
– Ему это спускать нельзя, – быстро отозвалась Софья, она уже поняла главную тему разговора, – Бог помогает не ленивым, но деятельным, тем, кто любит правду и судит правильным путем. Окуньков в сметане попробуй, государь. Славные получились окуньки.
Помолчали. Софья покраснела вдруг, прижала руки к щекам и решилась.
– Государь, допусти до себя опального сына. Он не виноват в боярских распрях. Он во всех делах твоих будет верным помощником, – произнесла она быстрой скороговоркой и тут же умолкла.
Иван ничего не ответил. Софья опять стала говорить про Литву и зыбкий мир.
Согласившись на встречу с женой, Иван не собирался освещать в беседе тонкости сокровенного, а теперь вдруг обмяк, разоткровенничался. Была еще одна забота, которая не шла из головы. С одним гонцом прибыло из Литвы три послания: чистый лепет дочери, гневливая грамота от Александра с обидой на «коварство» и третья бумага, это коварство подтверждающая. Уликой было скопированное тайным способом письмо Ивана Менгли-Гирею. «Брат и тесть! – так начал свое письмо Александр. – Вспомни душу и веру!» Как ни пыжился Иван, читать такое было унизительно.
А дело было так. Сразу после казни изменников и смутьянов и заключении Софьи под стражу Иван послал в Крым князя Ромодановского. Письмо к Менгли-Гирею было дружественным. Царь призывал крымского хана помириться с Александром. А на словах Ромодановский должен был передать: «Ты, хан, мирись если хочешь, а царь всегда будет с тобой против литовского князя и ахматовых сыновей».
От Менгли-Гирея князь Ромодановский тут же отбыл в Литву, чтоб сообщить Александру об успешных переговорах. И все бы хорошо, и все бы ладно, если бы в руки литовского князя не попала копия Иванова письма с припиской, которая повторяла устный наказ царя. Теперь князь эту копию в Москву и переслал.
Теперь вставал главный вопрос – кто? Кто посмел сделать копию царского послания и еще отсебятину написать, которая, к сожалению, была правдой? Можно, конечно, предположить, что сам Ромодановский был автором этого художества. Но Иван в это не верил. Князь Ромодановский не дурак, чтобы открыто совать голову в петлю. Скорее всего, копия сделана в Москве и послана с тайным гонцом в Вильно. Приписку мог сделать только близкий к царю человек, с которым все эти политические дела обсуждались.
Принесли третью перемену блюд. Софья молчала, обдумывая только что услышанное. Рассказ царя произвел на нее впечатление. Он сулил какие-то далекие выгоды. Софья пока не обдумывала – какие именно, это она потом наедине с собой сообразит, сейчас главное понять, как правильно дальше вести разговор. Царь неторопливо вымыл руки в лохани, холуйка подбежала с полотенцем.
– Все, все, уходи, – прикрикнула на нее Софья, сама положила на тарель сладкий пирог и спросила Ивана спокойно и буднично: – Ты уже послал Александру ответ?
– Нет еще.
– Ты скажи своим дьякам, чтоб ответ сочинили правильный. И проверь, чтоб опять не приписали какой-либо напраслины. Если Москва восприимница Византии, она должна стать могучим государством и объединить все русские земли. Зять твой Александр отказывает тебе в титуле и в церкви. Титул – есть власть, церковь непостроенная – поругание веры. Власть и вера – вот на чем держится Русь. И все деяния царя должны быть с этим согласованы. Если кто-то захочет ущемить власть или веру, тот враг! А с врагом надо быть беспощадным.
Поменяли свечи в шандалах. Царь вдруг обнаружил, что у него легко кружится голова. Как ни слаба мальвазия против русской водки, но и она будоражит кровь. Эк Софья все по полкам расставила! Видно, на пользу пошло ей сидение под стражей, голова работает, как у мудреца и философа.
– Как попала к Александру скопированная бумага? – спросила Слфья. – Кто твой тайный враг?
– Кто мой тайный враг, – повторил задумчиво Иван.
– Над этим поразмышлять надо. Если дело идет к войне, то враг твой хочет мира.
– По-моему, этот темный человек как раз хочет рассорить меня с Литвой.
– Можешь не слушать светов моих, но я скажу. Бога призываю в свидетели души моей, что не в минувшее время, ни сейчас, я не думала о тебе зла, не имела недоверия к тебе. Муж и жена – едины. Те люди, которые оговорили меня, те и за мир с Литвой стоят. Иль забыл, что Патрикеевы пришли в Москву из Литвы, они Гедиминовичи, а потому двум богам служат. Сейчас они в родстве с московскими царями, но для них и Литва – родина. Помни об этом.
– Что говоришь-то? Одумайся, – прикрикнул Иван. – Отец Патрикеева верой и правдой служил отцу моему, он ребенком меня от тюрьмы спас и всю жизнь служит верой и правдой.
– Служба службе рознь. Здесь вопрос в том, как он сам ее понимает.