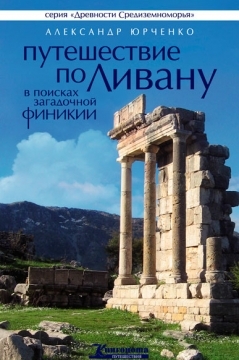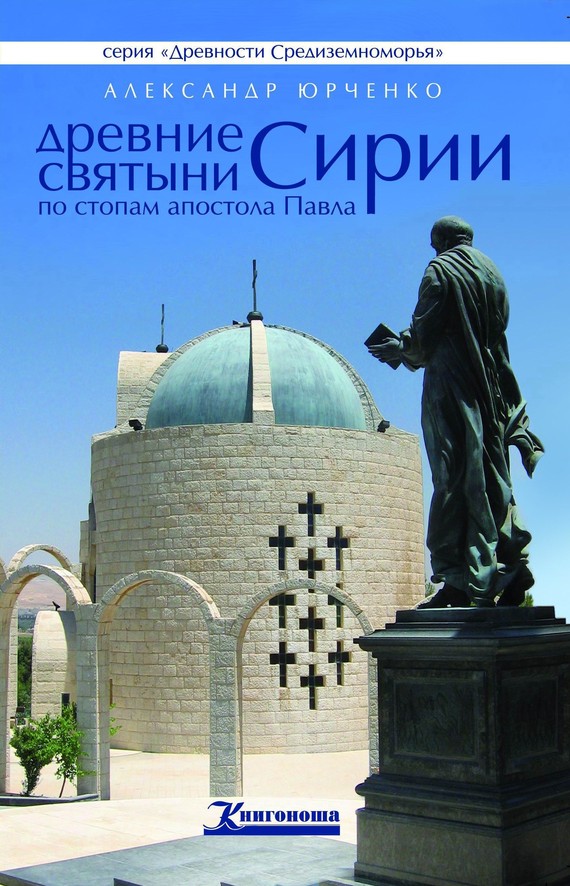Чародей лжи. Как Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду Энрикес Дайана

Обвинители знали, что Фрэнк Дипаскали уже ведет переговоры о том, чтобы признать вину и назвать имена. И все же Литт пока не мог публично оспаривать заявление Мэдоффа о том, что он будто бы совершил свое преступление в одиночку. Несмотря на эту очевидную ложь, было бы глупо тратить время и силы, чтобы уличить Мэдоффа в даче ложных показаний, учитывая, сколько дел еще впереди.
Изложенная Мэдоффом версия преступления преследовала очевидную цель – выгородить его сотрудников и по возможности сохранить состояние семьи, так как обвинение не могло посягнуть на имущество, нажитое до начала аферы. Он поклялся говорить правду, но вместо этого ясно продемонстрировал намерение взять всю вину на себя и утаить своих сообщников.
Когда жертвам Мэдоффа предоставили возможность высказаться, некто Джордж Ниренберг принялся с жаром настаивать на том, что Мэдоффа должны обвинить в заговоре, – совершенно очевидно, что он не мог в одиночку обеспечить весь объем фальшивой документации. Морин Эбел, вдова, потерявшая все сбережения, призвала судью лишить Мэдоффа права до суда признать вину и заставить его пройти судебное разбирательство, с тем чтобы «все лучше поняли глобальный масштаб этого чудовищного преступления».
Судья предложил Марку Литту ответить на заявления жертв, и тот, взяв минуту на раздумья, произнес:
–Думаю, обвинение ограничится тем, что скажет: расследование продолжается. Продолжается непрерывно. Задействованы большие ресурсы, прикладываются большие усилия как по розыску имущества, так и по поиску всех тех, кто может быть причастен к этой афере.Человек, способный ответить на все вопросы, молча сидел за столом защиты.
Далее последовал монолог защиты по вопросу освобождения под залог. Когда Айк Соркин упомянул кордон охраны, выстроенный вокруг Мэдоффа «на средства его жены», жертвы в зале суда горько рассмеялись, свято уверенные в том, что все деньги Рут вынуты из их кармана. Судья Чин призвал зал к порядку.
После пространной речи Соркина Литт встал, чтобы возразить ему. Судья Чин знаком велел ему сесть.
–Мне нет нужды заслушивать сторону обвинения, – сказал он. – Я намерен в дальнейшем содержать мистера Мэдоффа под стражей.
Поднялся одобрительный шум.
–Прошу вас, леди и джентльмены… – воззвал судья Чин, обведя строгим взглядом заполненный зал суда. Воцарилась тишина, но это была другая тишина, не тревожная и враждебная, а миролюбивая тишина благодарной аудитории. Судья продолжил: – У него есть мотив совершить побег, есть средства совершить побег, и, следовательно, налицо опасность побега. Освобождение под залог аннулируется.
После еще каких-то процедурных действий он взглянул на обвиняемого и сказал:
–Мистер Мэдофф, увидимся на вынесении приговора. Заседание окончено.
Мэдофф стоял за столом защиты, в упор глядя на приблизившегося к нему судебного пристава в офисном костюме. По неслышной команде он сложил руки за спиной. Наручники защелкнулись.
Берни Мэдоффа увели в боковую дверь и повели по выложенному белой плиткой коридору – к жизни за решеткой.
13. «Вчистую выигравшие» и «вчистую проигравшие»
В среду 18 марта, после недели шумихи в СМИ вокруг Мэдоффа, в федеральный суд Манхэттена прибыл Дэвид Фрилинг со своим адвокатом – они появились тихо, никем не замеченные.
Бухгалтер Берни Мэдоффа, высокий, подтянутый, в бежевом костюме, явился добровольно и выслушал оглашенное в то утро обвинение в преступном мошенничестве. После обычных действий агентов ФБР и судебных приставов его привели к федеральному судье-магистрату, где он заявил о своей невиновности и был тут же выпущен под залог в 2,5 млн долларов.
В минувший вторник, когда Мэдофф признал свою вину, в Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида) после долгой борьбы с раком умер тесть Фрилинга и его бывший партнер Джерри Горовиц. Горовиц был аудитором Мэдоффа еще в 1960-х годах, когда работал на Манхэттене рядом с Солом Альперном, Фрэнком Авеллино и Майклом Бинсом. Даже основав собственную практику, Горовиц продолжал проводить независимые аудиты, отчеты о которых фирма Мэдоффа ежегодно представляла в Комиссию по ценным бумагам и биржам. И он регулярно инвестировал в Мэдоффа солидную долю собственного состояния и состояний своих родных и друзей.
Схема не то чтобы кошерная. Бухгалтера нельзя считать «независимым», если он инвестирует деньги в фирму, где сам же и проводит аудит. Но в фирме Альперна в Мэдоффа вкладывались все.
В начале 1990-х годов, когда Джерри Горовиц нацелился уйти на покой, Фрилинг унаследовал его практику и перевел ее в небольшой офис в Нью-Сити (штат Нью-Йорк) в пятидесяти километрах к северу от Манхэттена, куда они с женой переехали в 1986 году. Он унаследовал и независимый аудит брокерской фирмы Мэдоффа – и по-прежнему вкладывал в Мэдоффа свои личные и семейные сбережения, как до него поступал его тесть.
Фрилинг, отпущенный под залог, быстро зашагал из суда к черному внедорожнику, ожидающему у тротуара, не обращая внимания на журналистов, выкрикивающих вопросы. Его защитник Эндрю Ланклер, молчаливый человек с волосами цвета платины, сел с ним на заднее сиденье, и автомобиль тронулся. Ланклер изрядно поработал, чтобы не доставить СМИ удовольствия запечатлеть сцены ареста своего клиента агентами ФБР и «выхода преступника» из здания суда. Но его переговоры с прокурорами остались незавершенными, поскольку до сих пор не было ясно, насколько полезным окажется им Фрилинг в поисках сообщников Мэдоффа. Обвинения, выдвинутые против Фрилинга 18 марта, были всего лишь первым ходом этой игры.
Арест, то есть первое за три месяца публичное событие в уголовном расследовании, принес мало ответов на вопросы об афере. Прокуроры прямо не утверждали, что сорокадевятилетний Фрилинг знал о финансовой пирамиде. Его обвинили лишь в косвенном пособничестве афере Мэдоффа посредством лживых утверждений о том, что он проводил независимые профессиональные аудиты фирмы Мэдоффа, тогда как это не соответствовало действительности.
Ни в обвинениях прокуратуры, ни в поданном в тот же день иске Комиссии по ценным бумагам и биржам не упоминалась любопытная встреча Фрилинга в ноябре 2005 года с группой экспертов из фондов Optimal – встреча в самый разгар денежного кризиса с почти летальным исходом, та самая встреча, когда он солгал, будто сверил остатки на клиентских счетах Мэдоффа с данными расчетной палаты DTCC.
Впрочем, юристы Комиссии и федеральная прокуратура говорили, что расследование продолжается.
Между тем в SIPC вопрос «Куда же делись деньги?» так и повис в воздухе. Этот вопрос Ирвингу Пикарду задавали везде, где бы он ни оказался. Этот вопрос был постоянным рефреном на интернет-сайтах и в дискуссиях ток-шоу, чьи участники и слышать не хотели о том, что все эти миллиарды долларов просто исчезли. Источники на Уолл-стрит время от времени звонили журналистам, делясь интригующими намеками и теориями: Мэдофф обратил эти миллиарды в мелкие бриллианты и попрятал их в депозитные ячейки по всей Европе; он скупил роскошную недвижимость по всему миру через панамские подставные компании; его шантажировали русские гангстеры; он был частью заговора по тайному финансированию «черных операций» израильской разведки МОССАД. Не может же один человек потратить на себя столько денег!
Даже не считая фиктивные 64,8 млрд долларов на последних выписках с клиентских счетов, то есть сумму, большая часть которой изначально никогда не существовала на самом деле, все же оставались огромные суммы настоящих денег, по которым ребовалось отчитаться. Эксперты Пикарда оценили сумму всех денежных потерь жертв Мэдоффа (то есть денег, которые они выплатили, но так и не изъяли) примерно в 20 млрд долларов.
Но Пикард знал, куда делась бльшая часть денег.
Помимо сотен миллионов, которые Мэдофф за все эти годы обратил в свое личное пользование, деньги, внесенные инвесторами, выплачивались другим инвесторам – как «прибыли от инвестиций». У Пикарда имелись банковские документы, показывающие, когда и кем изымались деньги. И он знал, на чей счет и в какую страну переводились те или иные суммы. По его расчетам, между крахом Lehman Brothers в сентябре 2008 года и арестом Мэдоффа в декабре из финансовой пирамиды было изъято более 6 млрд долларов. В последний год существования пирамиды изъятия составили почти 13 млрд долларов, большинство из которых поступило в систему с начала 2006 года.
И все же знать, куда делись деньги – это одно, а получить их обратно – другое.
Если федеральный Кодекс о банкротстве позволял Пикарду добиваться возвращения денег, изъятых не ранее чем за два года до объявления о банкротстве Мэдоффа, то закон штата Нью-Йорк удлинял этот интервал до шести лет. (Дело о банкротстве было открыто 15 декабря 2008 года, но суд постановил считать официальной датой 11 декабря, день ареста Мэдоффа.) Изъятия в последние три месяца существования схемы были квалифицированы как недопустимые приоритетные выплаты, или «преференции», и признать их недействительными большого труда не составляло. Изъятия, сделанные в предыдущие пять лет и девять месяцев, в суде по банкротствам подпадают под определение «мошенническая передача собственности», и за их возврат обычно приходится побороться в суде.
Как известно тем, кто хорошо разбирается в законодательстве о банкротстве, термин «мошенническая передача собственности» в данном случае подразумевает недобросовестное намерение Мэдоффа в собственных интересах передавать денежные средства другим людям – именно так он и поступал ради сохранения финансовой пирамиды. Слово «мошеннический» не относится к мотивам тех, кому передавались деньги, и тех, кто просто изымал принадлежащее им, как они полагали, по праву. Но многие инвесторы не были знакомы с юридическим языком и страшно возмущались, когда в письмах Пикарда их законные изъятия именовались «мошеннической передачей собственности», а им самим приказывали связаться с его офисом, чтобы решить вопрос о возврате денег.
По законодательству о банкротствах не имеет значения, насколько чисты мотивы инвестора. Пикарду позволили возвращать через суд все «приоритетные выплаты» и вообще любые деньги, полученные от Мэдоффа в результате его неправомочных трансфертов в установленный шестилетний период. На жаргоне дел по банкротствам такие судебные иски назывались «выцарапыванием», и мелких инвесторов при одном упоминании этой жуткой перспективы бросало в дрожь. Пикард и сам терпеть не мог это слово, но сути дела это не меняло: к концу июня он подал восемь исков против крупных инвесторов и фидер-фондов, чьи изъятия составляли сотни миллионов, а в некоторых случаях и миллиарды долларов.
Против управляемых Карло Гроссо фондов Kingate он подал иск о возврате 395 млн долларов, включая почти 260 млн долларов, изъятых в последние девяносто дней жизни финансовой пирамиды.
Еще примерно миллиард долларов он рассчитывал получить в судебном порядке с десятков счетов, открытых Стенли Чейзом, которому стукнуло уже восемьдесят три. Основатель первого донорского фонда Мэдоффа переехал из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, где проходил лечение. Даже после того, как разразился скандал с Мэдоффом, Чейза заочно чествовали за многолетнюю щедрость к израильским некоммерческим организациям, в числе которых были Научно-исследовательский институт им. Х. Вейцмана, Технион (израильский технологический институт) и Еврейский университет в Иерусалиме.
От Cohmad Securities Пикард добивался возврата 250 млн долларов – среди ответчиков значились имена одного из основателей Cohmad, Мориса (Сонни) Кона и его дочери и президента фирмы Марши Бет Кон, не считая длинного списка работающих там брокеров. Пикард заявил, что брокерская фирма сознательно обслуживала коммерческие цели финансовой пирамиды Мэдоффа, но это утверждение упорно отрицали и вся пошатнувшаяся фирма, и семейство Кон.
Из фондов Fairfield Sentry, управляемых Уолтером Ноэлом, Джеффри Такером и их партнерами из Fairfield Greenwich Group, Пикард пытался вытянуть еще 3,5 млрд долларов. На Fairfield Greenwich работали и другие мелкие фонды, и поэтому Мэдофф его вымел не подчистую. Но в фирме все в один голос отрицали, что им что-либо известно о преступлении Мэдоффа, а нанятые фирмой юристы окопались для затяжных боев.
И, наконец, 12 мая Пикард подал самый многообещающий из первых исков – против Джеффри и Барбары Пикауэр на сумму более 6,7 млрд долларов. Через несколько месяцев эта ошеломительная сумма в ходе дальнейшего расследования группы Пикарда вырастет до 7,2 млрд долларов. Никто, даже сам Мэдофф со всей его семьей, не изымал из финансовой пирамиды сумм, хотя бы приближающихся к этой.
На сенсационный иск против Пикауэра поборники теории заговора слетелись как мухи на мед. Вытягивал ли Пикауэр деньги, чтобы припрятать их для семьи Мэдофф? Мэдофф отрицал это. Будь это правдой, уж он бы точно потребовал деньги назад, чтобы в эти последние месяцы удержать на плаву свою пирамиду. Более того, Мэдофф ясно понимал, что правоохранительные органы будут под микроскопом изучать источники дохода его родных, отныне и до конца их жизни. Другие рассуждали, что, вероятно, Пикауэр-то и был настоящим вдохновителем финансовой пирамиды, а Мэдофф всего лишь вывеска. Мэдофф отрицал и это: будь это правдой, Мэдофф перед лицом страшного 150-летнего тюремного срока непременно разоблачил бы Пикауэра в обмен на снисхождение. Разумных объяснений этому просто не было, разве что, как подозревал сам Мэдофф, Джеффри Пикауэр был чертовски проницателен и понимал: не стоит надолго оставлять в руках Мэдоффа свои прибыли – возможно, фиктивные.
По закону Пикард должен был подать свои иски по возврату ранее выплаченных сумм до 11 декабря 2010 года. До истечения лета 2009 года он обратился в суд с требованием вернуть 13,7 млрд долларов. Все эти суммы были затребованы от крупных фондов либо чрезвычайно богатых частных лиц, чьи юристы были готовы к длительной обороне посредством ходатайств и возражений, которые в конце концов приведут либо к судебному вердикту, либо к некоему соглашению сторон. Такая позиционная война затягивает время и увеличивает судебные издержки, хотя вообще-то подача исков обходилась Пикарду в одну и ту же сумму независимо от того, подавался иск против гиганта или против карлика. Поэтому воевать с карликами не имело смысла, когда вокруг было столько гигантов с деньгами Мэдоффа в карманах.
Тем не менее многие мелкие инвесторы больше всего боялись, что он будет преследовать и их. Их страхи говорили о том, каким настороженным и недоверчивым стало их отношение к Пикарду после встречи 20 февраля. Рост враждебности огорчал его самого и тревожил его коллегу Дэвида Шиэна. Им-то казалось, что Пикард демонстрирует максимальную открытость, гибкость и сочувствие, – насколько это позволял закон. Он лично или через кого-либо из своих сотрудников отвечал на тысячи электронных писем и звонков. Да, это было сложнейшее международное дело о банкротстве, но Пикард, по его убеждению, делал все возможное, чтобы объяснить эти сложности тем, кто пострадал наиболее тяжко. Несмотря на злобные обвинения, которыми его закидывали чуть ли не каждый день, он редко выходил из себя.
Но он не мог отбросить два камня преткновения со своего пути: медленный темп выплат по претензиям и метод подсчета убытков.
К концу июня, после более шести месяцев труда, из 13705 претензий решение удалось вынести менее чем по шестистам. Это было невыносимо мало, и жертвы Мэдоффа, находящиеся в наиболее отчаянном положении, рвали и метали.
Вина за создавшуюся ситуацию лежала не только на конкурсном управляющем. Ввиду того, что документация Мэдоффа устарела, команда Пикарда потратила сотни часов и десятки тысяч долларов на оцфровку миллионов бумажных страниц и микрофишей, чтобы можно было исследовать и сортировать их с помощью компьютера. ФБР тщательно просматривало документы в поисках возможных сообщников, скрывающихся за вымышленными именами на клиентских счетах, и дополнительно отсрочило выплаты по ряду претензий. Министерство юстиции запретило команде Пикарда опрашивать более четырех десятков человек, в том числе более двух десятков сотрудников Мэдоффа. К тому же банкротство – процесс небыстрый даже в лучшие времена.
И даже зная все это, злопыхатели кляли персонально Пикарда, будучи убеждены, что проволочки – прямое следствие его метода подсчета потерь инвесторов. Они уверяли, что дорогостоящее и отнимающее уйму времени восстановление клиентских счетов не потребовалось бы, если бы Пикард просто взял за основу исков от лица SIPC последние выписки со счетов, чего, по их убеждению, и требовал от него закон. Наилучшим способом для Пикарда ускорить процесс удовлетворения претензий, по их разумению, состоял в том, чтобы отказаться от жесткого принципа «сколько вложил, столько и получишь».
Команда Пикарда в конце концов ускорит процесс выплаты по претензиям, создав компьютерную сеть, в которой юристы из разных мест смогут работать одновременно. Но по вопросу о том, как конкурсный управляющий подсчитывал убытки инвесторов, он вместе со своими противниками оказался в патовой ситуации. Он полагал, что толкует закон единственно правильным образом, а тысячи инвесторов – что он абсолютно не прав.
SIPC признала, что некоторые разоренные инвесторы тяжко страдают от задержки выплат. Принуждаемая адвокатами нескольких инвесторов оказать хоть какую-нибудь временную помощь, организация в мае учредила беспрецедентную программу «тяжелых случаев» для ускоренного разбирательства по особо неотложным претензиям, что делалось впервые (либо потребовалось впервые). Но незнакомые и запутанные правила, прилагавшиеся к этой новой программе, лишь пуще разгневали некоторых пожилых инвесторов, нуждающихся в срочной помощи.
Пикард стоял на своем. Суммы выплат будут подсчитываться исходя из принципа «сколько вложил, столько и получишь». При таком подходе на нескольких тысячах клиентских счетов, затрагивающих благосостояние тысяч неведомых людей, «чистых активов» не было вовсе, потому что владельцы счетов к тому времени уже сняли наличных больше, чем вложили. Согласно обидному речевому обороту суда по банкротствам, такие счетодержатели оказались «в чистом выигрыше» и потому им не причиталось ничего до тех пор, пока другие инвесторы не вернут себе свои первоначально внесенные денежные средства, – в переводе с языка юристов это означало «никогда». А что еще важнее для тех, кто оказался в «чистом выигрыше» и в острой нужде, их лишили права на авансовые выплаты SIPC в размере до 500 тыс. долларов.
Такого исхода ожидали многие специалисты по законодательству о банкротствах. С их точки зрения, это был единственно возможный метод подсчета потерь от пирамиды, не раз обкатанный в суде. Но некоторые инвесторы Мэдоффа были убеждены, что во всем виновата SIPC, это она своей властью меняет устоявшийся порядок ликвидации финансовой пирамиды, а иные были готовы вступить в битву, чтобы доказать это. Одним из таких инвесторов была юрист из Нью-Джерси по имени Хелен Дэвис Чейтмен.
По резюме Хелен Чейтмен не скажешь, что она годится на роль Жанны д’Арк в войне, разразившейся вокруг методологии подсчета чистых активов. В середине 1970-х годах она закончила колледж Брин-Мор и решила поступить в школу права. В фирме Phillips Nizer она занималась частной практикой, попеременно работая в офисе фирмы на Манхэттене и в небольшом ее представительстве в Нью-Джерси. Она специализировалась на делах, связанных с ответственностью кредитора, которая определяется законом о банкротстве и представляет собой весьма загадочную область – в этом отношении она под стать ликвидационной стратегии SIPC. Чейтмен даже написала на эту тему авторитетный учебник.
Высокая, худая и бледная, с коротко подстриженными соломенными волосами, Чейтмен выглядела гораздо моложе своих лет и говорила с мягкой, успокаивающей интонацией. Но своих клиентов она защищала неутомимо и напористо. В делах, которые Чейтмен вела pro bono , на общественных началах, она яростно отстаивала интересы обездоленных, и ее несомненный дар говорить напористо и убедительно – в суде и вне его стен – очень помогал ей в юридических баталиях.
В этом деле у нее был свой интерес. По рекомендации знакомого она в 2004 году вложила все свои сбережения в Мэдоффа. Стратегия выглядела «надежной и консервативной», писала она позднее. «Я сказала другу, что единственный риск в том, что Мэдофф – мошенник, – продолжала она. – Друг засмеялся и сказал, что у Мэдоффа безупречная репутация среди финансистов и он был председателем NASDAQ».
Со дня ареста Мэдоффа Чейтмен была полна решимости спасти из-под руин все что только можно и найти виноватых. В своих аргументах она опиралась на одно апелляционное дело, которое было связано с куда меньшей финансовой пирамидой, ликвидированной SIPC несколькими годами раньше. Случай финансовой компании New Times Securities Services был сложный и запутанный, и в нем были три группы жертв, в каждой – свои обстоятельства, плюс внутренние разногласия между SIPC и ее собственным конкурсным управляющим, и в результате два отдельных обращения в апелляционный суд.
Одной группе жертв New Times, которая считала, что украденные у них деньги были использованы для покупки известного взаимного фонда, SIPC сделала выплаты по последним выпискам с клиентских счетов, движение средств на которых, в отличие от клиентских счетов Мэдоффа, в точности повторяло реальные отклонения цен котирующихся на Большом табло акций взаимных фондов, повышаясь и понижаясь в соответствии с движением рынка. Это решение никогда не оспаривалось в апелляционном суде.
Но в отношении другой группы жертв New Times, покупавших высокодоходные ценные бумаги, которые были чистой выдумкой построившего «пирамиду» афериста, суд поддержал отказ SIPC делать выплаты в соответствии с последними выписками по клиентским счетам. «Рассмотрение… фиктивных бумажных прибылей в качестве прибылей, находящихся в границах законных ожиданий клиента, приведет к абсурдной ситуации, когда “обманутые” инвесторы в результате мошеннических обещаний фальшивых ценных бумаг пожинают незаслуженные подарки судьбы», – решил суд.
Так какое из решений по New Times применимо к делу Мэдоффа? Акции голубых фишек, которыми клиенты Мэдоффа, по их мнению, владели, были очевидно более похожи на настоящие взаимные фонды, чем на вымышленные ценные бумаги в деле New Times. Но ценность, приписываемая Мэдоффом этим акциям, больше напоминала непостижимую фантастическую ценность фиктивных ценных бумаг New Times, чем правильные цены на взаимные фонды, меняющиеся вверх и вниз. Так что было бы преувеличением сказать, как на том настаивала Чейтмен, что постановление по делу New Times кристально ясно доказывает ее правоту – и вообще кристально ясно доказывает что бы то ни было.
Были и другие решения судов, которые прямо опровергали ее мнение: например, в решении по делу против Old Naples Securities, вынесенном в 2002 году во Флориде, суд признал, что «в судебной практике слишком мало прецедентов, чтобы с уверенностью установить чистые активы клиента в подобной ситуации», а именно в небольшой финансовой пирамиде, ликвидированной SIPC. И тем не менее суд постановил, что позволить жертвам «вернуть себе не только первоначальное вложение капитала, но и фиктивный процент… противоречит логике».
Поэтому Чейтмен основывала свои доводы против Пикарда еще и на собственном прочтении закона 1970 года, создавшем SIPC, и комментариях, сделанных составителями закона для пояснения своих намерений. Она понимала их так, что SIPC была программой страховки, созданной для восстановления доверия клиентов после краха диких рынков 1960-х годов. Доверие инвестора можно было поддержать, только если SIPC удовлетворит «законные ожидания» клиентов. В этом случае, доказывала Чейтмен, законные ожидания клиентов были основаны на последних выписках по счетам, которые они получили непосредственно перед тем, как волшебное королевство Мэдоффа растаяло в воздухе.
Однако этот тезис не бесспорный. Сам по себе закон о SIPC не предписывал конкурсному управляющему рассчитывать чистые активы в пирамиде каким-либо определенным способом. Он также не содержал прямого указания конкурсному управляющему удовлетворить требования по последним выпискам, вне зависимости от обстоятельств. Однако витиеватое определение «чистых активов» в законе могло укрепить позицию Чейтмен. Там говорилось, что термин «чистые активы» означает «сумму, которой обладала бы брокерская фирма, если бы ликвидировала все позиции по ценным бумагам клиента, за вычетом тех денег, которые клиент еще был должен фирме за эти ценные бумаги».
Ирвинг Пикард сообщил, что жертвы Мэдоффа годами выплачивали за показанную в отчетах о состоянии их счетов «торговлю ценными бумагами» чисто символические деньги – из фиктивной прибыли, которую Мэдофф записывал на их счета. В действительности за ценные бумаги, показанные в выписках по счетам, они не заплатили Мэдоффу ни цента настоящих денег, за исключением сделанных ими нескольких взносов наличными, за что Пикард отдает им должное.
Некоторые предыдущие судебные решения противоречили тому, как Пикард трактовал эту часть закона, и вопрос требовал разъяснений суда или Конгресса. Однако нельзя сказать, что он взял свое определение «чистых активов» с потолка или что его позиция прямо противоречила закону и всем предшествующим постановлениям судов.
Но об этом-то и говорила Хелен Чейтмен – говорила неоднократно, красноречиво, пространно, на любой из доступных ей площадок. По ее мнению, в этом вопросе между разумными людьми не может быть расхождений и здесь нет нужды в юридических разъяснениях. Она доказывала, что определяет «чистые активы» правильно и что Пикард умышленно игнорирует закон, чтобы обсчитать жертв Мэдоффа и защитить SIPC, а заодно и хозяев Уолл-стрит.
Ее клиенты и почитатели не усомнились в ее правоте ни на минуту. Для тех, кого трагически ошибочным образом назвали «вчистую выигравшими» и кому в соответствии с исследованием Пикарда SIPC отказала в компенсационных выплатах, Чейтмен была светочем надежды на лучший исход. Они безоговорочно ей доверяли.
Непоколебимое мнение Чейтмен зазвучало с удвоенной силой благодаря набравшему популярность интернет-блогу, который создал и вел декан школы права Лоуренс Р. Велвел, тоже жертва Мэдоффа и критик Пикарда.
Велвела, как и Чейтмен, к Мэдоффу привел доверенный друг, и теперь все его сбережения пошли прахом. Сама его биография ясно говорила о том, что он с первого же дня станет заклятым врагом SIPC: со времен антивоенного движения 1960-х годов он придерживался радикальных взглядов и не скрывал этого. Он был одним из основателей Массачусетской школы права в Эндовере, небольшой и недорогой, призванной обучать студентов из трудящихся классов.
Внешне Велвел походил на добродушного гнома – маленький, коренастый, с округлой белой бородой и в круглых очках. Однако энергии у него было столько, что хватило бы отапливать небольшой город.
На его взгляд, правосудие должно соединяться с «простыми велениями человечности», или это вообще не правосудие. Это означало, что единственно справедливое определение чистых активов – определение, которое обеспечит деньгами SIPC жертв Мэдоффа, иначе они «должны будут жить на пособие или копаться в мусорных контейнерах». Если итогом формулы «чистых активов» «по Пикарду» будет нищета (а для некоторого, пока еще не известного, числа жертв так оно и будет), то формулу Пикарда нельзя назвать справедливой.
Чейтмен и Велвел стали двумя самыми заметными защитниками несчастных «вчистую выигравших». Их анализ дела New Times распространяли по электронной почте и рассылали журналистам как некую непогрешимую доктрину. Любой, кто с ними не соглашался, становился объектом их уничижительной критики в СМИ и на интернет-форумах жертв.
Любопытно, что они пользовались лексикой Уолл-стрит, которую Мэдофф использовал для маскировки своего преступления. Его жертвы именовали себя «клиентами», которые «делали инвестиции». Он зарабатывал «прибыли», а они изымали их в виде «дохода от инвестиций» и даже, видит Бог, платили с них налоги. На тот момент, когда Мэдофф признался в мошенничестве, у них на счетах благодаря этим «прибылям» еще сохранялись определенные суммы денег. Вот эти-то последние зафиксированные остатки по счетам и есть их потери от аферы Мэдоффа. Все ясно и просто.
Но Ирвинг Пикард и Дэвид Шиэн не видели ни «инвестиций», ни «прибылей», ни фигурировавших в отчетах «остатков» на клиентских счетах. Зато они видели махинации, вранье и краденое добро. По их мнению, Мэдофф был обыкновенный вор-гастролер – въехал в город и всех надул. Некоторых посетила счастливая мысль потребовать вернуть деньги, прежде чем он прыгнул в седло и ускакал на закат. Он отдал деньги, чтобы никто не закричал: «Держи вора!» – а откажи он, так бы и случилось. Этим немногим просто повезло – они увернулись от пули и еле-еле избежали ограбления.
Другие жертвы – те, которым не повезло, – не вернули себе ни гроша, прежде чем Мэдофф ускакал не попрощавшись. В их случае пуля нашла свою цель и ограбление состоялось. В понимании Пикарда и его команды, любая добыча, обнаруженная в седельных сумках жулика, когда его наконец изловили, по праву принадлежала тем самым невезучим, тысячам «проигравших вчистую», и больше никому.
Но «выигравшие вчистую» не чувствовали себя везучими. Они тоже считали себя ограбленными, лишившись богатства, которое, как они полагали, у них было. Они чувствовали себя преданными и Мэдоффом, и Комиссией по ценным бумагам и биржам, и они были правы: их предали, как в трагедии. Но предали и «проигравших вчистую», и цену они заплатили повыше – по крайней мере, в пересчете на наличные. Короче говоря, «счастливчики, выигравшие вчистую» не были счастливы и ничего не выиграли. Они, по калькуляции Пикарда, попросту не имели права на немедленную помощь, независимо от того, насколько кто-то из них нуждался.
Работа Пикарда, как долго понимал ее суд, состояла в том, чтобы попытаться усадить всех невинных жертв Мэдоффа в одну лодку, с общим правилом для всех пассажиров: они жертвуют всеми своими фиктивными прибылями, но возвращают себе все изначально вложенные деньги. На день ареста Мэдоффа «выигравшие вчистую» уже получили вложенные деньги назад, а «вчистую проигравшие» – нет. «Проигравшие вчистую» никогда не получали фиктивных прибылей, а «выигравшие вчистую» их получали.
Мэдофф грабил Петра, чтобы заплатить Павлу. Единственный способ исправить это состоял в том, чтобы теперь отобрать деньги у Павла и отдать их Петру. Даже если конкурсный управляющий и нашел бы способ уплатить Петру из некоего иного источника денег, Павел по-прежнему оставался бы состоятельнее Петра, потому что получал фиктивные прибыли, а Петр их не получал. И до тех пор, пока всем каким-то образом не удалось бы вернуть полную сумму, указанную на последних выписках по клиентским счетам, неизбежно получалось бы, что «вчистую проигравшие» будут ущемлены по сравнению с «вчистую выигравшими», а это, как ни крути, несправедливо.
Не было ли сразу после ареста Мэдоффа такого момента, когда для помощи наиболее тяжко пострадавшим от преступления можно было применить иной подход?
Правосудие, обеспечиваемое судами по банкротствам, слепо. К «выигравшим вчистую» богачам вроде владельцев New York Mets оно отнесется точно так же, как к обнищавшим «выигравшим вчистую» – школьным учителям на пенсии или начинающему писателю. Оно одинаково отнесется и ко всем «вчистую проигравшим», будь то богатый хедж-фонд с Карибских островов или вышедший на пенсию мэр из маленького городка в Нью-Джерси. И это правосудие не только слепо, но и медлительно, слишком медлительно, чтобы оказывать срочную помощь.
Существует образец иного подхода. После террористического нападения 11 сентября 2001 года Конгресс признал, что судебная система, которая должна заниматься исками семей жертв против авиакомпаний, аэропортов и Управления аэропортами Нью-Йорка и Нью-Джерси, – это гиблый вариант. Погибли тысячи кормильцев, и их семьям требовалась немедленная помощь, справедливо распределенная. Поэтому Конгресс создал фонд возмещения убытков жертвам, и его чрезвычайный распорядитель был уполномочен разрабатывать решения о возмещении таким образом, чтобы те отражали и справедливость, и милосердие. Все это финансировал Конгресс – в обмен на согласие не подавать в суд на авиакомпании либо иное лицо, которое суд мог признать виновным в небрежности или неосторожности. Окончательное распределение заняло два года, и общее мнение признало его справедливым.Совсем недавно, когда катастрофический разлив нефти весной – летом 2010 года на северном побережье Мексиканского залива причинил населению и бизнесу огромный ущерб, был предпринят похожий подход: чтобы ускорить процедуру распределения фондов, выделенных корпорацией British Petroleum для выплат по компенсациям ущерба, в точности так же был назначен чрезвычайный распорядитель. Эта попытка захлебнулась после того, как чрезвычайный распорядитель пообещал решить проблему быстрее, чем было в его силах. Но притом что у недовольных его постановлениями оставалась возможность обратиться в суд, общее мнение все же признало такой подход более эффективным способом возмещения убытков, чем долгий путь через судебную систему.
Разумеется, чрезвычайный распорядитель гипотетического «Фонда возмещения убытков жертвам Мэдоффа» столкнулся бы с теми же проблемами, с которыми столкнулся конкурсный управляющий SIPC: уголовное следствие, вероятность того, что некоторые жертвы Мэдоффа на самом деле были его сообщниками, недостоверные либо несуществующие документы. Налогоплательщики, не возражающие против денежных возмещений вдовам и сиротам жертв 11 сентября, несомненно, отказались бы платить богатым офшорным хедж-фондам, а единственным карманом, который в возмещении по искам мог сыграть роль British Petroleum, была сама SIPC, которая для того и была создана, чтобы принимать на себя обязательства по банкротному процессу.
И все же была, наверное, возможность некоего принципиального решения SIPC, неформального, индивидуального подхода для оказания экстренной помощи наиболее нуждающимся жертвам, если бы только Комиссия по ценным бумагам и биржам сразу осознала масштаб катастрофы и обратилась в Белый дом, чтобы призвать Конгресс отреагировать более адекватно.
Но действительность конца 2008 года была такова, что Комиссия оказалась связанной по рукам и ногам своей историей отношений с Мэдоффом и к тому же сама находилась в процессе смены руководства, пока новая администрация переезжала в Белый дом. Разделенный Конгресс уже вступил в борьбу за рушащиеся банки, с трудом балансирующие страховые фирмы, автопроизводителей на грани банкротства и несколько крупных брокерских компаний, попавших в опасное положение. Поднималось цунами конфискаций заложенного под ипотечный кредит жилья, росла безработица, а большинство источников потребительского и делового кредита страны охватил паралич.
За отсутствием более продуктивного и гибкого выбора основной возможностью была слепая, медлительная и вызывающая яростные протесты ликвидация в суде по банкротствам руками SIPC.
Судебные иски на предмет «возврата сумм, выплаченных ранее» – неотъемлемая часть ликвидации в суде по банкротствам. Обычно конкурсный управляющий первым делом ищет случаи изъятия денег непосредственно перед крахом финансовой пирамиды. При некотором везении может обнаружиться несколько нетронутых банковских или брокерских счетов либо несколько дорогостоящих игрушек и миленьких домиков, которые можно забрать и продать. Хотя по своей сути финансовая пирамида – это просто банковский счет обманщика с пачкой приходных ордеров на одном конце и чековой книжкой на другом. Источник жизненной силы пирамиды – в деньгах, текущих в нее в виде «инвестиций» и вытекающих в виде «изъятий».
Чтобы вернуть инвесторам утекшие деньги, Пикарду требовалось судиться с теми, кто их изымал, и эту обязанность «выигравшие вчистую» рассматривали как угрозу, направленную непосредственно против них, особенно это касалось тех, кто изъял на миллионы долларов больше, чем вложил изначально. Если бы Пикарда можно было заставить признать за основу их исков последние выписки по их клиентским счетам, тогда в их собственности по-прежнему оставались бы деньги из ликвидационной массы, независимо от того, сколько они изъяли. Это означало бы, что они полностью защищены от процессов по «возврату сумм, выплаченных ранее», и, в свою очередь, возвращение по суду многих миллиардов долларов, чего требовал Пикард, стало бы невозможным.
Пикард исходил из того, что на удовлетворение всех претензий жертв Мэдоффа имеется в наличии ограниченная сумма денег. В его понимании «выигравшие вчистую» уже получили на руки каждый цент каждого доллара, который они вручили Мэдоффу. Но – при самых оптимистичных прогнозах – Пикард опасался, что «вчистую проигравшие» получат лишь двадцать, в лучшем случае тридцать центов на доллар, если Дэвиду Шиэну очень повезет с крупномасштабными исками по «возврату ранее выплаченных сумм».
Если ему не повезет и этот ограниченный фонд наличности уменьшится, а затем будет разделен между всеми клиентами Мэдоффа на основании конечных остатков на их счетах, может статься, что выплата будет исчисляться в лучшем случае несколькими центами на доллар.
Но что, если активы не ограничены? Что, если найденные седельные сумки жулика бездонны? Что, если кто-либо – та же SIPC или Комиссия – возьмет да и прискачет со всеми этими 64,8 млрд долларов, необходимыми для выплаты всех ста процентов остатка по счету каждого клиента?
По закону SIPC могла обратиться за деньгами к Уолл-стрит, а Комиссия могла получать деньги из Казначейства. Вероятно, этот вариант многим жертвам Мэдоффа казался справедливым: жирные коты с Уолл-стрит должны обеспечить те фиктивные прибыли, которые пообещал им Мэдофф, да и нерадивые регуляторы, позволившие случиться этому бедствию, тоже должны скинуться.
Дискуссия вокруг компенсаций ширилась. Почему нужно ограничиться спасением жертв Мэдоффа? В 2008 и в первой половине 2009 года распались или были закрыты буквально десятки финансовых пирамид. И как быть с законными прибылями остальных американцев, потерпевших убытки в том же самом крахе рынка, который вызвал падение Мэдоффа? Отчего фиктивные прибыли, обещанные жуликом, могут волшебным образом вернуться на банковские счета его клиентов, тогда как законные прибыли от реальных честных сделок всей остальной Америки попросту исчезли?
Эти вопросы предвещали если не войну, то что-то вроде нее, и первый выстрел прозвучал 5 июня 2009 года.
В этот день небольшая фирма Lax & Neville подала коллективный иск против Пикарда от имени истцов, чьи требования он отверг. Одним из истцов был семидесятишестилетний житель Нью-Йорка Алан Голдстайн, который, будучи жертвой Мэдоффа, вскоре после его ареста давал показания в Конгрессе.
На слушаниях Конгресса он был красноречив. «Я – человеческое лицо трагедии, – говорил он Финансовому комитету 5 января. – Я говорю не только за себя, но и за многих, которые из-за этой финансовой пирамиды потеряли все».
За свою трудовую жизнь он накопил 4,2 млн долларов пенсионных сбережений и все вложил в Мэдоффа. На протяжении 21 года растущих рынков и подъема конъюнктуры Мэдофф выплачивал ему устойчивый годовой доход, варьирующийся от 8% до 12%. «Я был готов отказаться от сверхвысоких прибылей в годы бума в пользу большей надежности, – говорил он. – Мы доверили мистеру Мэдоффу все, что имели, а теперь пропало все, что я заработал за пятьдесят лет».
После краха он был вынужден обратить в деньги свой полис по страхованию жизни, чтобы выплатить взнос по закладной, пытался продать дом на депрессивном рынке и опасался, что его лишат права выкупить дом. «До этой поры я не мог и представить, что с нами случится такое финансовое бедствие, – добавил он. – В мгновение ока исчезли все сбережения, ради которых я трудился всю мою жизнь… Сегодня, когда я сижу перед вами, я конченый человек».
Он потребовал от Конгресса основать фонд реституции и ввести в действие своего рода чрезвычайное законодательство, которое позволило бы SIPC «ослабить нормы»и распределять деньги с большей скоростью. И заключил: «Мы не доверительные фонды, не хедж-фонды и не банки. Мы обычные люди, которые были жертвами непостижимого преступления и жизни которых перевернулись вверх дном. Мы обращаемся к вам, единственной нашей надежде, за помощью, в которой мы так отчаянно нуждаемся».
Но Конгресс не ввел в действие ни чрезвычайного законодательства, ни фонда реституции. Не вызвали изменений в политике SIPC и призывы к Комиссии по ценным бумагам и биржам. В частном порядке регуляторы могли раздражаться на то, что SIPC решает назревший вопрос расширения связи с общественностью. Но и у самой Комиссии в отношениях с общественностью имелись громадные проблемы, и в битве вокруг чистых активов она вообще не принимала на себя никаких обязательств, пока этого не потребовал суд.
Иск Lax & Neville последовал почти сразу после аналогичного иска Хелен Чейтмен. Она доказывала, что Пикард несправедлив и непоследователен, что процессы по «возврату выплаченных ранее сумм» попросту аморальны и что и иски по возврату, и Пикарда следует исключить из процесса по искам к Мэдоффу, если жертвы вообще хотят добиться правосудия.
Вдохновленные своими неутомимыми защитниками, «выигравшие вчистую» стали более организованными. В письмах в редакции, в постингах в Интернете, в интервью СМИ и в письмах в Конгресс и в суд они отточили свои аргументы против подходов Пикарда, основанных на анализе входящих и исходящих денежных потоков. Некоторые из них учреждали группы защиты, формировали альянсы с другими группами жертв мошенничества и лоббировали в Конгрессе в пользу законодательного акта, который заставил бы Пикарда и SIPC признать их претензии.
«Проигравшие вчистую» были менее склонны к публичным выступлениям. Они нашли молчание не столь ранящим – все-таки Ирвинг Пикард и Дэвид Шиэн вели их бой, и они не хотели подставляться под атаки более шумных «вчистую выигравших». Но так как никто не выступал публично от имени «вчистую проигравших», то сторонников подхода, основанного на анализе денежных потоков, кроме Пикарда и Шиэна, не было видно.
14. За грехи отца
Незадолго до трех часов дня среды 17 июня 2009 года генеральный контролер Комиссии по ценным бумагам и биржам Х. Дэвид Котц, невысокий и подвижный темноволосый человек с глубоко посаженными глазами, вошел в здание шоколадного цвета исправительного центра Metropolitan в глубине федерального комплекса на манхэттенской Фоли-сквер. Котца сопровождала его заместитель, стройная блондинка по имени Ноэль Френджипейн.
Они пришли расспросить Берни Мэдоффа о том, каким образом он более десятилетия ускользал от десятков следователей Комиссии.
В исправительном центре – попросту говоря тюрьме – им указали небольшое помещение для свиданий, обставленное лишь несколькими стульями и не имеющее даже стола, где к ним присоединились Айк Соркин и его коллега Николь Дебелло.
После короткого ожидания вошел Мэдофф в сопровождении охранника, который освободил его от наручников. Несмотря на три месяца в тюрьме, он, если не считать тюремной униформы, выглядел почти так же, как в новостных выпусках и тематических телепередачах последних шести месяцев.
Котц попросил его принести свидетельскую клятву, но Мэдофф отказался. Когда Соркин напомнил, что он обязался «говорить правду», он просто кивнул.
Мэдофф тут же захотел прояснить некоторые вопросы. Он заявил, что прокуратура и Ирвинг Пикард неверно поняли кое-что из сказанного им на декабрьской встрече, когда они обсуждали отказ от обвинения. «Ходит много ложной информации» о деле, начал он, поспешно добавив: «Я не говорю, что я невиновен».
Затем он пустился излагать историю, сплетенную из правды и лжи, о том, что якобы произошло на самом деле, позволив Котцу узнать из первых уст, как он годами вертел юристами Комиссии.
Он утверждал, будто все, что он рассказывал Комиссии о своей стратегии опционной торговли – «конверсии с разделением страйка» – и о компьютерных алгоритмах, было чистой правдой: в начале своей брокерской деятельности он в самом деле с успехом покупал и продавал акции и опционы. «Тут надо нутром чуять, хотя теперь у нас и есть искусственный интеллект, – продолжал он. – Это сочетание новейшей технологии и интуиции трейдера, а я был хорошим трейдером». Он повторил то, что говорил в суде: что афера началась в начале 1990-х как временная мера. «Я набрал обязательств на слишком большую сумму, и стратегия забуксовала, – говорил он Котцу, пересыпая свою речь биржевым жаргоном и переплетая выдумку с правдой. – У меня был европейский банк, я исполнял прямые конверсии, а они делали обратные… Я думал, что справлюсь».
Когда же прибыли снизились, говорил он, «Я подумал: ладно, я просто сгенерирую эти [фальшивые] сделки, а потом рынок придет в порядок и я отыграю назад. Но этого не произошло. Это была моя ошибка. Надо было примириться с потерей пары сотен миллионов и смотать удочки».
В почти сюрреальной манере Мэдофф продолжал уверять Котца – дословно, – что инвестиционная стратегия, которую он якобы применял все эти годы, работала и была настоящей и «не такой уж экзотичной». Крупные фирмы Уолл-стрит могут сколько угодно уверять, что видели его насквозь, но в числе его клиентов было несколько бывших высших руководителей Merrill Lynch и Morgan Stanley, сказал он – и это была чистая правда.
«Люди, более чем достойные доверия, знали, что так можно, иначе они не стали бы клиентами… нужно всего-навсего посмотреть, на каких людей я работал, и вы сами поймете, что это правдоподобная стратегия», – продолжал он. Эти люди «знали всяко побольше, чем этот ваш Гарри» (он имел в виду Гарри Маркополоса). Мэдофф не отказывается признать то, что, даже если бы его стратегия применялась честно, она не приносила бы таких прибылей каждый месяц на протяжении почти двадцати лет, а в многомиллиардном масштабе ее вообще невозможно было применять честным образом, не завалив рынки.
Относительно провальных попыток Комиссии поймать его он отозвался учтиво, но убийственно: «Вероятно, все сводится к слабому финансированию».
Мэдофф ответил и на другие вопросы Котца. В мае 2006 года он, свидетельствуя перед Комиссией, не консультировался с адвокатом, полагая, что отсутствие адвоката убедит всех, что ему нечего скрывать. К тому же он за себя не беспокоился. «У меня на все были ответы, – говорил он. – Концы с концами сходились».
И, нет-нет, он не встревожился, когда в начале 2006 года опросили и Фрэнка Дипаскали, сказал он, как всегда легко солгав: «Он к тому же вообще не знал ни о каких нарушениях». И, нет-нет, он никогда не подделывал документов DTCC для того, чтобы предъявить их Комиссии. Более того, он настаивал, что следователи Комиссии, разбиравшие в 1992 году дело Avellino & Bienes, убедились, что его сделки были настоящими. Он и сам понятия не имел, что у этих двоих «были тысячи клиентов».
Мнение Мэдоффа, которое, по-видимому, складывалось по мере того, как он отвечал на вопросы Котца, состояло в том, что неослабное внимание Комиссии к преступлению, которого он не совершал, ослепило ее в отношении преступления, которое он совершил. Иными словами, они легко могли бы его поймать. Они «задали все правильные вопросы и все же зациклились на торговле с опережением», сказал он. И добавил: «Им в Комиссии и в голову не приходило, что это финансовая пирамида». Даже выяснив номер его счета в расчетной палате DTCC, Комиссия не удосужилась проверить, есть ли на нем ценные бумаги, показанные на выписках с клиентских счетов.
«Это первое, что делают, когда ищут финансовую пирамиду», – заявил он Котцу. Мэдоффа это изумило. Он тогда подумал: «В конце концов, я легко отделался».
В один из редких моментов задумчивости Мэдофф заметил: «Я сам себя загнал в ужасное положение. Это кошмар». До тех пор деловой и собранный, он на миг утратил самообладание, раздумывая о «сущем аде», с которым столкнулась его семья: «Это трагедия, это кошмар». Но вскоре уверенность к нему вернулась, и он принялся уверять, что сделал для отрасли много хорошего – до того, как совершил преступление. «Помимо того, что люди потеряли деньги, хуже всего, на мой взгляд, то, что я отбросил отрасль назад», – сказал он.
К этому моменту Котц начал задаваться вопросом, знает ли сам Мэдофф, где у него проходит граница между правдой и ложью. Один из диалогов этого дня останется в его памяти и месяцы спустя, четко и выразительно.
Подделывали ли вы документы, чтобы представить их Комиссии?
Нет, отвечал Мэдофф почти оскорбленно. И сказал, что представил Комиссии те же документы, что и клиентам.
Но разве эти выписки по клиентским счетам не были фальшивыми?
Нет, не были. Мэдофф сделал паузу секунд в тридцать, прежде чем сделать крохотный поклон в сторону реальности.
«Я понимаю, отчего они вам кажутся фальшивыми», – промолвил он.
В понедельник 22 июня Айк Соркин доставил письмо судье Денни Чину, который на следующей неделе осудит Мэдоффа. «Мы не ищем ни милосердия, ни сочувствия, – писал Соркин. – Со всем почтением мы просим только справедливости, которая всегда была и, надеемся, будет краеугольным камнем системы нашей уголовной юстиции».
Его письмо – дань обрядам американской юстиции. Это был шанс Соркина убедить судью Чина игнорировать требования обвинения – 150 лет заключения, которые обвинители насчитали уже после того, как Мэдофф согласился признать свою вину, – как и требование пожизненного заключения, выдвинутое жертвами Мэдоффа в электронных и обычных письмах, которые прокуроры собрали для предъявления в суде.
Конфиденциальный «доприговорный доклад» федеральной службы пробации только что лег на стол судьи Чина. В нем подробно излагалась история преступлений Мэдоффа и описывался нанесенный им ужасающий ущерб. Доклад рекомендовал тюремный срок продолжительностью 50 лет.
В своем письме Соркин призывал судью подумать о приговоре с десятилетним тюремным сроком. Принимая во внимание возраст Мэдоффа и ранний возраст смерти его родителей, такой срок оставлял хотя бы слабую надежду на то, что однажды Мэдофф выйдет из тюрьмы (в возрасте восьмидесяти трех лет).
Соркину было известно о буре справедливого гнева и «разбивающих сердце историях утрат и обнищания», отраженных в посланиях жертв к суду. Послания, все как одно, требовали посадить Мэдоффа в тюрьму до конца жизни. Гнев жертв, писал он, был «несомненно, оправданным в свете обстоятельств» дела, которое повлекло за собой столь тяжкие последствия для столь многих. Соркин пообещал, что на заслушивании приговора Мэдофф «будет говорить о стыде, который он ощутил, и о боли, которую причинил».
Соркин отметил, что в письмах жертв, представленных судье Чину, не было антисемитского яда и смертельных угроз, как в тех письмах, которые получали Соркин и его клиент. Но все же эти письма глубоко беспокоили Соркина. «Одинаковое звучание заявлений жертв наводит на мысль о желании своего рода группового возмездия, – писал он. – Долг суда в том, чтобы отодвинуть эмоции и истерию, сопутствующие этому делу, и вынести приговор справедливый и соразмерный рассматриваемому поступку».
Когда слова ходатайства Соркина стали известны публике, они только подлили масла в огонь гнева жертв Мэдоффа.В пятницу 26 июня в кабинете Питера Чавкина ожил факс, извергнув «страницу подписей» юридического документа. Когда Чавкин и его клиентка Рут Мэдофф подпишут эту страницу, Рут должна будет передать в пользу государства свое имущество более чем на 800 млн долларов: портфель муниципальных облигаций, манхэттенский пентхаус, пляжный дом в Монтоке, дом в Палм-Бич, квартиру о трех спальнях на Французской Ривьере, яхты и автомобили, мебель и предметы искусств, рояль Steinway, на котором играл ее сын Эндрю, ее шубы, поношенные дизайнерские сумки, старинные драгоценности, веджвудский фарфор и серебро Christofle и даже принадлежавшее Берни студенческое кольцо выпуска 1960 года Университета Хофстра.
Она подписала бы изъятие любой ценимой ею вещи, которую считала своей до того декабрьского дня, когда муж открыл ей, что ее мечта полностью построена на украденных им мечтах других людей, многих из которых она знала и любила всю жизнь.
Предлагая Рут Мэдофф это гражданско-правовое соглашение, прокуратура сделала некоторые существенные признания, как открыто, так и в неявном виде. Обвинение открыто признало, что оно не в состоянии доказать в суде правомерность своих притязаний на имущество Рут стоимостью 14,5 млн долларов (пентхаус на Манхэттене и пляжный дом в Монтоке), приобретенное до того, как началась, согласно заявлению Мэдоффа, его афера. Они признавали также, что она может побороться с ними в суде за другое передаваемое ею имущество стоимостью в 70 млн долларов.
С другой стороны, негласный посыл соглашения состоял в том, что прокуратура не выдвигает уголовных обвинений против Рут Мэдофф. Если бы основания для таковых имелись, не было бы надобности в гражданско-правовом соглашении. Если бы ее можно было обвинить и осудить, они, в соответствии с законодательством о конфискации в уголовном порядке, наложили бы руку на каждый имеющийся у нее пенни, и она никаким образом не смогла бы им воспрепятствовать.
Поэтому в обмен на согласие подписать передачу этих активов без борьбы Рут позволили сохранить 2,5 млн долларов, чтобы она устроила себе новый дом, новую жизнь, какое-нибудь будущее.
Пожалуй, это было единственным возможным для нее облегчением, даже если это соглашение защищало ее только от будущих претензий прокуратуры. Оно не защищало ее от чьих-либо еще исков, включая конкурсного управляющего Ирвинга Пикарда. И оно безусловно не защищало ее от подозрений и оскорблений, с которыми она сталкивалась каждый день в мире за стенами тихой юридической конторы в башне рядом с Крайслер-билдинг.
Так или иначе, она подписала соглашение недрогнувшей рукой, как и Чавкин. В какой-то момент эту страницу передали по факсу судье Чину и в федеральную прокуратуру.
Теперь сцена была готова к понедельничному спектаклю. 29 июня зрители тесно расселись на полированных скамьях богато украшенного официального зала суда со стенами, забранными деревянными панелями и золоченым потолком с кессонами, на девятом этаже здания федерального суда. Судебные приставы внимательно изучали толпу, готовые к любой вспышке неконтролируемых эмоций.
Судья Чин быстро и грациозно, как всегда, занял свое место в высоком резном кресле, а обвинение и адвокаты защиты уже сидели за столом перед ним. За несколько минут до того, как пробило десять часов утра, привели Берни Мэдоффа и усадили его рядом с Айком Соркином. Он похудел. Знакомый серый костюм, белая сорочка и серый галстук, которые Рут дозволено было забрать на прошлой неделе из его квартиры, выглядели взятыми с чужого плеча. Он выглядел осунувшимся, серым, серебряная шевелюра стала тускло-оловянной.
Ждали начала четырехактной драмы вынесения уголовного приговора.
После церемоний, похожих на подъем занавеса, судья Чин пригласил на сцену жертв Мэдоффа. Сотни жертв прислали суду письма и многие в тот день присутствовали в зале. Девять человек попросили разрешения обратиться к суду, и на богато украшенных перилах, отделявших скамьи для публики от места судьи и адвокатов, разместили микрофоны.
Бывший служащий тюрьмы, пенсионер Доминик Амброзино еле протолкался к микрофону с тесной скамьи. Он описал решения, которые изменили жизнь людей и которые были приняты в уверенности, что их деньги размещены надежно. Его пенсионные выплаты, его сбережения, доход от продажи их с женой дома, покупка ими дома на колесах во исполнение мечты о путешествиях – все эти решения они уже не могли отменить, решения, принятые потому, что они доверились Мэдоффу.
Морин Ибел, миниатюрная вдова в возрасте 61 года, выступившая на слушании, направила свою первую стрелу в Комиссию по ценным бумагам и биржам, которая «по своей полной некомпетентности и преступной небрежности позволила психопату обокрасть меня и весь мир». Теперь она работала на трех работах, продала свой дом и множество пожитков. «Я опустошена тяжкими переживаниями», – сказала она.
Несколько мест работы – только это и поддерживало существование Томаса Фицмориса и его жену, которым было по шестьдесят три года. Мэдофф «выманил деньги у своих жертв, чтобы он с женой Рут и двумя сыновьями могли жить в немыслимой роскоши, – сказал он, – жизнью, «подобающей разве что королевской семье, но не обычному вору».
Фицморис зачитал послание своей жены к Мэдоффу. Ее дети наделяют ее «всегдашней любовью и поддержкой», писала она. «А ваши двое сыновей, мистер Мэдофф, наоборот, презирают вас. Вашу жену, и это только справедливо, поносят и избегают друзья и соседи. Вы оставили своим детям наследие позора. Мой брак заключен в раю. Ваш брак заключен в аду, и туда вы, мистер Мэдофф, и вернетесь».
Карла Хиршхорн рассказала, что лишилась фонда на учебу дочери в колледже, зато приобрела полную неясность в связи с тем, как ей теперь оплачивать счета. «С 11 декабря жизнь стала сущим адом, – говорила она. – Это страшный сон, от которого нельзя проснуться».
Шарон Лиссауэр, хрупкая красивая блондинка в светлом летнем платье, перед тем как начать, была готова заплакать. Она доверила Мэдоффу все, а он все украл. «Он разрушил столько жизней, – говорила она мягким, до странного нежным голосом. – Он убил мой дух и разбил мои мечты. Он разрушил мою веру в людей. Он разрушил мою жизнь».
Берт Росс, обаятельный пожилой мужчина, опирающийся на две клюки, подсчитал, что лишился пяти миллионов долларов. Затем он красноречиво описал жизнь Мэдоффа. «Что можно сказать о Мэдоффе? – спросил он. – Что он был филантропом? Он был филантропом на краденые деньги. Хороший семьянин? Он оставляет своим внукам имя, позорящее их. И это он-то правоверный еврей? Он как никто постарался упрочить проклятый стереотип, будто мы заботимся только о деньгах». Росс припомнил Дантов «Ад» и посулил Мэдоффу самый ужасный, нижний круг.
Молодой человек по имени Майкл Шварц объяснил, что часть трастового фонда, которую Мэдофф украл у его семьи, предназначалась «на уход за моим умственно отсталым братом-близнецом». Он заключил: «Я только надеюсь, что его приговорят к такому долгому сроку, что тюремная камера станет ему гробом».
Следующей выступила Мириам Зигман. Она повторила свое пожелание, сделанное во время слушания о признании вины: чтобы его судили публично, чтобы в суде перед присяжными раскрылась вся правда, чтобы он признал «губительные последствия» преступления, из-за которых несколько человек уже дошло до самоубийства.
Последней выступила прекрасно владеющая литературным языком бухгалтер Шерил Вайнстайн, бывший финансовый директор «Хадассы». Через два месяца ее бледное белокожее лицо, обрамленное мягкими светлыми волосами, появится на обложке воспоминаний, в которых она утверждает, что состояла в недолгой связи с Берни Мэдоффом. В этот день она сказала: «Я знала, что важно выступить тому, кто был лично знаком с Мэдоффом». Она красочно описала «эту тварь по имени Мэдофф»: «Он среди нас. Он одет как мы. Он водит машину, ест, пьет и говорит. Под этой личиной настоящая тварь».
Это был печальный многоголосый хор жалобщиков, и песня его то прерывалась тихими рыданиями, то вновь наливалась гневом. Каждая жертва, красноречивая или косноязычная, говорила о том, как горько чувствовать себя обманутым – обманутым Мэдоффом, Комиссией, ходом судебных разбирательств, самой жизнью.
Судья Чин серьезно поблагодарил их и вопросительно склонил голову: «Мистер Соркин?»
В подобных случаях выступление защитника не более чем дивертисмент между актами. Кто сможет защитить человека, причинившего столько горя, загипнотизировавшего зал суда почти на час? И все же Соркин должен был попытаться.
«К тому, что мы услышали, нельзя остаться равнодушным, – сказал он. – Нельзя не проявить сочувствия к страданиям жертв. Это, как выразились некоторые жертвы, трагедия на всех уровнях… Мы представляем глубоко ущербную личность – но, ваша честь, мы представляем человека».
Свою речь Соркин заключил настоянием вынести приговор без мести и гнева. «Мы лишь просим, ваша честь, чтобы к мистеру Мэдоффу отнеслись с пониманием и поступили с ним по справедливости».
Теперь наставало время второго акта, самого Берни Мэдоффа.
Он приготовил речь, похожую на его мартовское заявление, но звучащую куда более характерно для того человека, который существовал до 11 декабря 2008 года.
«Ваша честь, моему поведению нет оправдания, – начал он, повернувшись к судье. – Как простить предательство тысяч инвесторов, доверивших мне сбережения всей жизни? Как простить обман двухсот сотрудников, которые провели бльшую часть своей карьеры, работая на меня? Как простить ложь брату и двум сыновьям, которые провели всю свою взрослую жизнь, помогая выстраивать успешный и уважаемый бизнес? – Он остановился, чтобы перевести дыхание. – Как простить то, что я лгал жене и обманывал ее – жену, которая пятьдесят лет была рядом и все еще остается рядом?»
Он мало-помалу продвигался к смазанному, невнятному описанию содеянного.
«Когда я начал это – свое преступление, – я был убежден, что смогу справиться и выберусь, но это стало невозможным. Чем больше я пытался выбраться, чем глубже увязал в яме».
Он привык к промахам трейдинга, сказал он, они – часть ремесла и он прощал себе их. Но в этом случае он допустил больше чем промах, он допустил «ужасную ошибку в суждениях. Я отказывался принять факт… не смог принять тот факт, что на этот раз потерпел неудачу. Я не смел сознаться в этой неудаче, и в этом заключалась трагическая ошибка».
На бумаге его слова казались глубоким раскаянием, хотя они были зачитаны холодным свинцовым голосом.
«Я в ответе за страдания и боль многих людей. Я это сознаю. Ныне я живу в мучениях, изведав всю боль и все страдания, которые причинил другим. Как указали некоторые из моих жертв, я оставил наследие позора семье и внукам. И с этим я проживу остаток моей жизни. – Слишком поздно он попытался устранить вред, нанесенный месяцами глухой немоты. – Меня винят в том, что я молчал и не выражал сочувствия. Это неправда. Мою жену винят в том, что она молчит и не выражает сочувствия. Нет ничего более далекого от правды. Понимая, какую боль и какие муки я причинил, она каждый вечер плачет, пока не уснет, и меня терзает также и это».
Он рассказал, что они с Рут молчали по совету адвоката. Но добавил, что Рут позже в тот же день выпустит письменное заявление, выражающее ее душевную боль и сострадание к жертвам.
«Я прошу вас прислушаться к этому. Рут невиновна. И я прошу вас выслушать ее».
Невозможность что-либо исправить или изменить, казалось, перечеркивала даже его заключительные слова. Он почти признал это сам: «Я не могу сказать ничего, что исправит содеянное мною… я не могу сделать ничего, чтобы облегчить чью-либо участь. – И напоследок добавил: – Но весь остаток своей жизни я буду жить с этой болью, с этими страданиями. Я прошу прощения у моих жертв. – Он, с изможденным лицом и глубокими серыми ямами в подглазьях, резко повернулся и взглянул на заполненный людьми зал суда. – Я обращаюсь к вам, стоя перед вами, и говорю: простите. Я знаю, что вам это не поможет. – Он вновь повернулся к судье. – Спасибо, что выслушали, ваша честь». – И сел.Речь обвинения тоже была кратким привычным соло перед заключительным актом. Все знали, что прокуратура требовала приговора в 150 лет. Свои резоны прокуроры изложили в меморандуме, несколько дней назад представленном публике. «Более двадцати лет он обкрадывал людей без жалости и раскаяния, – сказала прокурор Лиза Барони. – Ему доверились тысячи, и всех он систематически обманывал».
Но кульминация в этой драме была прерогативой исключительно судьи Чина.
«Несмотря на эмоциональную атмосферу, я не поддерживаю предположения, будто бы жертвы и другие добиваются коллективного отмщения», – заметил он. И согласился с тем, что Соркин и Мэдофф вправе рассчитывать на приговор, «вынесенный объективно, без истерии и неуместных эмоций».
Но на этом он не остановился.
«Говоря объективно, афера была грандиозной, – продолжал судья. – И продолжалась более двадцати лет».
Возможно, говорил судья, до второй половины 1990-х годов Мэдофф не смешивал деньги аферы с активами фирмы, «но ясно, что мошенничество началось еще раньше».
Судья Чин не обнаружил смягчающих обстоятельств. «В подобном случае беловоротничкового мошенничества я бы ожидал видть письма от семьи, друзей и коллег. Но не поступило ни одного письма с описанием добрых дел мистера Мэдоффа, или его доброй натуры, или гражданской и благотворительной деятельности. Отсутствие такой поддержки говорит само за себя».
Судья признал, что, с учетом возраста Мэдоффа, любой приговор сроком свыше двадцати лет является пожизненным. «Но важен сам символ», – добавил он. Предательство Мэдоффа оставило многих, а не только жертв «в сомнениях касательно наших финансовых институтов, нашей финансовой системы, в способности нашего правительства регулировать и защищать и, как ни грустно говорить об этом, в сомнениях в самих себе».
Жертвы «не поддались искушению коллективной мести», заключил он. «Напротив, они поступали так, как было должно: доверились нашей системе правосудия… Осознание того, что мистер Мэдофф наказан по всей строгости закона, может в немалой мере помочь скорее заживить нанесенные жертвам раны».
Он сделал паузу.
«Мистер Мэдофф, прошу вас встать, – приказал он. Мэдофф и Соркин встали. – Решением суда обвиняемый Бернард Лоуренс Мэдофф признан виновным и приговаривается к тюремному заключению сроком 150 лет…»
Его прервали радостные выкрики из зала, но он немедленно пресек беспорядок и начал перечислять приговоры за каждое преступление по отдельности. «По букве закона, – добавил он, – приговор должен быть выражен… в месяцах, а сто пятьдесят лет равны одной тысяче восьмистам месяцам». После этого в запись добавили несколько уточнений, а Мэдоффа известили, что у него есть ограниченное право на апелляцию.
Занавес опустился: «Объявляется перерыв».
Мэдоффа снова заковали в наручники и повели к боковой двери. Ему исполнился семьдесят один год, и, будь у него еще две таких жизни, он провел бы их в тюрьме.
Еще одна глава истории аферы Мэдоффа была закрыта всего через три дня после вынесения приговора. В восьми километрах от федерального суда по направлению к окраине в гардеробной главной спальни пентхауса на Восточной Шестьдесят четвертой стояла судебный маршал (пристав), и Рут Мэдофф выясняла у нее, какие вещи можно разложить по коробкам и забрать с собой.
Рут Мэдофф оставляла технику, мебель, предметы искусства, дизайнерскую одежду, вечерние платья, шубы из лучших мехов – все «застрахованное и готовое к продаже имущество» в доме, который когда-то был ее собственным. Ей сказали, что она может сохранить вещи, которые маловероятно продать, и она надеялась сохранить сильно поношенную меховую шубу тридцатилетней давности, которую держала в руках и которая была слишком старой и не стоила ни гроша.
Ну, хоть доллар-то она стоит, ответила пристав. И шуба осталась.
Остались и принадлежности для гольфа: ношеные туфли, три пары старых перчаток, разные и неновые мячи, вязанные крючком чехлы для клюшек; и семь почтовых марок в память Эллы Фицджералд, найденные в кошельке; и двадцатипятицентовик 1967 года, выуженный со дна черной кожаной сумки.
Тем временем каким-то образом стало известно, что в этот день судебные маршалы будут описывать имущество, и снаружи дома установили телекамеры. Чтобы не проходить сквозь их строй, Рут Мэдофф незаметно вышла с черного хода. Так она покинула свой дом в последний раз.
За день до этих событий The Wall Street Journal сообщил в Интернете, что после шести месяцев расследования не найдено доказательств тому, что Рут Мэдофф принимала участие в афере своего мужа.Даже после того, как в марте 2009 года Берни Мэдофф был признан виновным, многое в его преступлении оставалось загадкой. Но одно все знали совершенно точно: его жена и сыновья тоже виновны.
С первых же недель после его ареста разные СМИ постоянно цитировали утверждения неназванных «бывших работников прокуратуры» и «юристов по уголовным делам, следящих за ходом расследования», что Рут, Марк и Эндрю Мэдофф находятся под следствием и вскоре им будет предъявлено обвинение. Статьи в глянцевых журналах будут осторожны в своих спекуляциях. Бесцеремонные комментаторы блогов будут обвинять их огульно. Тележурналисты будут подмигивать и понимающе кивать. Вся эта свирепая самодовольная уверенность в их вине, не подкрепленная ссылками на факты, по сути довела семью Мэдоффа до изгнания.
В эпоху всепроникающих медиа, папарацци с мобильными телефонами и самозваных интернет-комментаторов, постоянно озабоченных, чем бы привлечь внимание к себе, стоит отметить, что эти нападки резко отличались от типичной реакции общества на случаи беловоротничковой преступности в последние сто лет.
Разумеется, такие преступники (мошенники, казнокрады, бесчестные политики, аферисты всех мастей), когда их преступления выходили на свет, подвергались резким нападкам прессы и общества. Но эти атаки почти никогда не были направлены против их жен и детей. Чаще всего на них никогда не обращали внимания либо, по крайней мере вскоре, оставляли в покое. Было несколько исключений, когда иски по уголовному обвинению подавали против близких родственников, которых затем пригвождали к позорному столбу внимания общества. В целом, однако, даже жен и детей казненных убийц оставляли устраивать свои жизни в относительной безвестности, разве что они сами искали всеобщего внимания.
Поучительно изменение с годами отношения к обвиняемым в организованной преступности. Несмотря на широко распространенную увлеченность кровавыми похождениями так называемых «донов мафии» и «капо» преступных семеек, крайне редки были случаи внимания к пожилым миссис Дон-Мафии или к детям капо, даже притом что реалистично мыслящий человек задавался вопросом, насколько известно им, почему муж или отец попросил всех своих близких приятелей носить оружие и спать на матрасах в гараже. Лишь в редких случаях родственники мафиозо искали внимания публики. (Вспомним семью мафиозного дона Готти.) Но тех, кто не искал известности, СМИ обычно игнорировали и тем более не обвиняли публично и многократно в соучастии в преступлениях их мужей и отцов.
И все же возмущение общества, направленное против Рут Мэдофф и ее сыновей, поднялось сразу после ареста Мэдоффа и не прекращалось. Ко времени, когда его признали виновным, это возмущение было оглушительным.
Однако в деле Мэдоффа с самого начала были факты, которые попросту не согласовывались с виной семьи.
Во-первых, тот факт, что никто из них не сбежал из страны. Возможно, Берни Мэдофф, которому ко времени его признания было семьдесят лет, чувствовал себя слишком старым и усталым, чтобы жить как богатый скиталец. И, вероятно, Рут не сбежала бы без него, даже будь она виновной, угрожай ей арест и долгое заключение. Но у его сыновей, если они были виновны, имелись возможность и мотив побега. Финал был ясен еще за несколько недель до его наступления, в банке все еще была кругленькая сумма, а они и их семьи были молоды и относительно подвижны. Нет сомнений, что Мэдофф, прежде чем сдаться, вручил бы сыновьям ключи от самолета компании и достаточно денег, чтобы позволить им комфортно жить остаток жизни за пределами досягаемости закона. В конце концов, если они были его сообщниками, их единственным альтернативным выбором было бы остаться и сесть в тюрьму.
И все же не сбежали ни Мэдофф, ни его сыновья.
К тому же существует его признание. Некоторые враждебно настроенные комментаторы тут же стали измышлять, что Мэдофф и его виновные сыновья инсценировали его признание, чтобы выдать его и тем самым отвести от себя подозрение. Но это бы оказалось бесполезным жестом, разве что они были абсолютно уверены в том, что позднее не выплывет никаких уличающих их доказательств и никто из их сообщников более низкого уровня не укажет на них в обмен на снисхождение суда, – а все эти предположения могли быть близки к реальности, если сыновья Мэдоффа и в самом деле были виновны. Более того, если Мэдофф искренне верил, что кто-либо может избавиться от подозрений, сдав его, разве он не обеспечил бы такой возможности для Рут?
Вопреки логике, предположения о виновности семьи начали раскручиваться в противовес тому факту, что по мере того, как продвигалось следствие по делу Мэдоффа, предсказанных арестов его жены и сыновей так и не произошло.
Надо признать, что юридические препоны для доказательства того, что Рут, Марк или Эндрю Мэдофф разделяют вину Берни Мэдоффа, были существенны. Чтобы связать членов его семьи с финансовой пирамидой, прокуратуре пришлось бы не только доказать, что имеются основания подозревать их в мошенничестве либо в том, что, зная о мошенничестве, они сознательно отвернулись в сторону. Недонесение о преступлении, которое некто просто наблюдает, практически никогда не считалось нарушением федерального уголовного законодательства. Напротив, прокуратура должна была доказывать, что они сознательно помогали планировать аферу, осуществлять ее или ее прикрывать.
И все же за два года расследования, притом что другие подозреваемые в соучастии потихоньку пытались вести переговоры с прокуратурой и заработать у судов чуточку снисхождения, ни обвинение, ни эти самые подозреваемые не выдвинули никаких публичных (или ставших таковыми в результате искусной утечки) обвинений против Рут, Марка или Эндрю. В самом деле, прокуратура никогда не уведомляла членов семьи официально, как требует закон, что они подозреваются или являются целью уголовного расследования.
Конечно, все эти обстоятельства не означают, что прокуратура когда-нибудь в будущем не станет работать против семьи Мэдоффа. Даже через несколько лет могут всплыть новые улики. И, помимо аферы, семья не защищена от исков федеральной налоговой службы по причине использования ею время от времени денег компании, кредитных карт и займов под низкий процент. Но это указывает на недостаток доказательств в поддержку даже формального извещения о том, что они были объектами уголовного расследования в те месяцы и годы, когда их неоднократно публично обвиняли в том, что они сообщники Берни Мэдоффа.
Еще один факт, выявившийся в этом деле очень рано, наводит на мысль, что прокуратура не верила, будто сыновья Берни хоть что-то знали о преступлении до признания их отца: Марка и Эндрю Мэдоффов продолжал представлять все тот же адвокат, Мартин Флюменбаум.
Обычно двух подозреваемых никогда не представляет в уголовном расследовании один и тот же адвокат по причинам столь очевидным, что большинству людей даже не нужно размышлять над этим. Что будет, если у подозреваемых А и В один и тот же адвокат и при этом подозреваемый А решает заключить сделку и дать показания против подозреваемого В? Кто поможет А в переговорах с прокуратурой – тот же самый адвокат, для которого также дело чести действовать в наилучших интересах подозреваемого В? Уж точно не он.
Если бы братьям стало известно, что они находятся под уголовным преследованием и для них лучше пойти друг против друга и постараться договориться с прокуратурой, то представлять их обоих было бы для Флюменбаума поступком неэтичным. Даже если бы братья по какой-то причине поклялись в виновности друг друга и если бы уголовное дело велось против одного из них или против них обоих, прокуратура едва ли разрешила бы Флюменбауму представлять обоих сыновей.
Но Флюменбаум оставался на посту в одиночестве. Опытный адвокат защиты понимал значение этого, а публика в целом – нет.