Санкт-Петербург. Автобиография Федотова Марина
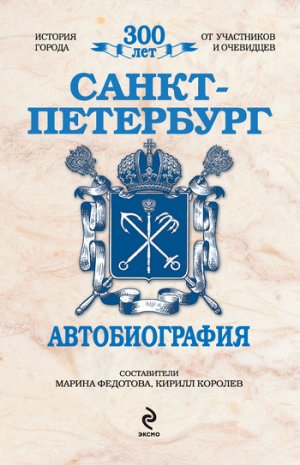
Журналист В. Г. Авсеенко в книге «200 лет Санкт-Петербурга» подвел итог второму столетию со дня основания города.
Поэт (Пушкин. – Ред.) не узнал бы «Петра творенье»: столько перемен, столько улучшений с тех пор! Петербург за последние 70 лет разросся, разбогател, благоустроился, население его учетверилось, бюджет расширился до 28 миллионов. «Мосты повисли над водами» уже не деревянные, а чугунно-каменные; главные улицы осветились электричеством, и в этом отношении с минувшей зимы, когда проложены новые кабели и поставлены новые фонари, Петербург не уступает ни одной из европейских столиц... Все обещает в будущем такое развитие городского благоустройства, которое сделает Петербург вполне достойным его значения – столицы русской империи и резиденции ее царей.
Впрочем, за блеском праздника скрывались и «язвы Петербурга», и нараставшее брожение среди рабочих и студентов, а природа, словно в нарочитом стремлении испортить праздничный год, преподнесла малоприятный сюрприз: осенью случилось сильное наводнение. Как писали газеты, «Петербург постигло страшное стихийное бедствие. Давно небывалое по силе и размерам наводнение причинило большие опустошения, всей силой обрушившись, главным образом, на столичную нищету, подвальную голытьбу. Есть человеческие жертвы...»
Очевидцем этого наводнения оказался А. Н. Бенуа.
Одним из памятных событий осени 1903 года было то наводнение, в котором чуть не захлебнулся Петербург. Это бедствие не достигло тех размеров и не имело тех трагических последствий, которыми прославилось наводнение 1824 года (повторившееся почти день в день через сто лет), однако все же вода в Неве и в каналах выступила из берегов, и улицы, в том числе и наша Малая Морская, на несколько часов превратились в реки. Из своих окон мы могли «любоваться», как плетутся извозчики и телеги с набившимися в них до отказа седоками и с водой по самую ось и как разъезжают лодочки, придавая Питеру вид какой-то карикатуры на Венецию. Мне это наводнение пришлось до чрезвычайной степени кстати, так как я получил тогда новый заказ сделать иллюстрации к «Медному всаднику» от Экспедиции заготовления государственных бумаг. Стояла не очень холодная погода (южный ветер нагнал нам бедствие), и когда вода довольно скоро отхлынула, то я смог пройтись по-сухому по всей набережной. По дороге, под все еще всклокоченным небом с быстро мчавшимися розовыми облаками, очень жуткими показались мне огромные дровяные баржи, выброшенные на мостовую Английской набережной!
Сохранилось много фотографических свидетельств этого наводнения, не в последнюю очередь благодаря самому модному фотографу Петербурга начала XX столетия К. К. Булле, который также иллюстрировал юбилейное издание «Невскийпроспект», посвященное 200-летию города. По фотографиям Буллы выпущено более 1000 открыток с видами Санкт-Петербурга.
Отметив двухсотлетие и пережив наводнение, город погрузился в привычную повседневную суету, не подозревая о грядущих испытаниях...
«СТАЛЬНОЕ СЛОВО “ПЕТЕРБУРГ”»
Третье столетие
Трамваев скучные звонки,
Автомобиль, кричащий дико.
Походки женские легки,
И шляпы, муфты полны шика.
Вдруг замешательства момент.
Какой-то крик, и вопль злодейский…
Городовой, как монумент,
И монумент, как полицейский.
Не видно неба и земли,
Лишь камни высятся победно
И где-то Русь живет вдали…
Живет загадочно и бедно.
В. Ладыженский. На Невском. 1910
В третьем столетии со дня основания Санкт-Петербург пережил столько, сколько иные крупные города не испытывали за всю свою историю: три революции (даже три с половиной, если считать очевидно революционные настроения в обществе второй половины 1980-х годов), три переименования, утрату столичного статуса, разгул бандитизма в 1920-х годах, голод, восстановление промышленности, войну и страшную двухлетнюю блокаду, возрождение из военного пепла, прозябание в годы застоя, обретение полуофициального титула «культурной столицы» и превращение в современный город с характерными для мегаполиса проблемами и несомненными достижениями... Пожалуй, ничего подобного – и все за каких-то сто лет – не выпадало ни одному городу в мире.
«Блистательный Петербург» навсегда остался в прошлом; новый Петербург пишет новую историю – конечно, не с чистого листа, но смотря вперед, а не оглядываясь назад.
Кровавое воскресенье, 1905 год
Николай II, Петр Рутенберг, Анатолий Кони
Едва успели отгреметь фанфары в честь юбилея города, как страна вступила в «десятилетие невзгод», по выражению В. В. Шульгина. Открыла это десятилетие русско-японская война; неудачи на суше и на море усугублялись агитацией марксистов и прочих оппозиционных партий в столице и других крупных городах и привели к резкому всплеску антиправительственных выступлений. В Петербурге к тому времени уже сложилась «традиция бунтов»: в 1901 году забастовка рабочих Обуховского сталелитейного завода переросла в столкновения с полицией (так называемая Обуховская оборона).
«Собрание русских фабрично-заводских рабочих», которое возглавлял священник Георгий Гапон, также решило начать забастовку. Бастующие верили в «доброго царя» и полагали, что император не ведает «о бедах народных», поскольку «дурные министры» скрывают от него правду.
О том, как Николай II воспринимал происходящее, позволяют судить его дневниковые записи.
8 января. Суббота. Ясный морозный день. Было много дела и докладов. Завтракал Фредерикс. Долго гулял. Со вчерашнего дня в Петербурге забастовали все заводы и фабрики. Из окрестностей вызваны войска для усиления гарнизона. Рабочие до сих пор вели себя спокойно. Количество их определяется в 120 000 человек. Во главе союза какой-то священник-социалист Гапон. Мирский приезжал вечером с докладом о принятых мерах.
9 января. Воскресенье. Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело! Мама приехала к нам из города прямо к обедне. Завтракали со всеми. Гулял с Мишей. Мама осталась у нас на ночь.
Рабочие собирались подать императору петицию о народных нуждах, причем эту петицию (в ней содержались требования разрешения деятельности профсоюзов, введения восьмичасового рабочего дня, свободы и неприкосновенности личности, свободы слова, печати, собраний, свободы совести и созыва парламента) предполагалось передать в Зимний дворец.
В шествии ко дворцу приняли участие около 200 000 человек. Путь им преградили армейские кордоны, которые, поскольку уговоры разойтись не подействовали, в конце концов открыли огонь. Это событие вошло в историю города и России как Кровавое воскресенье.
Священник Гапон бежал за границу, но позднее вернулся и по подозрениям в сотрудничестве с полицией был убит социалистом-революционером (эсером) П. М. Рутенбергом, который четыре года спустя опубликовал мемуары «Убийство Гапона». В своих мемуарах он поведал об этих событиях.
Восьмого января войскам роздали боевые патроны. Они заняли все опасные для правительства пункты Петербурга. Отрезали окраины от центра города. Гапона я мог увидеть только 9-го утром. Я застал его среди нескольких рабочих, бледного, растерянного.
– Есть у вас, батюшка, какой-нибудь практический план? – спросил я.
Ничего не оказалось.
– Войска ведь будут стрелять.
– Нет, не думаю, – ответил Гапон надтреснутым, растерянным голосом.
Я вынул бывший у меня в кармане план Петербурга с приготовленными заранее отметками. Предложил наиболее подходящий, по-моему, путь для процессии. Если бы войска стреляли, забаррикадировать улицы, взять из ближайших оружейных магазинов оружие и прорваться во что бы то ни стало к Зимнему дворцу.
Это было принято.
Пошли в ближайшую часовню и принесли хоругви и кресты. Гапон немного успокоился и оправился.
Во дворе «собрания» собралось уже много народу. Ко мне стали обращаться за распоряжениями. Группа рабочих спросила, что хоругви-де имеются, так не взять ли и царские портреты.
Я осторожно отсоветовал.
Предстоявшая бойня казалась настолько бессмысленной, не соответствовавшей интересам правительства, что я опасался возможной патриотической манифестации. Не мне же ей содействовать.
Прежде чем двинуться в путь, надо было предупредить собравшихся, на что идут. Предупредить разброд в случае каких-нибудь неожиданностей.
Гапон так ослабел и охрип, что сказать ничего не мог. От его имени я предупредил рабочих, что солдаты в них, может быть, будут стрелять и ко дворцу не пропустят. Хотят ли все-таки идти?
Ответили, что пойдут и во что бы то ни стало прорвутся на площадь Зимнего дворца.
Я объяснил, какими улицами идти, что делать в случае стрельбы. Сообщил адреса ближайших оружейных лавок.
Когда раздалось последнее «с богом», люди стали усердно креститься. Дрогнули хоругви. Дрогнула толпа. Суетливо сжалась у мостика. Еще раз сжалась, стиснутая у ворот. И вылилась на широкое шоссе.
Мои предупреждения о возможности стрельбы, об оружии обратили внимание толпы, но не пристали к ней, не проникли в душевную глубь ее.
– Разве к Богу можно идти с оружием? Разве к царю можно идти с дурными мыслями?
– Спа-си, Го-ос-по-ди, лю-уди тво-я и бла-го-слови до-сто-я-ние тво-е... – разрезало звонкий морозный воздух криком последней надежды и веры десятков тысяч исстрадавшихся грудей.
– По-бе-еды бла-аго-вер-ному импе-ра-то-ру на-ше-му Ни-ко-ла-ю Алек-сан-дро-ви-чу... – звенело фанатической уверенностью заклинания, которое должно было отвести всякое зло, открыть дорогу к лучшему, так необходимому, будущему.
Когда за поворотом улицы увидели выстроившуюся у Нарвских ворот пехоту, запели еще громче, пошли вперед еще тверже, еще увереннее. Шедшие впереди хоругвеносцы смутились было, хотели свернуть в боковую улицу. Но настроение и приказание толпы их успокоило. Они и за ними вся процессия пошли прямо.
Неожиданно из Нарвских ворот появился мчавшийся во весь опор кавалерийский отряд с шашками наголо, разрезал толпу, пронесся во всю ее длину.
Толпа дрогнула.
– Вперед, товарищи, свобода или смерть, – прохрипел Гапон остатком сил и голоса.
Толпа сомкнулась, двинулась вперед.
Кавалерия опять врезалась в нее сзади наперед и промчалась обратно в Нарвские ворота.
Народ, вооруженный хоругвями и царскими портретами, очутился лицом к лицу с царскими солдатами, державшими скорострельные винтовки наперевес.
Со стороны солдат раздался глухой, перекатывавшийся по линии из края в край, резкий треск.
Со стороны народа раздались предсмертные стоны и проклятия.
Передние ряды падали, задние убегали.
Три раза стреляли солдаты. Три раза начинали и долго стреляли. Три раза переставали.
И каждый раз, когда начинали стрелять, все, кто не успел убежать, бросались на землю, чтоб как-нибудь укрыться от пуль.
И каждый раз, когда переставали стрелять, те, кто мог бежать, поднимались и убегали. Но солдатские пули их догоняли и скашивали.
После третьего раза никто не подымался, никто не бежал. Солдаты больше не стреляли.
Через несколько минут после третьего залпа я поднял уткнутую в землю голову.
Впереди меня, по обеим сторонам Нарвских ворот, стояли две серые застывшие шеренги солдат; по левую сторону от них офицер. По сю сторону Таракановского моста валялись в окровавленном снегу хоругви, кресты, царские портреты и трупы тех, кто их нес.
Трупы были направо и налево от меня. Около них большие и малые алые пятна на белом снегу.
Рядом со мной, свернувшись, лежал Гапон. Я его толкнул. Из-под большой священнической шубы высунулась голова с остановившимися глазами.
– Жив, отец?
– Жив.
– Идем!
– Идем!
Мы поползли через дорогу к ближайшим воротам.
Двор, в который мы вошли, был полон корчащимися и мечущимися телами раненых и стонами. Бывшие здесь здоровые также стонали, также метались с помутившимися глазами, стараясь что-то сообразить.
– Нет больше Бога, нету больше царя, – прохрипел Гапон, сбрасывая с себя шубу и рясу.
То, что так мучило, что так трудно было понять, сразу стало ясно.
В нескольких словах подвели итог всем причинам мучительного векового прошлого, установили программу неумолимого, кровавого будущего...
На этот раз «программа» была уже не кучки интеллигенции, не «преступного революционного сообщества».
Гапон надел шапку и пальто одного из рабочих.
Через забор, канаву, задворки мы небольшой группой добрались в дом, населенный рабочими. По дороге встречались группы растерянных людей, женщин и мужчин.
В квартиры нас не пускали.
О баррикадах нечего было и думать.
Надо было спасать Гапона.
Я сказал ему, чтобы он отдал мне все, что у него было компрометирующего. Он сунул мне доверенность от рабочих и петицию, которые нес царю.
Я предложил остричь его и пойти со мной в город. Он не возражал.
Как на великом постриге, при великом таинстве, стояли окружавшие нас рабочие, пережившие весь ужас только что происшедшего, и, получая в протянутые ко мне руки клочки гапоновских волос, с обнаженными головами, с благоговением, как на молитве, повторяли:
– Свято.
Волосы Гапона разошлись потом между рабочими и хранились как реликвия.
Когда мы оставили за собой кровь, трупы и стоны раненых и пробирались в город, наталкиваясь на перекрестках и переездах на солдат и жандармов, Гапона охватила нервная лихорадка. Он весь трясся. Боялся быть арестованным. Каждый раз мне с трудом удавалось успокоить его, покуда не выбрались через Варшавский вокзал из окружавшей пригород цепи войск.
Я повел его к моим знакомым: сначала к одним, потом, чтобы замести след, к другим.
Если люди эти найдут нужным, они когда-нибудь расскажут, как вел себя Гапон в этот день. Ведь это был день 9 января.
Меня его поведение коробило.
Раньше я знал и видел Гапона только говорившим в рясе перед молившейся на него толпой, видел его звавшим у Нарвских ворот к свободе или смерти.
Этого Гапона не стало, как только мы ушли от Нарвских ворот.
Остриженный, переодетый в чужое, предо мной оказался предоставлявший себя в полное мое распоряжение человек, беспокойный и растерянный, покуда находился в опасности, тщеславный и легкомысленный, когда ему казалось, что опасность миновала.
Он не мог удержаться, чтобы не назвать себя в мое отсутствие совершенно посторонним ему людям; не мог удержаться, чтобы не рассказывать свои планы, несмотря на предупреждение не делать этого. А вечером произнес в Вольно-экономическом обществе перед разношерстным собранием интеллигентов «от имени отца Георгия Гапона» речь, никому не нужную, ничего не значившую, и это в то время, когда на Невском продолжался еще расстрел...
Стачка падала. Оставаясь в Петербурге, Гапон рисковал быть арестованным. Его переправили в имение одного из петербуржцев, место совершенно безопасное, далекое от Петербурга. Перед его отъездом мы условились, что, если настроение рабочих поднимется, ему дано будет знать, и он вернется в Петербург. Если все успокоится, он уедет за границу. Целью поездки за границу будет: объединить под влиянием его авторитета организованные и боевые силы социал-демократов и социал-революционеров. Для этого он должен оставаться вне партий, не объявлять себя членом которой бы то ни было из них и не возбуждать существующей между ними розни публичным одобрением или неодобрением одной из них. В деревне он должен дожидаться от меня указаний и двигаться с места может только в случае опасности быть арестованным или когда узнает, что я арестован. На всякий случай я дал ему адреса и пароли для перехода через границу и для явки за границей. Его снабдили деньгами.
«Подняться» настроению рабочих не пришлось. В первые дни требовали оружия, бомб, планомерного руководства, т. е. организации. Ничего не было. Гапоновская прокламация дошла до рабочих поздно, когда нужда успела уже оказать свое влияние, когда многие стали уже на работу, а накопившаяся злоба притупилась и пошла внутрь. <...>
Гапон спросил, где клозет. Я спустился с ним вниз, показал, а сам хотел вернуться наверх.
Дверь клозета находится рядом с дверью черной лестницы, ведущей на верх дачи. «Слуга» находился не вместе с другими, в маленькой комнате, а рядом, за дверью, на площадке черной лестницы, на случай, если бы пришел дворник. Он должен был его занять и увести от дачи.
Когда «слуга» услышал, что мы спускаемся вниз, ему вздумалось тоже сойти вниз по своей лестнице. А когда Гапон подошел к клозету, они столкнулись лицом к лицу. «Слуга» опешил, очевидно, и бросился назад вверх по черной лестнице, а Гапон, в свою очередь, назад ко мне. Он застал меня внизу на стеклянной террасе (выходящей на озеро). Я еще не успел подняться наверх.
– Какой ужас! Нас слушали!
– Кто слушал?
Он стал описывать одежду и лицо человека, которого видел.
– У тебя револьвер есть? – спросил он.
– Нет, а у тебя есть?
– Тоже нет. Всегда я ношу, а сегодня, как нарочно, не взял. Пойдем посмотрим.
– Пойдем!
Мы подошли к черной лестнице. Она узкая. Я предложил ему пройти вперед. Он инстинктивно отскочил за мою спину.
– Нет, ты иди вперед.
Я поднялся на несколько ступеней, вернулся и сказал, что там никого нет.
– Надо дворника позвать, – сказал Гапон.
Я отказался связываться с полицией.
«Слуга» думал, что мы поднимемся наверх по черной лестнице и пройдем мимо него. Поэтому он открыл дверь, за которой стоял раньше, и спрятался между нею и стеной.
Гапон думал и искал, куда мог скрыться человек.
Мы прошли низом дачи (через большую комнату и веранду) и поднялись наверх. Гапон шел впереди. Заметив открытую дверь на черную лестницу, он прошел туда, заглянул за дверь и увидел того, кого искал.
Он отскочил, как ужаленный. Молча, с остановившимися зрачками, стал меня толкать туда. Потом шепотом сказал:
– Он там!
Я пошел. Вывел за руку оттуда «слугу» и не успел слова сказать, как Гапон одним прыжком бросился на него, умудрился в один миг обшарить его, уцепился за руку и карман, где у того был револьвер, и прижал его к стене.
– У него револьвер! Его надо убить! – сказал Гапон.
Я подошел, засунул руку в карман «слуги», забрал револьвер, опустил его молча в свой карман.
Я дернул замок, открыл дверь и позвал рабочих.
– Вот мои свидетели! – сказал я Гапону.
То, что рабочие услышали, стоя за дверью, превзошло все их ожидания. Они давно ждали, чтобы я их выпустил. Теперь они не вышли, а выскочили, прыжками, бросились на него со стоном: «А-а-а-а», – и вцепились в него.
Гапон крикнул было в первую минуту: «Мартын!», – но увидел перед собой знакомое лицо рабочего и понял все.
Они его поволокли в маленькую комнату. А он просил:
– Товарищи! Дорогие товарищи! Не надо!
– Мы тебе не товарищи! Молчи!
Рабочие его связывали. Он отчаянно боролся.
– Товарищи! Все, что вы слышали, – неправда! – говорил он, пытаясь кричать.
– Знаем! Молчи!
Я вышел, спустился вниз. Оставался все время на крытой стеклянной террасе.
– Я сделал все это ради бывшей у меня идеи, – сказал Гапон.
– Знаем твои идеи!
Все было ясно.
Гапон – предатель, провокатор, растратил деньги рабочих. Он осквернил честь и память товарищей, павших 9 января. Гапона казнить.
Гапону дали предсмертное слово.
Он просил пощадить его во имя его прошлого.
– Нет у тебя прошлого! Ты его бросил к ногам грязных сыщиков! – ответил один из присутствовавших.
Гапон был повешен в 7 часов вечера во вторник 28 марта 1906 года.
Я не присутствовал при казни. Поднялся наверх, только когда мне сказали, что Гапон скончался. Я видел его висящим на крюке вешалки в петле. На этом крюке он остался висеть. Его только развязали и укрыли шубой.
По разным источникам, количество жертв Кровавого воскресенья составило от 96 до свыше 1000 человек убитыми и от 300 до 4000 ранеными. Испугавшись последствий, правительство объявило о начале разработки закона о парламенте. 17 апреля 1905 года был обнародован указ «Об укреплении начал веротерпимости», провозглашавший свободу вероисповедания для неправославных конфессий, а спустя полгода Россия получила высочайший манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», в котором говорилось о создании парламента – Государственной думы.
О том, как проходили первые заседания парламента, вспоминал А. Ф. Кони.
Комендантский подъезд Зимнего дворца запружен военными и гражданскими мундирами, и на каждом повороте лестницы приходится показывать входной билет. Чудная, невиданная погода смотрит в окна тех залов, по которым приходится проходить вплоть до Георгиевской залы, посредине которой стоит аналой, а по бокам возвышения в две ступеньки для Думы и Совета; в глубине залы трон в виде старинного кресла, на которое наброшена горностаевая мантия; к нему ведут несколько ступенек, покрытых малиновым сукном, сзади виднеется обветшалый вышитый орел под балдахином... Государственный Совет занимает приготовленное ему возвышение... входит Государственная дума. «Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний: из хат, из келий, из темниц сюда стеклись для совещаний» – хочется пародировать слова Пушкина... У членов Думы серьезные и «истовые» лица. Густою толпою они занимают все отведенное для них возвышение и даже выступают за его предел. <...>
В дверях залы в предшествии дворцовых гренадер появляются императорские регалии... Регалии становятся по бокам трона, и вслед за тем под звуки народного гимна идет в предшествии духовенства государь и вся царская фамилия. Начинается длинный и скучный молебен, во время которого члены Думы заслоняют от меня царскую фамилию. По окончании молебна великие князья становятся по правую сторону трона тесной и некрасивой кучкой... Женщины становятся на особое возвышение по правую сторону трона. Я не вижу на лицах обеих императриц ни слез, ни особого выражения испуга (о которых так много высказывалось впоследствии). У Александры Федоровны обычный холодный вид и кислая недовольная складка у рта, у Марии Федоровны безразлично-ласковый взор глупой, но доброй женщины. Они обе одеты с ослепительной роскошью и буквально залиты бриллиантами... Но вот и государь... Он идет ровной неторопливой походкою к трону, как бы нерешительно входит на его ступени и садится... Наступает минута молчания. Он дает какой-то знак левой рукой, и министр двора Фредерикс почтительно подает ему бумагу... Государь встает, делает два шага вперед и при первых звуках своего голоса весь преображается, выпрямляется и с оживленным лицом, внятным и громким голосом, в котором слышатся порой чуждые русскому уху, отдаленные звенящие звуки, читает свою речь к «лучшим людям» с большим мастерством, оттеняя отдельные слова и выражения и делая необходимые паузы. В одном месте, где говорится о сыне – наследнике престола, в голосе его звучат ноты тревожной нежности. Но вот он кончил и сделал легкий поклон на обе стороны. В зале звучит сперва негромкое, но потом все возрастающее «ура», которое, мне кажется, исходит от членов Думы, хотя многие при выходе из дворца меня и уверяют, что члены Думы вовсе не кричали, а некоторые даже демонстративно закрывали рот рукой... Я еду домой со смутным чувством, сознавая, что присутствовал при не совсем ожиданном для других участников погребении самодержавия. У его еще отверстой могилы я видел и трех его наследников – государя, Совет и Думу. Первый держал себя с большим достоинством и порадовал мое старое сердце, которое боялось увидеть русского царя объятым недостойным страхом... Второй – жалкое и жадное сборище вольноотпущенных холопов – не обещает многого в будущем, несмотря на свою сословную и торгово-промышленную примесь... Но Дума – что даст она? Поймут ли ее лучшие люди лежащую на них святую обязанность ввести в плоть и кровь русской государственности новые начала справедливости и порядка?..
Основание Пушкинского Дома, 1905 год
Александр Блок, Николай Измайлов
Впрочем, 1905 год памятен России не только Кровавым воскресеньем и разгромом флота в Цусимском проливе; в этом же году в Петербурге был основан Институт русской литературы (ИРЛИ), более известный как Пушкинский Дом.
Идея создания Пушкинского Дома оформилась, как нередко бывало и бывает, в заочном состязании Петербурга с Москвой, на сей раз – из-за памятника А. С. Пушкину. Московский памятник Пушкину (1880), открытый к столетию поэта на Страстной (ныне Пушкинской) площади, заслуженно считался шедевром (скульптор А. М. Опекушин), тогда как памятник петербургский, на Пушкинской улице (1884, все тот же А. М. Опекушин), был весьма скромен; как писал А. Н. Куприн: «Надо говорить правду: это не монумент, а позорище. Величайшему поэту огромной страны, ее пламенному, благородному, чистому сердцу, ее лучшему сыну, нашей первой гордости и нашему оправданию, родоначальнику прекрасной русской литературы – мы умудрились поставить самый мещанский, пошлый, жалкий, худосочный памятник в мире. Вовсе не в маленьких его размерах заключается здесь обида. А в его идейной ничтожности». И петербургские деятели культуры стремились придумать иной памятник поэту – не просто статую, но «учреждение, какого еще не было в России, и притом учреждение, в котором приняла бы участие вся грамотная Россия и которое наиболее соответствовало бы значению великого поэта» (Н. Я. Ростовцев), дом «корифеев литературы» (В. А. Рышков).
Одним из таких корифеев, откликнувшихся на основание ИРЛИ, был А. А. Блок.
- Имя Пушкинского Дома
- В Академии Наук!
- Звук понятый и знакомый,
- Не пустой для сердца звук!
- Это – звоны ледохода
- На торжественной реке,
- Перекличка парохода
- С пароходом вдалеке.
- Это – древний Сфинкс, глядящий
- Вслед медлительной волне,
- Всадник бронзовый, летящий
- На недвижном скакуне...
- Что за пламенные дали
- Открывала нам река!
- Но не эти дни мы звали,
- А грядущие века.
- Пропуская дней гнетущих
- Кратковременный обман,
- Прозревали дней грядущих
- Сине-розовый туман.
- Вот зачем такой знакомый
- И родной для сердца звук —
- Имя Пушкинского Дома
- В Академии Наук.
- Вот зачем, в часы заката
- Уходя в ночную тьму,
- С белой площади Сената
- Тихо кланяюсь ему.
Воспоминания о первых десятилетиях ИРЛИ оставил один из виднейших пушкинистов, заведующий рукописным отделом Пушкинского Дома Н. В. Измайлов.
Я познакомился впервые с Пушкинским Домом осенью 1918 года, когда сдавал государственные экзамены в Петроградском университете в последнюю сессию, проходившую по прежним, еще дореволюционным планам. Нужно сказать, что ни самого «учреждения», ни «Дома» в прямом смысле в то время еще не существовало. Старое и давно устаревшее «Положение о Пушкинском Доме», утвержденное еще в 1906 году, было отменено – если не формально, то фактически – после Октябрьской революции; новое еще не было выработано – его ввели в 1919 году. Не было и собственного помещения, не говоря уже об отдельном здании, и большое, все растущее имущество Пушкинского дома было раскидано по разным местам главного здания Академии наук, начиная с площадки парадной лестницы, где теперь, с 1925 года, находится мозаичная картина Ломоносова «Полтавская виктория»...
Пушкинский Дом в это время уже не ютился на чердаке, в архиве Академии. После того как был закрыт госпиталь, с 1914 года занимавший Большой конференц-зал с его аванзалами, все эти парадные помещения, начиная с главной лестницы, были отданы Пушкинскому Дому, т. е. было восстановлено положение, существовавшее до 1914 года, до начала войны, с той разницей, что тогда коллекции Пушкинского Дома занимали только аванзалы, теперь же они распространились и на Большой конференц-зал. В аванзалах на стенах, покрытых золотыми тяжелыми рамами с портретами президентов Академии наук и членов Российской Академии, была развернута экспозиция музейных коллекций Пушкинского Дома, существовавшая до войны 1914 года. Вдоль стен стояли витрины с мемориальными вещами, редкими книгами, снимками с рукописей... Самым замечательным и характерным был Большой конференц-зал, всецело отданный Пушкинскому Дому.
Здесь были собраны все его коллекции, все еще неразобранные рукописные, музейные и книжные фонды, здесь сидели почти все сотрудники и работали – все это «под диплодоком». Теперь, наверное, почти никто не помнит значения этого «термина». Но тогда все знали, что значит эта таинственная форма, и все говорили: «под диплодоком». Но что же это значит?
Дело в том, что всю левую сторону Большого конференц-зала, вдоль окон на набережную Невы, занимал гигантский скелет ископаемого животного, пресмыкающегося (ящера) диплодока – вернее, не подлинный скелет, а слепок скелета, найденного где-то в Северной Америке. Подлинник хранился в музее одного из американских университетов, а слепок, подаренный американскими геологами нашей Академии, был, кажется еще до войны 1914 года, временно поставлен в Большом конференц-зале, да так там и остался надолго. Скелет стоял на возвышении, поддерживаемый металлическими подпорками. Маленькая головка диплодока на длинной шее упиралась в одну стену зала, костяк туловища занимал его середину, а длинный хвост почти касался позвонками другой стены. Высота же чудовища была такова, что отростки хребта в самой высокой части спины едва не достигали потолка высокого конференц-зала.
Здесь-то, «под сенью диплодока», размещалось разнообразное имущество Пушкинского Дома: множество шкафов, шкафиков, секретеров, бюро, полок с картонными коробками образовывали запутанную сеть, а между ними стояли в разных местах письменные столы сотрудников. В дальнем углу зала из тех же шкафов и полок был устроен особый «закуток», служивший кабинетом и рабочим местом Нестору Александровичу Котляревскому, академику, директору Пушкинского Дома. Здесь он работал – всегда в своем неизменном широком темно-синем халате, – разбирал коллекции гравюр, литографий, портретов и иллюстраций, систематизируя их и определяя; разбирал особенно близкие его сердцу архивы, через него поступившие в Пушкинский Дом и еще не занесенные в инвентарь до окончания их разборки. Здесь же Нестор Александрович принимал многочисленных посетителей по литературным и академическим вопросам, по делам Дома литераторов, в котором он был председателем правления, и проч.
Правую сторону Большого конференц-зала, вдоль окон во двор, между которыми в одном из простенков стояла мраморная статуя академика Александра Николаевича Веселовского, теперь находящаяся у нас, в проходной комнате рукописного отдела, занимал огромный, высотою почти в рост человека, а может быть и выше, штабель плотно увязанных в связки архивных дел в серых обложках с черными двуглавыми орлами: архив III отделения собственной е.и.в. канцелярии и, вероятно, архивы департамента полиции и штаба корпуса жандармов...
Но Пушкинскому Дому, помимо места для хранения материалов и для работы, было нужно и помещение для заседаний, докладов, собраний, а главное – для временной хотя бы экспозиции его коллекций, т. е. для выставок. Хлопоты в этом направлении привели к тому, что летом (кажется, 1920 года) надлежащие организации передали в полное распоряжение Пушкинского Дома особняк на ул. Халтурина, 22 (бывшей Миллионной), до революции принадлежавший «Его Сиятельству князю Семену Семеновичу Абамелек-Лазареву» – как значилось на печатных бланках «конторы Его Сиятельства», в огромных количествах вместе с конвертами обнаруженных нами в помещении конторы; эти бланки и конверты из прекрасной плотной бумаги много лет служили нуждам рукописного отдела и музея и до сих пор сохранились в материалах того времени. <...>
10 февраля 1925 года состоялось (впервые, если мне память не изменяет) собрание на последней квартире Пушкина (на Мойке, 12), посвященное дню его смерти. Квартира тогда еще не принадлежала Пушкинскому Дому. Она недавно поступила в ведение общества «Старый Петербург – Новый Ленинград», которому была передана после долгих хлопот... Жильцы были выселены, квартира приведена в некоторый порядок, но о ее реконструкции, о восстановлении в первоначальном виде, о перенесении туда подлинных мемориальных вещей можно было только мечтать, а пока лишь место в кабинете, где, по соображениям, стоял диван, на котором лежал раненый и умер Пушкин, было окружено оградой. И собрание не могло быть тем торжественно-поминальным актом, каким оно стало впоследствии, а просто заседанием... Более того, самое заседание вышло дискуссионным. <...>
Академия, а с нею и Пушкинский Дом, в лето 1925 года усиленно готовилась к празднованию 200-летия ее основания (т. е. декретированного, но не осуществленного при его жизни решения Петра I). Празднование, назначенное на начало сентября, должно было стать всесоюзным и вместе с тем международным торжеством русской и советской науки, на которое было приглашено множество иностранных гостей – выдающихся ученых, нередко с мировыми именами. К юбилею спешно составлялись и печатались брошюры о каждом из учреждений Академии. Такую брошюру о Пушкинском Доме составили и мы.
Здание наше ремонтировалось: были сбиты и сравнены давно поврежденные и полуобвалившиеся карнизы и наличники и вместо них наскоро оштукатурен гладкий, довольно скучный фасад без всякой орнаментовки, с довольно безобразным полукруглым фронтончиком, попавшим почему-то не точно на середину фасада (в таком виде верхний этаж здания существует и до сих пор). Академия получила в свое владение «фисташковый» (по его окраске) дом рядом, или, вернее, под углом с нашим на Тучковой набережной. В нем нам предоставлена была анфилада комнат 2-го этажа окнами на набережную с полукруглым или овальным залом на закруглении здания. Соседние комнаты вдоль набережной получил Толстовский музей, переведенный сюда с Мойки.
В доставшихся нам комнатах (сами по себе они были очень хороши – просторные, светлые и высокие) был развернут литературный музей XIX (и немного XX) века послепушкинского времени: Лермонтов, Гоголь, 40–60-е годы, Тургенев, Гончаров, Достоевский и проч. В прежнем здании остались XVIII век, Пушкин и его эпоха. Тут, при развертывании этой новой экспозиции, обнаружилась вся неразработанность методов построения литературного музея. Было много споров, делались разные попытки. Материал (и портреты, и книги, иллюстрации, и личные вещи писателей) был прекрасный своей подлинностью, убедительностью, отбором, но получалось как-то «академично», слишком сухо: интересно для специалиста-литературоведа, но скучновато для массового зрителя, тем более школьника. Когда (незадолго до юбилейных торжеств) залы были открыты, оказалось, что они пустуют. Объясняли это каникулами, но наступила осень, открылись школы, а посетителей все было мало... Учителя не привыкли водить экскурсии в литературный музей, у нас же не было специалистов-экскурсоводов для школьных экскурсий. И удобные, хотя и несколько банальные залы с прекрасной экспозицией пустовали; в них бродили одиночные посетители, а временами не было никого, и дежурные сотрудники часами сидели, чувствуя, что теряют даром время. «Зеленый дом зеленой скуки», – так назвал Б. И. Коплан помещение на набережной, и надо сказать, что для такого определения было много оснований. Сравнительно больше было посетителей в пушкинских залах основного нашего дома, но ведь Пушкин всегда и для всех представляет живой и сочувственный интерес.
Серебряный век русской культуры, 1900–1920-е годы
Борис Зайцев, Сергей Маковский, Сергей Сергеев-Ценский, Георгий Иванов
Приблизительно с середины XIX столетия Санкт-Петербург сделался средоточием культурной жизни страны и оставался таковым вплоть до гражданской войны. Не удивительно, что именно Петербургу Россия обязана таким явлением, как Серебряный век русской культуры.
Золотой век – время Пушкина и Лермонтова, Некрасова и Гоголя, Тургенева и Достоевского, Чехова и Толстого. Век серебряный славен не менее звучными именами: Анненский, Бальмонт, Брюсов, Блок, Бунин, Вячеслав Иванов, Северянин, Ахматова, Гумилев, Волошин, Гиппиус, Мережковский – если упомянуть лишь наиболее известные. Петербург в начале XX столетия изобиловал литературными салонами, едва ли не самым знаменитым из которых была «Башня» – дом поэта и философа В. И. Иванова.
Прозаик Б. И Зайцев вспоминал:
Жизнь же шла. Это был предвоенный предгибельный расцвет символизма, импрессионизма – немало до революции было «измов» в литературе, и сама литература кипела. По-разному можно относиться к ней, но... провинцию восьмидесятых и девяностых годов она погребла бесповоротно.
Лишь немногие чувствовали (Блок, Белый), что кипение это предсмертное. Думал ли кто о грядущем убожестве «социалистического реализма», не знаю. Я ни о чем не думал и ни от кого опасений не слыхал. А жили мы тогда литературою вовсю.
Часто ездили с женой в Петербург. Там останавливались у Георгия Чулкова. Вячеслав Иванов был тогда как раз соратником его по «мистическому анархизму».
Были у него и «соборность», и разные другие превыспренности. Писал стихи – громкозвучные, тяжеловесные и в одеждах, изукрашенных пышно. Вспоминается нечто вроде парчи, в словаре – славянизмы и торжественность почти высокопарная. Нельзя сказать, чтобы стихи его тогдашние особенно прельщали. Обаяния непосредственного было в них маловато, но родитель их стоял высоко, на скале. Это не Игорь Северянин для восторженных барышень. Вячеслав Иванов был вообще для мужчин.
Он и считался больше водителем, учителем. Жил тогда в Петербурге, в квартире на верхнем этаже дома в центре города. В квартире этой был какой-то выступ наружу, вроде фонаря, но, конечно, по тогдашней моде на «особенное» считалось, что он живет в «башне», а сам он «мэтр» (сколько этих мэтров «невысокого роста» приходилось видеть потом в жизни! Но это звонко, шикарно, и для невзыскательного уха звучит торжественно. Что поделать! В Москве Брюсов считался «магом» – этот маг заведовал отделом кухни в Литер. кружке). Такое было время. «Я люблю пышные декадентские наименования», – говорил мне один приятель литературный в Москве.
Слова «мэтр» я всегда не выносил, но надо сказать, что Вячеслав Иванович к облику некоего наставника в глубоком смысле действительно подходил. Человек был великой учености, ученик знаменитого Моммзена и крупнейшего филолога немецкого Вилламовица-Меллендорфа. Знал древность насквозь, всех Дионисов, и религии тех лет, и поэзию, литературу, да и в нашей литературе был великий знаток, о Достоевском «глаголаше премудро». И главное, вкусом обладал благородным.
Жизнь он вел странную. Вставал около шести вечера, ночью бодрствовал, вечерами устраивались у него собрания на этой самой «башне» (! – тоже снобизм), и молодые поэты и писатели вроде меня смотрели ему в рот, и не зря смотрели: от него действительно можно было чему-то научиться. Да и вообще, я уж об этом упоминал – собеседник он был исключительный.
Раз, в 1908 году, был я к нему приглашен не на собрание, а как бы давалась аудиенция с глазу на глаз. Тогда только что вышла повесть моя «Аграфена», вызвавшая в печати и бурные похвалы, и бурную брань. Из-за нее он и позвал меня, через Чулкова.
Я пришел часу в седьмом вечера, он забрал меня, увел к себе в кабинет – и вот начался разбор этой «Аграфены» чуть не строчка за строчкой – спокойный, благожелательный, но и критический. Продолжалось это часа полтора. Тут и почувствовалось, насколько предан этот человек литературе, как он ею действительно живет, какая бездна у него понимания и вкуса. Отнять литературу, он бы и зачах сразу. Я был молод, но не гимназист, а уже довольно известный писатель, но чувствовал себя в этот вечер почти гимназистом. Не таким, однако, кому инспектор долдонит что-то начальственное, а как младший в руках благожелательного, много знающего, но не заискивающего и не боящегося говорить правду старшего. Трудно вспомнить больше чем через полвека, что именно он говорил, но вот это впечатление благожелательного наставничества, необидного, сочувственного и недифирамбического, видящего и свет, и тени, так и осталось в душе.
Какая там «башня», какой «мэтр», просто замечательный Вячеслав Иванович Иванов...
На вечерах его многолюдных я бывал редко. Понятно, не Горький, не Бунин и не Куприн посещали его, а совсем другие: Блок, Кузмин, Городецкий, Чулков, Ремизов, Пяст, Верховский и еще море юнцов, художники «Мира искусства». Читались стихи, разбирались – все как полагается. Но это нравилось меньше: мешала манерность и театральность. Отчасти и сам хозяин ей поддавался...
О встречах в «Башне» вспоминал в мемуарах и критик С. К. Маковский.
Вячеслава Иванова я знал с 1903 года, когда из Италии он приехал в Петербург и выпустил «Кормчие звезды». Первая его жена Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал была еще жива и принимала вместе с ним весь «передовой» Петербург в верхнем этаже дома на Таврической улице, в так называемой «башне». Почти вся наша молодая тогда поэзия если не «вышла» из Ивановской «башни», то прошла через нее – все поэты нового толка, «модернисты», или, как говорила большая публика, декаденты, начиная с Бальмонта: Гиппиус, Сологуб, Кузмин, Блок, Городецкий, Волошин, Гумилев, Ахматова, не считая наезжавших из Москвы Брюсова, Андрея Белого, Цветаевой... Я перечислил наиболее громкие имена; можно бы назвать еще очень многих...
Собрания на «башне» окончились осенью 1909 года, когда Вячеслав Иванов перенес их, придав им характер более профессионально-поэтический, в редакцию «Аполлона», для чего было учреждено особое «Общество ревнителей художественного слова». Прошение в градоначальство подписано мною в качестве издателя-редактора «Аполлона» и старшими членами редакции – Вячеславом Ивановым и Иннокентием Анненским.
«Душой» этих собраний, которые «аполлоновцы» называли «Поэтической академией», Вячеслав Иванов оставался неизменно, несмотря на блистательные выступления Анненского (в течение двух первых месяцев – он скончался в ноябре 1909 года) и на привлечение в качестве руководителей «Общества» Блока и Кузмина (из нас и составилось правление).
В. Иванов был необыкновенно широк в оценке чужого творчества. Любил поэзию с полным беспристрастием – не свою роль в ней, роль «ментора» (как мы говорили), вождя, наставника, идеолога, а талантливость каждого подающего надежды неофита. Умел восторгаться самым скромным проблеском дарования, принимал всерьез всякое начинание. Он был пламенно отзывчив. И в то же время вовсе не покладист. Коль заспорит – только держись, звонкий его тенор (немного в нос) покрывал все голоса, и речист он был неистощимо. Мы все его любили за это темпераментное бескорыстие, за расточительную щедрость и на советы обращавшимся к нему младшим братьям поэтам, и на разъяснения своих глубочайших мыслей об искусстве. Удивительно уживались в нем как бы противоположные черты: эгоцентризм, заполненность собой, своим поэтическим бредом и страстями ума, и самоотверженное внимание к каждому приходящему в храм Аполлона. На всех собраниях он председательствовал, руководил прениями, говорил вступительное и заключительное слово. Когда дело касалось поэзии, он чувствовал себя непременным предводителем хора... И наружность его вполне соответствовала взятой им на себя роли. Золотистым ореолом окружали высокий, рано залысевший лоб пушистые, длинные до плеч волосы. В очень правильных чертах лица было что-то рассеянно-пронзительное. В манерах изысканная предупредительность граничила с кокетством. Он привык говорить сквозь улыбку, с настойчивой вкрадчивостью. Высок, худ, немного сутул... Ходил мелкими шагами. Любил показывать свои красивые руки с длинными пальцами.
Таким образом, дело объединения петербургских поэтов, начатое Вячеславом Ивановым на «башне», продолжалось в «Аполлоне». Но сама «Поэтическая академия» вскоре заглохла, отчасти из-за восставшей на символизм молодежи, с Гумилевым и Городецким во главе. Вместе они основали «Цех поэтов», который и явился дальнейшим питомником русского поэтического модернизма. <...>
Во всяком случае, даже отложив стихи Вячеслава Иванова в сторону, надо признать, что на фоне предреволюционной России Вячеслав Иванов – одна из самых ярких фигур. Недаром Н. А. Бердяев называл его «наиболее культурным человеком, какого он когда-либо встречал». Бердяев в своих публичных докладах именно так вспомнил Вячеслава Иванова, с которым был дружен еще со времен «башни» на Таврической... Вячеслав Иванов – редчайший представитель средиземноморского гуманизма, в том смысле, какой придается этому понятию начиная с века Эразма Роттердамского, и в смысле расширенном – как знаток не только античных авторов, но и всех европейских культурных ценностей. Он владел в совершенстве латынью и греческим – так, что сам сочинял на этих языках экспромты своим друзьям... Образцово знал он и немецкий (был учеником Моммзена), итальянский, французский, несколько хуже – английский; философов, поэтов, прозаиков всего западного мира он читал в подлиннике и перечитывал постоянно; глубоко понимал также и живопись, и музыку... Никогда не забуду вечеров, которые я проводил у него в обществе А. Н. Скрябина (в предсмертные годы композитора). Каким знатоком гармонии выказывал себя Вячеслав Иванов-эзотерист в этих беседах со Скрябиным-оккультистом, мечтавшим о музыкальном храме на необитаемом острове Индийского океана!..
Другим «центром притяжения» для всех, кто имел хотя бы малое отношение к культуре, являлись северные окрестности Петербурга, а именно – селение Куоккала, где жили на дачах художник И. Е. Репин и «дядя Облей» – К. И. Чуковский.
Писатель С. Н. Сергеев-Ценский вспоминал о поездке в Куоккалу:
В Куоккалу, дачную местность под Петербургом, я попал в декабре 1909 года только потому, что жизнь там расхвалил мне К. И. Чуковский, имеющий в Куоккале свою дачу. Он же нашел дачу и для меня, и я заочно взял ее в аренду на зиму.
Я начал в Петербурге писать повесть «Движения», но там я жил в шумной гостинице, а для того, чтобы писать повесть дальше, мне нужно было уединиться в тишине. Я, конечно, мог бы для этой цели поехать к себе в Алушту, но повесть нужно было писать к каждой выходящей книжке журнала «Современный мир», который издавался в Петербурге, и для меня важен и дорог был каждый день. Так я очутился в Куоккале, на даче «Казиночка».
Я, конечно, не мог не знать, что здесь же, в Куоккале, только где-то довольно далеко от станции, живет Илья Ефимович на своей даче «Пенаты», но я не удосужился посмотреть, где эти «Пенаты»: работа над повестью была спешная.
Однажды вечером при керосиновой лампе я сидел за своим столом и писал на верхнем этаже, в единственной комнате, которая отапливалась (всех комнат было девять), как вдруг донесся до меня кошачий концерт снизу.
Я хорошо помнил, что затворил входную дверь нижнего этажа, откуда же взялись там коты с их воплями?
Совершенно возмущенный котами, я выскочил из своей комнаты, держа лампу в руке.
– Ах вы, окаянные черти! – кричал я, стараясь осветить лампой место схватки котов, и... увидел Илью Ефимовича Репина рядом с закутанной в теплый вязаный платок его женой, как потом я узнал, Натальей Борисовной Нордман (Северовой).
Илья Ефимович в распахнутой меховой шубе снял шапку и проговорил несколько как будто сконфуженно:
– Простите великодушно! Мы думали, что попали к Корнею Ивановичу Чуковскому!
– Дача Чуковского через одну в этом же порядке, если идти налево, – сказал я, гораздо более сконфуженный, чем Репин.






