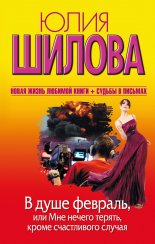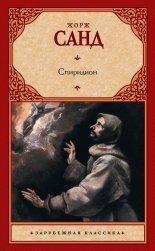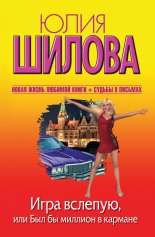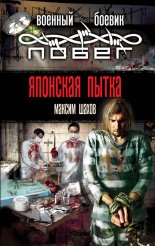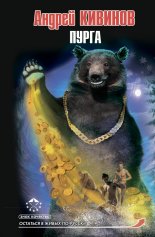От легенды до легенды (сборник) Шторм Вячеслав
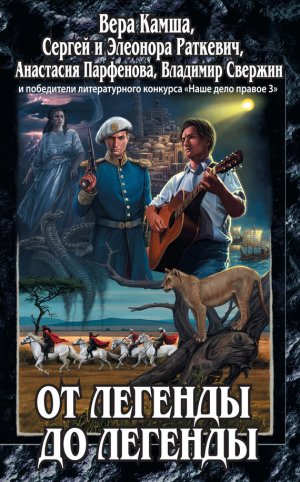
Ты сказал, Инд ибн Сид, царь Идзумары, мой победитель. Устами гонца, шепотом ночной степи, голосом моей кровоточащей земли — ты сказал, а я услышал.
Но как должен я поступить теперь?! Что делать царю, чье царство на грани уничтожения, а действие и бездействие равно губительны? Что делать отцу, чьих детей ждет смерть — сегодня или завтра, в сражении или в позорном плену?..
Рок, черный, как сердце худшего из Демонов, обрушился на Шанхское царство. Инд ибн Сид, великий воин и правитель, вторгся в его пределы, неся Смерть на своих плечах. И как же был самонадеян ты, повелитель шанхов, решив встретить врага у границ, не дать ему разорить земли от Зеленой реки до столицы. У рубежных вод сошлись армии двух царств, и Рок в первый раз посмеялся над Эльшадом аль-Ахсаром и его людьми — разбитые, вынуждены были шанхи покинуть поле боя и спешно отступать к укреплениям столицы. Но и скрыться за надежными стенами им было не суждено — на третий день отступления войско настигла весть о Пляске, что Идзумарец устроил на равнине Халал.
Ярость охватила воинов шанхской земли, узнавших, какому непереносимому унижению оказались подвергнуты дети из разоренных поселений. Но многие ли из них поняли, что за этим варварским пиром победителей стоят страшные ритуалы заклинания Судьбы — подношения силам столь же древним, сколь и темным? Если чудовищный замысел Идзумарца удастся — на землю, народ и царя Шанхи падет проклятие, избыть которое не смогут еще многие поколения.
А будут ли они, эти поколения? Кого пощадит Идзумарец, кто сможет продолжить род неудачливого царя шанхского? Старшие сыновья ныне присоединились к войску, и ничто не заставит гордых царевичей покинуть его перед боем; а дочери и младший из мальчишек, отданный по традиции на воспитание сказителю, укрыты за стенами Шанхи, что неминуемо падет без достойной защиты.
Лучше броситься на собственный меч, чем увидеть руины на месте своего города. Но такая смерть недостойна воина. Пока есть возможность сражаться — должно воину сражаться, не опуская клинка.
Ткань шатра сминается под пальцами — и бьет в лицо свежий ветер степи.
— Собирайте отряды, сардары.
Свирепая радость разом вспыхивает в глазах воинов, обращенных к царю. Они знают, что он скажет, — ведь шанхи всегда предпочитали смерть в бою бесчестью.
— Мы возвращаемся.
Равнина. За два дня до конца
Закатное небо горело над равниной Халал, как опал в золотых бликах солнца. Но вот словно бы огромная птица взмахнула крылом — светило покинуло небосвод, оставив после себя только мягкий голубоватый полусвет.
Над степью, как яркие флаги, один за другим вспыхивали костры.
Пора…
Керан без жалости бросил в траву сумку со своими вещами; чуть подумав, развязал узорчатый пояс и стянул через голову рубаху. Одежда его была слишком изящной и богатой; из-за нее он мог привлечь лишнее внимание, из-за нее могли убить. На юном шанхе остались только просторные белые шаровары; полоской расшитой ткани он подвязал буйные иссиня-черные волосы. Вот так. И ничего больше не надо — вряд ли в мире мертвых с него строго спросят за неподобающее облачение.
Напрасно он опасался стражей-марьев — они ждали появления царя Эльшада с войском, одинокому же пришельцу ничего не стоило проскользнуть мимо дозоров. Он оказался в широко раскинувшемся по полю лагере марьев и смог увидеть своими глазами то, о чем шептались на всех полупустых от войны базарах царства Шанхского, — Пляску на равнине Халал.
Огромное пространство внутри редкого частокола из сломанных копий было заполнено людьми. Там и тут горели большие костры; во множестве бродили воины-марьи, и сидели группками пленные музыканты — своих на все поле не хватило. И повсюду среди них находились шанхские дети; сотни и сотни пленников, взятых в разных городах шанхов, танцевали меж костров.
Большинство из них просто двигалось по кругу, повторяя одни и те же движения, изгибаясь, вскидывая руки, оборачиваясь вокруг себя и вновь продолжая танец. Ближе к центру поля на помостах собрали тех, в ком чувствовались способности и выучка танцоров, — в основном девочек, в землях шанхов танец считался неизбывно позорным занятием для воина и мужчины. Мерное движение сотен людей завораживало; грохот боевых барабанов марьев, задававших ритм, разрозненные голоса шанхских музыкантов, крики и хлопки воинов захватчика — все это сливалось в одну могучую беспокойную мелодию, висевшую грозовой тучей над равниной Халал.
И все же это было отнюдь не столь величественное зрелище, как можно было представить из рассказов и слухов. Керан видел, как измождены его соплеменники — все больше дети, не старше десяти лет, одетые кое-как или совсем не одетые, с глазами полными страха или безразличными ко всему. Были среди них и девушки постарше, но мало; юношей же одного с собой возраста Керан не видел совсем. И это было страшным знаком — юному шанху было известно, что марьи сгоняли на эту равнину всех пленников без разбора; и если мужчин среди них осталось так мало — видно, всех их, не пожелавших покориться палачам, смерть настигла еще в первые дни…
Керан видел, как то здесь, то там кто-то из пленников падал, — и казалось, что подняться им не дает нечто большее, чем просто усталость. Упавших тотчас подхватывали стражи-марьи и уволакивали куда-то в глубь лагеря. Чем больше смотрел юный шанх на полыхающую огнями равнину — тем острее чувствовал, как поднимается в нем все выше волна черной глухой ярости, застилает глаза, давит на горло почти до рвотных спазмов. Его братья и сестры умирали сейчас на этой проклятой равнине, не способные себя защитить! Прежде никогда ему не приходилось испытывать чувство такой силы, как то, что бушевало сейчас в груди; но прежде ему и не приходилось видеть, как гибнет в руках захватчика его страна.
Но он заставил волну улечься и растечься по сердцу непроницаемой черной пленкой. Пусть в песнях останутся те, кто погиб, не дав себя опозорить; ему, Керану, не нужно песен. Он чувствовал, что есть дело, которое способен сделать только он; а значит, от его хладнокровия и выдержки зависит слишком многое…
Керан слишком хорошо понимал, что затевает царь Идзумары, устраивая это превращенное в танец избиение пленных. Он убивал молодость земли шанхов, он пил по капле ее жизнь и жизнь ее народа, он выедал у Судьбы их будущее. С каждым днем, что длилось это безумие, страшный замысел все больше раскрывался жителям полуразоренной страны; все тревожней становились слухи, пока наконец мудрая саони, сказительница и певица, не произнесла пророчество: царь Эльшад может спасти свою землю и изгнать захватчиков — но только до тех пор, пока на ногах держится хоть один пленник из танцующих на равнине Халал.
Хоть один из них…
Керан был уверен, что царь шанхов примет вызов. И поведет разбитую армию в безнадежный, губительный бой… Но даже не будь Эльшад аль-Ахсар Эльшадом аль-Ахсаром, для его земли не осталось пути к спасению. Удача покинет любого царя, предавшего свой род, свою страну, свое имя. А вместе с царем Рок пожрет и его землю. Вот так равнина Халал стала ловушкой, в которую шанхского правителя заманили собственная гордость и коварство врага.
У ближайшего к затаившемуся Керану круга танцующих засуетились люди. Юный шанх насторожился и осторожно двинулся в том направлении, скрываясь в тенях. Вооруженные копьями марьи сгоняли сюда новых пленников — те брели по одному-двое с разных концов лагеря. Музыканты у этого круга тоже сменились, прежних увели куда-то под конвоем. Вот музыка заиграла с новой силой — зурна, лютня, бубен, отдаленный грохот барабана — гимн смерти, погребальная песня умирающего вечера. Керан стоял теперь совсем близко к месту пляски, неразличимый среди других пленников. На равнину опускалась ночь, вместе с ней гасли надежды и желания царства Шанхского. Кто знает, как долго земле осталось носить это имя? В темном небе что-то сверкнуло — красная звезда среди множества синих; мальчик-пленник совсем неподалеку вдруг споткнулся и упал, не выдержав гнета отчаяния, убивавшего куда вернее жары и усталости. Его соседи вздрогнули, но продолжили движение — страх перед неизбежным гнал их вперед. Двое стражей-марьев с кнутами и копьями, выждав какое-то время, шагнули вперед и подняли жертву. Мальчик не двигался, не пытался сопротивляться, когда стражи вытащили его куда-то за круг света, отбрасываемый костром, и там скрылись…
Впрочем, Керан продолжения этой сцены уже не видел. Ровно на секунду, как перед прыжком в воду, задержав дыхание, он шагнул в круг, заменяя собой упавшего.
Его мать была танцовщицей, попавшей в гарем знатного господина из-за своего необыкновенного дара и красоты. Даже произведя на свет сына, она оставалась все такой же прекрасной и гибкой; и память о ее сверкающих черных косах, о движениях, всегда остававшихся летящими и танцевальными, что бы она ни делала, навсегда впечаталась в сердце мальчика. Любовь к танцу, впитанная вместе с молоком матери, оказалась настолько сильна, что заставило юношу искать пути тайного изучения этого искусства. Тайного — потому что в царстве шанхском это занятие считалось недопустимо унизительным для мужчины. Сокровенная тайна юного шанха — именно она привела его на равнину Халал, в круг костров, в сердце вражьего войска. Керан был сыном воина, наследником поколений и поколений шанхских всадников, и такова была его природа: душа бойца в прекрасном теле танцора. Равнина Халал должна была стать первым и последним в его жизни полем битвы.
Поначалу двигаться было тяжело, как будто вокруг него была вода, а не воздух. Потом Керан поймал ритм, и решимость вернулась в его сердце, а уверенность — в движения. Настоящий танцор не должен стыдиться своего искусства. Даже если приходится показывать его вот так. Керан заставил себя не обращать внимания на крики и жадные взгляды победителей-марьев, не замечать, как вновь и вновь оступаются и падают его невольные товарищи; слушая только музыку и свои чувства, он вспоминал все, чему успел научиться за свою недолгую жизнь. Он не знал, сколько времени это продолжалось, — кажется, прошли часы, прежде чем он впервые споткнулся, а может, это были минуты? Вокруг происходило что-то, и юный шанх внезапно понял, что множество глаз просто впились в него, когда он замедлил движение; усмехнулся про себя — не дождетесь! — плавно выровнялся, вновь вливаясь в ритм танца. Он был совсем юн, полон сил, здоров и привычен к серьезным испытаниям, а еще твердо знал, что жить ему осталось ничтожно мало… И осознание этого странным образом дарило ему силу и храбрость.
Все ставки были сделаны — где-то выше неба и глубже моря светлый Див подбросил кости Судьбы, а грозный Демон их поймал; звезды россыпью алмазов горели над равниной Халал, и в своем гнезде просыпалась птица-Солнце, чтобы вновь воспарить над миром…
Равнина. День предпоследний
Незадолго до рассвета ему неожиданно дали отдохнуть. Он успел только мельком удивиться — думал, так и оставят плясать, до последнего мига, до падения — после чего провалился в сон. Подняли его, впрочем, очень быстро, плеснув в лицо холодной водой. Зачем-то все это было нужно — знать бы еще зачем…
В этот раз стражи, поднявшие Керана, отвели пленника не к угасшим кострищам, а на один из помостов в центре поля. Его явно заметили ночью — юноша то и дело ловил на себе любопытные взгляды и видел, как встречные марьи показывают пальцами. К моменту, когда они дошли до помоста, Керана, словно царя, уже сопровождала небольшая свита — подтянулись те, кто хотел посмотреть на необычного танцора. На помосте уже кружились несколько стройных девушек и один парень чуть старше Керана (он мало походил на шанха и, видимо, оказался здесь по воле злого рока); их движения были легки и отточены, но им не хватало раскованности, свободы полета — да и кто сможет танцевать со всей страстью перед палачами? Никто, но Керан — сможет.
Приведшие его воины внезапно схватили мальчика за локти и грубо вытолкнули на помост. Керан сжал зубы — о, он смог бы постоять за себя при желании! Быстрота, ловкость и гибкость — он проскользнул бы между стражами и выдернул клинок вот у того, бородатого — можно саблю, но лучше кинжал, сабля слишком тяжела…
Хотя с саблей в руке, если перехватить двумя руками, он успел бы ранить двоих, а может, и троих. Жаль, что он не воин; он смог бы помочь бежать этим девушкам и парню; но воин никогда не смог бы танцевать перед врагами так, как должен был танцевать Керан.
Шанх легкой походкой прошелся по помосту и вновь заставил тело вспомнить все, что оно умело. А умело оно многое — собравшиеся марьи наблюдали за танцем пленного мальчишки, кто — с восхищением, кто — с вожделением.
В это самое время тень, бесплотная, как утренний туман, приблизилась к помосту. Легкие шаги едва касаются земли — отчего же твердь так дрожит под ними? Случайно бросив взгляд в толпу, Керан вздрогнул — ему показалось, он видит свою мать среди разгоряченных марьев. Но нет, это не она — просто женщина, стоявшая у помоста, была странно похожа на красавицу Турайу; только глаза сверкали, как расплавленное золото… Керан смотрел — и не мог оторвать глаз; движения его против воли замедлились, но сердце отбивало бешеный ритм. Кто эта незнакомка?
— Он танцует не как раб, — произнесла женщина. И сделала знак музыкантам: — Быстрее!
Ее приказ подействовал вернее щелчка бича — мелодия резко изменила темп и убыстрилась. Керан чувствовал себя странно — ему больше не хотелось ни двигаться, ни бороться; но взрыв мелодии — это вызов, вызов его таланту, его мастерству и гордости шанха — отвечая на него, юноша заставил тело подчиниться все нарастающему темпу пляски. В музыку вплетались щелчки бичей — надсмотрщики подгоняли уставших танцоров, — но это только подстегнуло Керана. Он один на один с собой и Судьбой, и только от него зависит исход этой схватки.
— Быстрее!
Есть в том, что люди называют Роком, разные силы, связи, устремления, чья губительная мощь не раз бросала на колени целые царства и топила во мраке самые яркие души. Они есть сокровенная суть несбывшихся мечтаний, загубленных жизней, задушенных надежд; все то, что закончилось, не успев начаться; все то, что готово было расцвести, но увяло; все то, что должно было родиться, но сгнило — все это их власть, их дело. И у этой власти есть душа, есть имя, пусть смертные и боятся произносить его вслух, заменяя коротким «Демон» или иными прозваньями и титулами…
Темп мелодии из быстрого стал бешеным; и, не выдержав его, стали спотыкаться невольные товарищи Керана в этой пляске с Судьбою. Когда в жизни нет смысла, когда развязка неотвратима и неизбежна, когда ты знаешь, что упадешь, миг падения уже не имеет значения. Какая разница — раньше или позже?
Керан почувствовал, что навязанный им ритм не по силам остальным танцорам, — и бросился, разрывая круг, в самый центр помоста. Весь мир теперь как будто кружился в танце вокруг него — изгибались грациозно шанхские девы-танцовщицы, стояли плотным кольцом, отбивая ритм клинками о щиты, воины-марьи, искрилась и сияла огнями равнина Халал — а он был в сердце всего этого. Керан вскинул голову и вдруг резко, в одно движение, прянул с места, так что волосы рванулись в воздух, кажется, во все стороны сразу — о таком было сказано: «черный огонь горит ярче солнца».
Воины, наблюдавшие за юным танцором, затаили дыхание — настолько красив он был в эти минуты. Сам же Керан ничего не видел — понимая, что это уже предел, что еще немного — и он упадет, как падали другие, он закрыл глаза и весь отдался мелодии. Два шага до пропасти, предощущение падения — но он так и не остановился, не позволил себе отстать от музыки.
Где-то что-то оборвалось с медным звуком — и мелодия зазвучала тише, спокойнее, мягче… Керан с трудом успокоил колотившееся сердце и заставил тело двигаться медленно и плавно.
А когда он наконец смог открыть глаза — странная женщина исчезла…
— Повелитель, — прошелестел над ухом бесплотный голос. — Среди пленников появился юноша небывалой красоты. Его тело гибкое, как молодой тростник, и стройное, как тополь, его движения плавны, как вода, и, как огонь, подвижны; его волосы черны, как агат, и вьются, как кольца змеи, а кожа смуглая и гладкая, как шелк. Воистину, на равнине Халал нет никого прекраснее его.
Перед глазами царя марьев, как наяву, встает картина: черные глаза… черные волосы… молнией бьющаяся в них белая лента…
— Юноша с черными волосами… найдите его. Доставьте ко мне в шатер.
Не прошло и четверти часа, как Инд ибн Сид возлежал на подушках в своем алом шатре в окружении вернейших слуг и соратников. Сюда, к глазам блистательного, доставили пленного юношу-шанха, так поразившего всех своей красотой и искусством танца. Царь рад был видеть, что усталость и жаркое солнце не пригасили блеск глаз пленника. Щенок и вправду был хорош — идзумарский правитель впитывал глазами каждый изгиб смуглого тела. И дело тут, пожалуй, было не только в красоте — не зная слов загадочной гостьи, царь тем не менее повторил их.
«Он танцует не как раб». В богатой, любившей наслаждения Идзумаре мальчики-невольники использовались для услад плоти наравне с девушками; они, конечно, обучены были также и танцу, но в движениях шанха не было и следа их угодливой податливости. Страсть — но не сладострастие, биение пламени — не мягкость травы; те — стелились, этот — летал. Не глядя ни на кого, пленник продолжал свой танец, хотя царь видел, как тот устал — держался на одной гордости. Не пора ли тебе отдохнуть, птенчик?
Видя, как наливается ленивым предвкушением взгляд царя, понимающе улыбались и потихоньку покидали шатер люди свиты. Когда последний из них ушел, царь хлопнул в ладоши, и слуги исчезли как призраки — только музыканты за пологом продолжали играть плавную мелодию.
Шанх как будто не заметил, как пусто стало вокруг. Его движения были все так же отточены и плавны.
Инд ибн Сид наблюдал за ним какое-то время. Затем мягко поднялся и шагнул к мальчишке.
Музыканты продолжали играть.
Керан чувствовал его приближение. Ему не нужно было видеть, ему не нужно было слышать — оба они сейчас были во власти танца, но вел эту пляску шанх, а не царь марьев. Когда сзади надвинулась чужая тень, когда грубые руки потянулись чтобы схватить, жадно и грубо, — юноша рванулся вперед и в сторону, легко вынырнув из захвата, оказавшись достаточно далеко, чтобы успеть, и достаточно близко, чтобы…
Чтобы выдернуть кинжал, висящий на поясе идзумарского царя, — давно замеченный и облюбованный кинжал — и ударить сразу, в одно движение, так, как учили его и братьев воинские наставники в далеком отцовском доме…
Инд ибн Сид был настоящим властителем, умелым полководцем; воином он тоже был неплохим. Перехватить руку мальчишки с клинком было несложно — будь это обычный мальчишка. Но вожделение и вино, влившее в тело расслабленность, сыграли с царем злую шутку — да и не мог он предположить, что танцор, мальчик для развлечений, может двигаться и разить, как воин…
С силой, уверенно и насмерть.
— Ты хотел завладеть землей шанхов?! — с яростью выдохнул Керан, глядя прямо в глаза потрясенному Идзумарцу. — Так вот тебе наш ответ!
И отшатнулся от подавшегося вперед раненого воина.
Второго удара не потребовалось. Царь Идзумары рухнул на ковер своего шатра, обильно оросив его кровью.
Керану хватило сил только на то, чтобы отойти на несколько шагов — и упасть на колени. Ковер был мягким и толстым, глушащим любые звуки, и так хотелось лечь на него и больше не шевелиться…
Ему удалось.
Сложно было даже поверить в это, но ему удалось.
Собственная неминуемая гибель и пережитое унижение уже мало волновали Керана — обхватив себя руками за плечи, он мерно покачивался из стороны в сторону в такт мелодии танца — этот ритм никак не отпускал его.
Прошло довольно много времени, прежде чем он понял, что что-то не так. Стражи не спешили хватать убийцу и вообще, кажется, не знали о том, что произошло, потому что…
Музыканты. Они продолжали играть.
Равнина. Безвременье
Ночная мгла еще не выпустила мир из своих объятий. В самый глухой час перед рассветом, когда спит, как говорят, даже бесовская сила, по степи крался отряд шанхских дозорных.
Давно уже затеяли игру в прятки соглядатаи того и другого войска; но марьи в ней оказались сильнее — как ни старались шанхи скрытно подойти, еще на самых дальних подступах их заметили. Ох и хорош был тот воин марьев, что, даже пронзенный стрелой, смог доскакать до своих и передать им новость. А тех, кому он ее передал, перехватить, не подняв шуму на всю равнину Халал, было уже нельзя. Оттого и не торопил командир вырвавшегося дальше всех шанхского дозора своих воинов. Войско царя Эльшада еще далеко, подойти к лагерю захватчиков сможет лишь к будущей ночи; но раз не вышло у них внезапного нападения — будут ждать утра и честного боя.
Мерцают впереди костры огромного лагеря марьев. И видятся командиру шанхов черные тени, движущиеся вокруг них. Где-то там — знает он — мчит сейчас к кострам черное облачко пыли, неразличимое в темноте, — торопятся дозорные передать царю Инду весть о приближении противника. Где-то там — думал он — среди детей, танцующих меж костров, мог бы быть его сын…
Нет, все не так. Сын убит — так сказали ему видевшие взятие города беглецы. А та, о которой он думал ночами и днями; та, которую увидел когда-то у цветущего персика и с тех пор почитал сень персика приютом достойнее царского дворца, — она покончила с собой на ступенях их дома, не желая стать утехой проклятым захватчикам.
Мчит, мчит к кострам черное облако; сближается с ними, распадаясь на тени всадников; их впускают в лагерь и скорее ведут к шатру правителя — вести не ждут, но… Даже из степной дали видит командир шанхских дозорных, как вдруг смятение охватывает лагерь марьев — от центрального шатра расходится кругами, поглощая все и вся, задевает круги танцующих пленников и их охрану… Что же?! Что случилось там?! Ведь не вести же о близящихся шанхах так всполошили бывалых воинов Инда ибн Сида…
Мгновение медлит командир дозорных — взгляд его прикован к кострам. Сын его убит, так сказали беглецы; но там, на равнине, много других сыновей, и их, может быть, еще надеются увидеть живыми отцы и матери. На своих воинов глядит теперь командир дозора — их мало, всего горстка, и решись он на задуманное — гибель ждет всех; но по степи за ними едут другие дозоры, и кто-то наверняка доберется, кто-то сможет помочь.
— Шанхи!! Вперед! Врагов хватит на всех — заберем, сколько сможем!
Равнина. День последний
Можно ли было поверить в случившееся? Эльшад аль-Ахсар терялся в догадках, какая же сила пришла на помощь его гибнущей державе — или, может, это та черная ворожба, к помощи которой прибег Инд ибн Сид, обернулась против самого же Идзумарца и его войска? Недостойно воину радоваться победе над врагом, добытой не в честном бою; но можно ли судить отца, знающего, что его дети еще могут остаться в живых?
В полдень того дня, когда могло бы состояться сражение между маленькой измотанной армией шанхов и силами Идзумары, к царю Шанхскому из лагеря противника прибыли послы. Они просили Эльшада аль-Ахсара согласиться на перимирие длиною в десять дней — срок достаточный для поминальных обрядов и траура по умершему повелителю. Весть о том, что могущественный Инд ибн Сид был убит, убит в своем шатре, посреди войска, в каком-то дне от полной и окончательной победы, потрясла царя шанхов. Но главное — десять дней! Десять дней траура были сроком достаточным для того, чтобы силы шанхов могли отойти к крепости, дождаться подмоги и подготовить город к осаде и штурму. Еще недавно загнанные в западню, они получили надежду вырваться.
За несколько часов до приезда послов степь наполнилась голосами — из разведки вернулись дозоры, и почти каждый воин вез в седле одного или двух измученных детей. Воины видели странную суматоху, охватившую лагерь марьев, и кто-то из них осмелился без приказа царя напасть на охрану танцующих пленников. Марьи, пребывавшие в смятении, приняли сначала маленький дозор за передовой отряд подступающего войска и мигом изготовились к бою — но пока они отбрасывали кнуты и брались за копья, многие из пленных, позабыв страх, набросились на своих палачей. Мало кто из них, равно как и из первыми напавших на врага дозорных, остался в живых; но зато их храбрость позволила бежать оставшимся пленникам равнины Халал.
Но только теперь открылась истинная причина произошедшего.
Царь Идзумары убит!
— Господин! — Перед Эльшадом аль-Ахсаром склонился молодой воин. — По твоему приказу мы объехали весь лагерь и расспросили всех воинов и всех освобожденных, чтобы узнать, что на самом деле произошло в лагере Идзумарца.
— Я весь теперь мой слух, — с излишней, возможно, горячностью отозвался царь. Из-за переговоров с послами и последовавшего совета военачальников — решали, можно ли верить марьям и как использовать случившееся с наибольшей выгодой, — он не имел возможности сам проследить за судьбой спасшихся пленников. Послы же о причине смерти своего господина ничего рассказать не пожелали. Что же удалось узнать его людям?
— Господин… — Воин говорил печально и тихо. — Великая радость и великое горе посетили сегодня нашу землю. Вот правдивая история того, что случилось, и я верю, что уста мои не солгут: два дня назад шанхский юноша пробрался на поле, где танцевали пленники, и присоединился к ним по доброй воле. Необычайной красотой и искусством танцора он смог привлечь к себе внимание Инда ибн Сида и убил его, когда тот возжелал совершить с юношей недостойное.
По рядам окружавших царя военачальников и царедворцев прокатился гул изумления.
— Может ли это быть, чтобы неопытный юноша одолел Инда ибн Сида, могучего воина? — Эльшад был встревожен, хотя сам пока не понимал причин своей тревоги.
— Может, мой царь. Потому что этот юноша — твой сын, царевич Керан аль-Ахсар.
Злой смех, как будто бы принадлежащий женщине, послышался в этот миг царю шанхов.
— Керан… — повторил он, не в силах поверить. — Мой сын?!.
Воин молчал, опустив голову.
— Где он?!
— Царевич с братьями, господин. Позволь мне проводить тебя…
Книга Царей Эрана говорит:
«И радость, воистину великая, и скорбь, бездонно глубокая, пришли в тот день рука об руку в земли шанхов. Ибо страшной оказалась цена надежды на избавление, и некому было вытереть слезы матерям детей, сгинувших на равнине Халал.
Но чернее прочих было горе царя Эльшада, ибо в день этот обрел он сына и вновь потерял его.
Керан ибн Эльшад аль-Ахсар не мог больше жить на земле шанхов как свободный воин — воин не может плясать перед врагами, даже если от этого зависит судьба его рода. Среди живых места для царевича не осталось — и все, что мог сделать для него царь-отец, — достойно проводить в страну мертвых.
Громко били мечами о щиты воины-шанхи, и по живому, как по мертвому, слагали песни о Керане певцы. А царь приказал считать тот скорбный день днем, бывшим за три ночи до него; днем, когда его сын еще не присоединился к Пляске на равнине Халал. И сказал также царь записать во всех свитках: за три дня до гибели Идзумарца смерть унесла царевича шанхской земли, достойного из достойных; он умер как воин и был похоронен как воин — и обрел достойное воина посмертие.
Так по велению смертного время замкнется в кольцо — и через три дня после не-бывшего не-живой царевич, танцевавший на халалской равнине, поразит царя Инда и избавит тем свою землю от гибели… Позор его и слава — они войдут в песни отдельно, и кто-то станет петь о Керане — воине и царевиче, но кто-то — и о Керане, сыне царя и танцовщицы, бывшем тем, кем хотел быть».
В тот же день похоронная процессия отделится от спешащего к столице войска шанхов. Добравшись до границы степи и пустыни, она остановится. Сложат большой костер сыновья Эльшада Шанхского, и их младший брат, как велит обычай, срежет свои дивные черные кудри и без жалости бросит их в огонь. Жарко будет гореть пламя, освещая ночь.
И, простившись с отцом и братьями, шанхский царевич легкой походкой танцора направится прочь от границ своей земли — под широким небом, по бескрайней равнине…
Ольга Власова
Девона
Весенние горы — зелено-красные от яркой сочной травы, алых хрупких маков и диких тюльпанов. Небо — ляпис-лазурь из Истханы, дорогая, на вес золота, такой место в ханских или даже шахских дворцах. А дорога весенняя, как откроются перевалы в горах, легка, сама под ноги коню стелется, в праздничном бунчуке шелковой лентой вьется…
Зарах иль-Тар поправил платок на голове — подсмотрел такой в свое время у болтливых тосков, что живут у Эллинского моря и света не видят без хлопанья парусов и жгучей морской воды, — и легонько, намеком, стегнул жеребца узорной камчой, поднимая его в галоп, так, чтобы ветер в ушах свистел…
Иль-Тар возвращался домой. Как сладко и грустно звучит это слово после шести лет разлуки! Отец Зараха, достопочтенный глава цеха ювелиров Миридабада, столицы и главной жемчужины в венце эмирата, не стал слушать возражений жены и отправил младшего сына учиться — на запад, туда, где дома с острыми крышами и где весна наступает так поздно. Шесть долгих лет — и несколько дней до дома…
К вечеру, когда солнце надолго застыло над горизонтом, раздумывая, стоит ли отправляться на покой, ювелир добрался до Илму-куша, первого городка в предгорьях. Он бросил страже у ворот полдинара и осведомился, где в городе чайхана получше — переночевать и там сойдет, устал от шумных караван-сараев за долгий путь. Выходило, что у хауза Трех карагачей, которую держит Толстяк Юсуф. Иль-Тар хмыкнул — он был готов поставить свой расшитый халат против старых штанов последнего из нищих, что расхваленная чайхана принадлежит родичу одного из стражников, но промолчал — города он все равно не знал.
Улочки кривые, улочки узкие, улочки белые от пыли, за высокими заборами раздаются женские голоса и детские крики, там тень и прохлада. На тихой площади встали три старика-карагача над вымощенным синей плиткой хаузом с удивительно чистой и прозрачной водой. А вот и чайхана — немаленькая и, видно, недешевая, но уж сейчас деньги можно не жалеть.
Зарах иль-Тар спешился, сунул поводья в руки стоявшему у коновязи слуге.
— Конюшня здесь есть? Позаботься о коне. Приду — проверю.
Парень — прилично одетый, лет на пять моложе Зараха, — кивнул, не поднимая на путешественника глаз, и что-то тихо сказал.
— Что? Ах да, держи! — Зарах кинул тенге.
Парень монетку ловить не стал — медь сверкнула в солнечном луче и звякнула о плиты мостовой.
Чайхана оказалась и в самом деле хорошей — резные столбики недавно подкрашены, ступеньки на айван ни разу не скрипнули, из кухни доносятся чудеснейшие запахи шурпы и мясного плова, дразня разыгравшийся аппетит, а в маленьком палисадничке на радость гостям распускаются розовые бутоны. Прямо кусочек Вечных Садов на земле, только гурий не хватает.
Когда ювелир, приятно отягощенный съеденным и выпитым — что и говорить, честно заработали свои полдинара храбрые стражи у ворот! — вышел на площадь, парень-слуга сидел у хауза.
— Эй, где у вас конюшня, показывай! Ты что, оглох? — Послеобеденное благодушие еще не покинуло иль-Тара, и он решил сам подойти к глуховатому слуге.
Положив руку парню на плечо и заставив того развернуться, Зарах раздраженно повторил:
— Ты оглох? Где мой конь?
Парень поднял глаза на ювелира и улыбнулся — добродушной и мягкой улыбкой умалишенного.
Ювелир отшатнулся. Глупец! Трижды и четырежды глупец! Парень, которому он доверил своего коня, — девона![97] Как?! Как, о Творец, он мог так ошибиться?! Где были его глаза, что он принял безумца за слугу?! И где, где, скажите на милость все звезды небесные, искать в этом проклятом Илму-куше пропавшего жеребца лучших паньольских кровей? Да его уже давно увели у этого сумасшедшего, теперь продадут за десяток динаров и не поморщатся! А ведь иль-Тар покупал его… Да разве в деньгах дело?!
Зарах судорожно оглядел площадь. Куда бежать, где искать? Бесполезно. Девона, все так же ласково улыбаясь, смотрел на него, и такая злость охватила иль-Тара, что, позабыв — Создатель не велит обижать таких, да и парень ни в чем не виноват, — он замахнулся на беднягу…
Пощечина не достигла цели — в омраченных бессмыслием карих глазах девоны дрогнул и расширился, захватывая радужку, зрачок… и Зарах провалился — в черное вихрящееся безумие, в крики сотен голосов, в мерцание огненных точек. Ни неба, ни земли… Одна темнота, гнилыми каплями сочащаяся в сердце, и дрожащее мигание огней… Нет, так моргают глаза — десятки! сотни! тысячи! Иль-Тар дернулся, забился мухой в патоке, — бесполезно. Попытался крикнуть — из стиснутого ужасом горла не вырвалось ни звука. Все попытки разбивались об упругую черноту, о несмолкаемый беззвучный вопль… Между тем пылающие зрачки приближались, и в какой-то момент ювелир понял, что все это — глаза одного существа… Ближе и ближе. Сознание отказывалось воспринимать происходящее, и уже на грани безумия Зарах почувствовал, как темнота становится хрупкой и ломается льдом под ногами…
Натянутое над прилавком полотно будто в ладоши хлопало, но даже ветер не смягчал оглушающей — дубинкой по бритому, истекающему потом затылку — жары середины лета. Тень казалась тонкой, почти прозрачной, как вэньские шелка на танцовщицах — ах! вроде и одеты, а вроде и нет… Лепешечник Шахар вздохнул и промокнул лоб рукавом халата. Нет, думать о танцовщицах по такой жаре нельзя — так недолго и удар схватить. Перед Шахаром — ровными стопками, одна к другой, — лежали лепешки. И каких здесь только не было! Большие и маленькие, такие, что впору самому шаху — по динару, полновесному динару за штуку, и те, что из серой муки, бедняцкие, которые есть можно лишь горячими, иначе они каменеют, по полтенге за пять штук, — даже эти у Шахара выходили на удивление. Ароматные, румяные, присыпанные мелко нарубленным бараньим жиром и луком, морковью и специями: тмином, райхоном, зирой, укропом, кинзой… Как, вы думаете, пахнет в Небесных Садах? Цветами? Нектаром и амброзией? Ошибаетесь, уважаемые! И долго вы там протянете, пыльцу вкушая? Хлебом там пахнет, свежевыпеченным, с пылу с жару! Так всегда говорил Шахар-лепешечник своим покупателям, а они ели и поддакивали!
— Эй, парень, чего брать будешь?
Вихрастый мальчишка лет десяти, уже давно стоявший у прилавка, коротко взглянул на Шахара сквозь заросли пегих от пыли волос.
— Эх, кто ж тебя так разукрасил? — скривился лепешечник — нос у мальчишки был распухший и сине-лиловый, на щеках — царапины. — Не иначе как с Джанджахой-демоном сражался, пахлаван?![98]
На хохот мальчишка не отозвался. Хлюпнул разбитым носом и жадно поглядел на разложенное перед его глазами аппетитное богатство.
И Шахар-лепешечник не поверил своим глазам — прямо перед ним аккуратная горка лепешек с бараниной сократилась аж на три штуки!
— А?.. Ты это как… — воззрился лепешечик на мальчишку. Сомнений в том, что лепешки стащил именно он, не возникло. Вот не было этих сомнений, и все!
Мальчишка под взглядом Шахара дернулся, часто-часто заморгал…
— Я… Простите, простите, ради Создателя! Я… я не хотел! — Тонкая детская рука рванула ворот старой рубахи — чужое, взрослое движение.
И над прилавком возникли три лепешки с бараниной. Раз — и они попадали обратно; одна не удержалась, прокатилась по прилавку и свалилась в рыжую базарную пыль.
— Та-а-ак… — Шахар ловко схватил маленького оборванца за ухо. — Ты что творишь?! Хлебом разбрасываться?! Да кто ты такой?
— Не трожь его, Шахар, — лениво вмешался сосед слева, укрывшись, как за крепостной стеной, за пирамидой ранних дынек-кандалупок. — Это приемыш старого Рудари-писца. Мальчишка и вправду не нарочно — бывает у него так, посмотрит на что-нибудь, и то вдруг исчезнет. Мне жена рассказывала. Рудари мальчишку бьет, голодом морит, вот он на твои лепешки и уставился. Есть он хочет.
— Та-а-ак… — повторил Шахар и поглядел на оборванца. Тот вытянулся в струнку — а как иначе станешь, когда за ухо со всей силы держат? — но молчал. — Как тебя зовут?
— Фарухом, — опередил мальчишку всезнайка-сосед. — Так Рудари назвал. Сам-то мальчишка своего имени не помнит. Ни имени не помнит, ничего не помнит. Его месяца полтора назад караван старого Юсада оставил — вроде как подобрали на дороге.
— Не помнит, говоришь… — прогудел лепешечник, внимательно оглядев нечаянного воришку. — Если ухо отпущу, не побежишь?
— Н-нет.
Шахар отпустил покрасневшее ухо, но предусмотрительно взял мальчишку за шиворот.
— Тогда пошли. Эй, сосед, пригляди за товаром!
— Пригляжу, отчего не приглядеть для хорошего человека. — Лысина торговца сверкала на солнце, как одна из его дынек. — А куда это ты его потащил?
— К горшечнику Улькаму, ему помощник нужен. Все лучше, чем у Рудари синяки получать. На, держи. — Шахар сунул мальчишке лепешку. — Держи, держи. Раз сам даю, значит, можно. И откуда ж ты такой взялся? — вздохнул лепешечник, глядя на сияющие глаза маленького оборванца.
Босиком — по солнцу… Горячо, горячо, горячо! Полуденный зной выбелил небо и нагрел даже саманную крышу, да так, что припекало и привычные ко всему босые ноги мальчишки. Подпрыгивая и шипя сквозь зубы, Фарух пронесся по горячей кровле туда, где сушились уже окрашенные горшки, дожидаясь второго обжига.
Фарух схватил первый попавшийся под руку кувшин, высокий, чуть ли не в половину своего роста, и не выдержал — скривился. «Яшмовая» полива, секрет гончара Улькама, была похожа сейчас на бурую высохшую тину и пахла едко и противно, протухшей рыбой и мокрой шерстью. Совсем другое дело будет после того, как кувшин достанут из печи — он засверкает, словно обработанная яшма, и вода из такого кувшина покажется вдвое вкуснее обычной…
Нести кувшин было неудобно, уж больно большой — не видно, куда и шагаешь. По лестнице надо бы поосторожней, не допусти Создатель споткнуться… И словно злые духи подслушали — узкая ступенька ушла из-под ног, Фарух попытался удержать равновесие, но тяжелый кувшин зажил своей жизнью и выскользнул из рук…
Вдребезги.
Фарух стоял и ошеломленно смотрел на осколки. Всего неделю он живет у устада[99] Улькама — и вот…
— Что случилось? Фарух, ты куда пропал?!
Фарух дернулся, и осколки кувшина исчезли с вытоптанной земли.
— Сейчас иду, мастер!
Устад его побьет, это точно. Старый Рудари и не за такой проступок прохаживался палкой по тощим мальчишеским бокам. При мысли о побоях у Фаруха заныл сломанный недавно нос и защипало в глазах, но деваться некуда — признаваться все равно придется.
— Как ты это делаешь?
Фарух обернулся — у дувала, в тени старой кривой урючины, стояла девочка — яркие ленты в косичках как бабочки в траве — и внимательно смотрела на него. Дочка горшечника, сообразил Фарух, он уже несколько раз видел ее в саду, но ни разу не разговаривал.
— Как ты это делаешь? — повторила она свой вопрос.
Фарух пожал плечами и потупился. Не знает он, как это у него получается! Само выходит.
— Боишься, что отец накажет? — Девочка подошла ближе. — Хочешь, скажу ему, что это я кувшин разбила? Он меня ругать не станет.
— Нет! — вскинулся Фарух. Еще чего не хватало, будет он за какой-то девчонкой прятаться! — Я ему сам скажу. Вот сейчас пойду и скажу.
Он повел рукой, и осколки невезучего кувшина вернулись на землю, будто их никто и не трогал.
Девочка завороженно посмотрела на них, потом ткнула один ногой.
— Слушай, — карие глаза ее блестели, — а ты так со всем, чем угодно, можешь?
— Ну, — задумался Фарух, — не со всем.
— А… — девочка повертела головой, — а с ней можешь?
Фарух поглядел — у самого дома, вытянувшись на узкой полоске тени, спала в холодке трехцветная горшечникова кошка, время от времени дергая лапами — наверное, бежала в своем кошачьем сне.
— Нет, не могу, — признался Фарух, но, увидев, как поджала губы девчонка, поспешил добавить: — То есть могу, но у меня голова сильно болит, когда живых так… прячешь.
— А-а-а… — протянула девчонка. Было видно, что у нее еще много вопросов, но сказала она совсем не то, что ожидал Фарух: — Меня Гюльнар зовут.
— А меня — Фарух.
— Я знаю, — кивнула она важно и неожиданно ткнула пальцем куда-то на лоб Фаруху: — А это я вышивала.
Фарух снял тюбетей — его, как и всю остальную одежду, дала ему жена горшечника, Мухаббат-опа, проворчав, что в его лохмотьях и нищему-то ходить стыдно. На тюбетее разноцветным шелком была вышита чудесная птица Семург, рисунок был кривоват, а узор вокруг был явно сделан впопыхах — мастерице, видно, не хватило терпения.
— Мне очень нравится, — честно сказал Фарух.
— Стан твой строен, как кипарис, лик твой подобен луне, глаза — блистающим звездам, губы — кораллам, а груди твои… Ой! За что?!
— Сам не догадываешься?
— Да это же не мои слова. — Фарух потирал бок, куда так болезненно ткнула кулачком Гюльнар. — Это великий…
— Иль-Ризани, знаю, — фыркнула Гюльнар, даже в темноте можно было разглядеть ее недовольно сдвинутые брови. — То, что он великий, еще не означает, что ты можешь мне такое говорить. И… ты когда-нибудь видел кипарис?
— Э-э-э… нет, любимая.
— Так откуда ты знаешь, что я похожу на него?
Фарух промолчал в замешательстве. Он так старался, запоминал… но Гюльнар — на что она обиделась?.. Теперь будет молчать, а то и вовсе уйдет…
Едва слышно журчала вода в арыке, прохладный ветер с реки шевелил листву, донося до укрывшейся в глубине сада пары сладко-легкий запах цветущей джиды, а месяц, хрупкий, тоненький, бросал отсветы на ее лаковые листья…
Фарух ласково провел ладонью по блестящим волосам девушки — она распустила косы — для него…
— Ты изящна, словно молодой тополек, что твой отец посадил у колодца, кожа твоя — как лепестки шиповника, первых бутонов, чей аромат пьянит сильнее вина, глаза твои — прости, не могу сказать по-иному, — звезды в ночи, указующие путнику дорогу к дому, губы сладки, как спелый тутовник… Так сладки…
На этот раз никто Фаруха в бок не бил…
— И не нужен нам никакой иль-Ризани, — прошептала зардевшаяся Гюльнар.
— А помнишь, я принес тебе полную тюбетейку тутовника, и мы измазались так, что отстирать одежду не получалось, и потом твоя мать обещала надрать мне уши, если я ей на глаза попадусь?
— Помню. — Тихий смех в ответ.
Так зудит комар — то тише, то громче, протяжно и нудно, не прекращая, не останавливаясь… Фарух никогда не думал, что такие звуки может издавать человек, одаренный милостивым Творцом мыслью и речью. Стоявший шагах в пяти от Фаруха мужчина немолод и небогат — седина уже затронула бороду, рваный в нескольких местах халат подпоясан засаленным платком, крупные, темные от постоянной работы под солнцем руки дехканина крепко сжимали длинную, с устрашающим крюком на конце, пику. Человек покачивался, с пятки на носок, — так мерно движутся волны — и тихо выл. От этого утробного стона хотелось сбежать, не важно куда, главное — не слышать и забыть побыстрее, или подойти и — ударить, сильно, только чтобы замолчал. Убежать Фарух не мог — сменить их на стене должны были еще часа через четыре, а ударить… тоже не мог — ветер с южной стороны долины, куда, не отрываясь, смотрел дехканин, то и дело доносил до часовых едкий дым спаленных виноградников. «И упаси Создатель, — думал Фарух, — узнать, что видит в дыму этот человек».
Старый эмир ушел из цветущих садов своей столицы в Сады Вечные — да будет прочен мост над Пропастью грехов под его ногами, и да встретят его на той стороне гурии с радостью! — а на престол из шахриданской бирюзы и белого золота решили взойти сразу двое его сыновей. Старший сын, книгочей и астролог, как и завещал эмир, и младший, воин и любимец восточных князей, на чью пылкую гордость надел узду покорности старый эмир. Вражда сторон захлестнула столицу и выплеснулась на просторы страны кровавой усобицей. Илмукушцы присягнули старшему брату, отправив гонца с посланием, и дары, и отряд в сто человек — а больше войск в Илму-куше и не стояло, город-то маленький, — все, как требовалось, честь по чести. Но, видно, не в пользу горожан легли кости… Через два дня под стенами Илму-куша стояли полторы тысячи сабель одного из восточных князьков, а у ворот города — тот самый гонец, верхом на осле, едва живой от побоев и с вестью — Илму-куш признан мятежным городом. С такими разговор короткий — если жители сдадутся на милость настоящего владыки, то будут оставлены в живых, но проданы в рабство, если же нет — город будет разрушен, дабы явить благой пример другим. И что с того, что войска старшего брата стоят в пятидневном переходе от города? Илму-кушу они помочь уже не успеют.
Сзади раздались шаги и звон кольчуги. Фарух выпрямился и тверже стиснул тяжелое и такое непривычное для гончара копье — Масуд-бей, начальник городской стражи, не терпел распущенности, пусть даже и от вчерашних мирных горожан.
Тихий рык — и забивший слух стон оборвался, послышался торопливый топот — вниз, по лестнице.
— Остаешься один. И не спать!
Гончар кивнул, глядя в холодные глаза под седыми бровями. Холод поселился в глазах старого сотника с утра, когда узнали, что городской глава бежал, а с хокимом и его личная стража, пятнадцать человек. На стенах Илму-куша, давно требовавших ремонта, оставались сорок городских стражников, больше привыкших на базаре за порядком присматривать, и не обученные за меч браться горожане.
— Не спать, — повторил Масуд-бей и подергал себя за сивый ус, глядя, как прямо перед ними, в пяти полетах стрелы, за обмелевшим саем[100], готовятся к ночевке враги.
— Не спать? Уснешь тут, — дернул плечом Фарух, когда сотник ушел дальше проверять посты. — Когда такое впереди.
Впереди… А за спиной — город… Неродной город. В детстве Фаруха дразнили приблудышем, чужаком, отродьем демонов… Что ему до Илму-куша? Уговорить Гюльнар бежать и ночью, когда его сменят на посту, перебраться через низкие стены… Она откажется бежать, оставив родителей в городе. А Шахар-ака, согласившийся стать отцом жениха на намеченной осенью свадьбе? А… Фарух едва не застонал, сообразив, что всех не убедить, не вытащить из осажденного города. Да, Илму-куш ему не родной, но какой же тогда родной?
В быстро сгущающихся южных сумерках один за другим замерцали теплые огоньки костров. Два, три, десять, двадцать… все больше. Там едят, пьют и веселятся: Илму-куш — законная добыча, жирная добыча! — которая и сопротивляться-то не сможет. Не будет подвига, но будут вереницы рабов на невольничьем рынке, и потечет рекой в кошели на замызганных поясах звонкая монета. Ее благословенный звон приятней пения гурий и заглушит угрызения совести… Да какая там совесть?! — резко оборвал себя Фарух. Не было никогда и нет совести у этих последышей противоестественного союза верблюдицы и осла! Зато есть оружие, умение и опыт… и не низким стенам Илму-куша противостоять распаленной ожиданием добычи солдатне. Тех, кто будет сопротивляться, вырежут, город сровняют с землей, как уже сталось с Чаркентом… Быть может, потом эмир и найдет управу на брата, но чем это поможет илмукушцам? Ведь нельзя вернуть все — и всех! — назад, не в силах это человеческих…
Не в силах… А для отродья демонов? Фаруху стало страшно — в прозрачной синеве подступавшей ночи, подмигивая и пританцовывая, дрожали сотни костров, и у каждого, наверное, не по одному человеку… Он не сможет, не потянет всех! Пять, шесть человек, десяток, ну, может, два десятка он «спрячет» — если разом, не отвлекаясь ни на что, но не всех!
И что же делать? Ждать утра и неизбежной атаки? Кто из жителей города доживет до вечера? Кто?!
Главное — успокоиться и внимательно всмотреться в окружающую костры темноту. Остротой зрения Фарух мог гордиться по праву — вот одна фигура, другая… надо представить, увидеть — они такие же люди, как и все. Где не справятся глаза, поможет воображение… Так, есть один… два… три… Резко, рывком, заломило от боли голову. Не отвлекаться. Дальше… Они обычные люди, они… Есть десять. Люди, как все… Из носа текла кровь, щекоча кожу и отвлекая. Это же люди…
С тихим стоном Фарух сполз по стене на пол, его трясло от боли, ногти сорваны… Он не справился. Пожалел — и себя, и этих… Больно? Люди? Это сейчас они — люди, но что будет при штурме, что будет после? Кто из них ворвется в маленький дом гончара, где во дворе старая, не приносящая плодов урючина? Ее бы спилить давно, да все жалко… Кто из этих людей — нелюдей? — посмеет дотронуться до черных кос красавицы-невесты?
Фарух заставил себя встать. Легче надо… легче… Опереться на еще теплые, нагретые солнцем камни стены и позабыть о рвущей виски боли. Над головой качается черное мягкое небо, и кружатся в танце близкие звезды, а впереди — мигают, расплываются оранжевые шары костров. Так бывает от слез. Но ты же не плачешь, нет? Легче. Еще… Это не огни костров, это глаза — слезящиеся от жара зрачки чудовища. Оно ворочается и ничего не понимает, оно огромно… Но чудовище — одно. И ты — один, а значит, ты сможешь… Сможешь.
Ледяная вода бежала по лицу, заливаясь в нос, и Зарах закашлялся и очнулся. Перед глазами маячили встревоженное лицо чайханщика и высокий расписной чайничек, из длинного носика которого текла струйка воды.
— Хва… — Иль-Тар поперхнулся, снова зашелся в приступе кашля и замахал руками. — Хватит! Убери.
Не слушая причитаний толстяка-чайханщика, Зарах встал, с омерзением отряхивая халат. Ледяное купание превратило дорожную пыль, в которой он валялся, пока был без сознания, — как свинья, прости Творец! — в мокрую грязь. Иль-Тар скинул халат на руки расторопного чайханщика и нашарил взглядом девону. Тот сидел на краю хауза и как ни в чем не бывало смотрел на играющие по водной глади солнечные блики.