Непереводимая игра слов Гаррос Александр
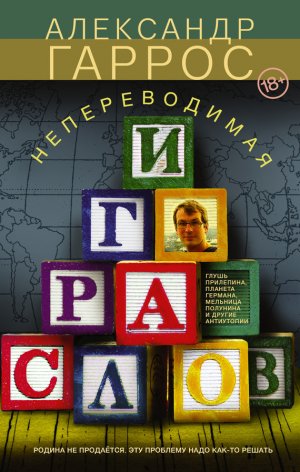
Я выхожу через какие-то подворотни к музею современного искусства PERMM. У входа в музей столб – а на нем торчащие под разными углами указатели, где написаны названия разных музеев современного искусства и указано расстояние до них. До лондонской Тэйт Гэллери и парижского Центра Помпиду – по четыре тыщи двести километров, до нью-йоркского Гуггенхайма – восемь тыщ с гаком; мораль, наверное, в том, что все мы, невзирая на расстояния, братья по разуму, – но подсознание, подавленное километражем, бурчит что-то прямо противоположное. Билет стоит сто рублей. Внутри стильно и пусто, пара посетителей (ну, не сезон), на стенах Пепперштейн, Рубинштейн, Пригов, Комар и Меламид. На втором этаже – детское творчество, результат мастер-класса, проведенного в рамках «культурной революции» приезжими «митьками» с местной юной порослью. Я спускаюсь по лестнице к выходу, между пролетами человек в кожаном пальто страшным шепотом говорит в мобильный телефон: «Я же ему, дебилу, ясно сказал – не работай больше праворульные, ёпть!..»
На фасаде вокзал-музея неподалеку от выхода обнаруживается самый концептуальный образчик современного искусства в Перми; не знаю уж, принадлежит его авторство приезжим художникам или местному населению. Тут на стене зияют две овальные проплешины: раньше висели таксофоны, потом таксофоны сняли. А потом к проплешинам кто-то пририсовал углем крученый шнур – и кудрявую тетеньку с трубкой в руке.
Это недружественная, но пока самая точная метафора пермской «культурной революции».
Когда-то на этом месте был некий механизм. Неказистый, с хреновым дизайном на входе и плохим качеством работы на выходе. Он вовсю глотал монету – но лишь изредка обеспечивал результат. Но все-таки он как-то работал, и на этом во многом строилась вся окрестная жизнь. Потом пришли новые времена, и механизм испортился и сделался нерентабелен – в произвольном порядке. На его месте осталась дыра. И долго было так. Но потом пришли сверхновые времена – а с ними веселые и хваткие ребята с фантазией и, возможно, благими намерениями. Они не собирались, да и не могли соорудить на этом месте новый механизм – у них на это не было ни времени, ни денег, ни полномочий. Но они нарисовали здесь эту картинку, постмодернистский образ кудрявой тетеньки, которая виртуально пользуется тем, чего реально нет. Они превратили просто дыру – в дыру как акт искусства, в надежде, что теперь дыра сама собой заполнится художественными смыслами и общественным энтузиазмом, а из смыслов и энтузиазма сам собой вырастет новый механизм, и он будет больше похож не на советский таксофон, а на спутниковое средство связи с Гуггенхаймом, Тэйтом и Центром Помпиду.
По крайней мере, думаю я, в истории «Теодор Курентзис покоряет Пермь» есть одно важное отличие от контекста прочей пермской «культурной революции». В ней есть обещание нового механизма, а не только концептуальный отыгрыш дыры на месте старого. В ней есть реальные процессы, конкретные люди, предметная музыкальная машинерия, подробно прописанные планы – за год три-четыре оперные постановки (и среди постановщиков – Дмитрий Черняков, Анатолий Васильев), не меньше десятка симфонических программ, не меньше двух десятков камерных… В ней есть гипотетическая консерватория, наконец. В ней есть шанс. Я не знаю, велик ли он. Я не знаю, будет ли успешно реализован не только проект «Курентзис», в котором есть уровень «Пермь», но и проект «Пермь», в котором есть уровень «Курентзис». Я не знаю, получится ли в итоге доказательство того, что инновация и модернизация силами группы молодых и амбициозных индивидуалистов и впрямь возможны, если дать им соответствующий ресурс и достаточную свободу, – или доказательство прямо противоположного. Я не знаю – и не могу поставить на красное или черное.
Когда в кафе «Pravila» Теодор Курентзис говорит всей честной компании свой тост про то, что предстоит совершить и преодолеть присутствующим, чей-то довольно юный голос после коды про эмигрантскую долю в случае неудачи тихонько хихикает и повторяет: «Через пять лет будем эмигрантами в Европе… ха…»
В этом голосе звучит почтительный сарказм, и не только от того, что тост произносит полноправный еврожитель Курентзис.
В этом голосе звучит: да, это ты загнул, маэстро Теодор, вот, значит, каков жалкий удел проигравших – эмиграция в Европу!
В нем звучит: ну а я бы, пожалуй, попробовал.
В нем звучит: а может, это и лучше – жить эмигрантом в настоящей, уже готовой Европе с ее соборами и поборами, оперно-филармонической индустрией, бытовым орднунгом, вежливыми скупердяями-бюргерами; может, это и лучше, чем в революционных судорогах взбивать, на манер притчевой лягушки, энтропийную пермскую реальность до малореальной консистенции европейских культурных сливок.
Тут как раз официантки начинают нести еду, и пока на стол переправляются салат «цезарь», сибас, тигровые креветки и прочие аутентичные уральские деликатесы, я успеваю подумать: ну что ж, дорогой Федор Иванович Курочкин, у тебя, пожалуй, есть эдак пять лет, чтобы попытаться переубедить этого парня.
И далеко, далеко не его одного.
Виды на жительство
Утопия Марии Амели: из войны в варяги (2011)
Мария Амели написала про свой крутой маршрут нелегального иммигранта бестселлер «Ulovlig Norsk» («Незаконная норвежка») – и прославилась на всю страну. И вот тогда-то ее арестовали и депортировали в Россию.
Сегодня Мадина Саламова, ставшая Марией Амели, пробует новые социальные роли. Изгоя; главного медийного героя Норвегии за последние десять лет; причины громкого политического скандала, из-за которого сотрясается парламент и оправдывается премьер; «девушки, которая нагнула целое королевство», как сформулировал топ-блогер Drugoi…
И всё это роли, которые ей не нужны.
Это только сначала кажется, что история Марии Амели – это история про человека, который вынужден искать себя и свое место в катастрофически меняющемся мире. На самом деле это история про человека, который нашел и себя, и свое место. Только вот найденное приходится отвоевывать заново – потому что справедливость и здравый смысл «за», но «против» закон.
– А трупов-то сколько? – нервно спрашивает фотограф у оператора.
– Точно не знают, но много, – оператор щелкает сотовой «раскладушкой». – Говорят, кровища везде, руки оторванные, жуть… Раненых не меньше сотни…
Фотограф качает головой.
– Так чего случилось-то? – встреваю я.
– В Домодедове бомбу взорвали, – откликается фотограф. – В зале прилета!
Мы – я, и фотограф, и оператор, и еще десятка два фотографов, операторов, людей с диктофонами-микрофонами – тоже стоим в зале прилета. Только в Шереметьеве, потому что именно сюда скоро прибудет борт «Аэрофлота» из Осло. А на борту – Мадина Саламова, она же Мария Бидзикоева, она же Мария Амели. Девушка, которая недавно прославилась на всю Норвегию, написав книгу о том, каково ей жить там нелегальным иммигрантом. Девушка, которая только что, двенадцать дней назад, прославилась на всю Европу и даже мир, потому что тут-то ее – на взлете норвежской известности, в полушаге, казалось, от достижения заветного легального статуса, – и арестовали, а теперь депортировали. И вот мы все стоим в зоне для встречающих и ждем, когда приземлится самолет и выйдет Мадина-Мария со своим бойфрендом Эйвиндом Трэдалом, молодым норвежским редактором, который полетел в Россию вместе с ней.
В зале милиционеры перекрывают ленточкой все входы-выходы кроме одного, включают рамку металлоискателя и выставляют кордон. Рейс из Осло прибывает. Ватага папарацци подтягивается поближе к воротам. По залу бредут двое грустных милиционеров с унылой собакой.
– Убитых не меньше двадцати, – транслирует сводки оператор где-то за моим плечом.
Пассажиры из Осло уже давно выходят. Косятся на камеры, кто-то улыбается и машет рукой. Ни Марии, ни Эйвинда не видно.
– Ждите, ждите! Чего она вам сдалась-то? – сварливо бросает какая-то олд леди, катящая мимо нас хеопсову пирамиду дорожных кофров. – Из самолета выходить не хотела, задерживала всех!..
На самом деле очень даже хотела, будет она рассказывать потом. Это ее не выпускали – с ее выданными российским консульством бумажками, одноразово заменяющими паспорт.
Проходит еще не меньше получаса, и из ворот появляются Мария и Эйвинд. Она круглолицая и чуть раскосая, но как-то на скандинавский, северный лад, больше и впрямь похожая на Бьорк или Смиллу из романа Питера Хёга, чем на осетинку. Он – симпатичный нордический блондин. Всё точно как в фоторепортажах, которыми были заполнены последние полторы недели все норвежские таблоиды.
Папарацци принимаются судорожно сверкать блицами, репортеры тянут микрофоны. Мария и Эйвинд – губы сжаты, взгляд ни с чьим не пересекается – рвутся сквозь толпу, таща за собой чемоданы, не реагируя на микрофоны и блицы. В папарацци срабатывает инстинкт хищника, и они бросаются вслед. Человеческий ком, стрекоча и высверкивая, некоторое время рикошетит по залу, потому что выходы-то перекрыты. Выглядит это нелепо и как-то неприлично.
Наконец Мария и Эйвинд попадают в открытую дверь, вылетают в московский холод, прыгают в такси и уносятся. Несколько самых настырных папарацци прыгают в другое такси и уносятся за ними. Прочие, потоптавшись, начинают рассасываться.
– Ну вот, – меланхолично констатирует фотограф, пакуя камеру. – Надо было в Домодедово ехать. Кто ж знал.
– Полицейские пришли меня арестовывать впятером, – говорит мне Мария Амели неделю спустя (у нее вполне живой русский – с легким скандинавским акцентом). – Как будто я какой-то опасный преступник, представляешь? Как будто я скрывалась, и меня надо ловить. Хотя я ведь ездила по всей Норвегии с выступлениями, и график был всем известен. Я просто не понимаю, зачем надо было так делать.
Примерно об этом же еще неделю спустя, в Осло, мне будет говорить Эгил, один из норвежских друзей Марии, активно участвовавших в кампании по ее защите. Мы будем сидеть в богемном райончике Грюнерлёкке, в кабачке с подозрительно знакомым названием «Sounds of mu», и Эгил будет объяснять мне: понимаешь, норвежцы очень болезненно относятся к неоправданной грубости государства по отношению к личности. И то, что Марию арестовали, – то, как ее арестовали! – насторожило даже людей, изначально ей не симпатизировавших…
А сейчас мы с Марией и Эйвиндом сидим в кафе через улицу от Консерватории, и они уже спокойны, расслабленны и по-европейски корректны. Они с аппетитом едят и заказывают по бокалу шампанского, потому что сегодня утром Мария получила первый в своей жизни паспорт, внутренний российский, – она показывает коричневую «корочку», в которой не похожа на себя фотографией и в которой ее зовут Мадина Хетаговна Саламова: не Бидзикоева и уж тем более не Амели… Они уже смирились с масштабами и ритмом Москвы, уже обжились в съемной квартире – снять помог один из московских экспатов-норвежцев; вообще местное норвежское комьюнити наперебой выражало готовность принять на постой, всячески содействовать и обиходить, и это, пожалуй, один из самых красноречивых ответов на вопрос, зачислила ли Мадину Хетаговну Саламову в свои прогрессивная часть норвежского общества, не путать с государством.
Мария и Эйвинд пьют шампанское, и мы спокойно, расслабленно и корректно обсуждаем всё, что было прежде. Как ее арестовали 12 января и отвезли в Трандум, изолятор для нелегальных иммигрантов, расположенный неподалеку от столичного аэропорта Гардермоен – чтобы, значит, депортировать было удобнее. Как она просидела там шесть дней. Как ее дважды раздевали догола для обыска. Как Эйвинд посылал к ней приятеля-священника, потому что его к ней не пустили бы, а священника обязаны были пустить. Как вокруг ее дела стремительно разгорался скандал, расколовший норвежское общественное мнение, норвежских политиков и даже правящую коалицию в стортинге, парламенте страны. Как в Осло, Бергене, Тронхейме сотни, а то и тысячи людей выходили на демонстрации в ее поддержку. Как суд постановил выпустить ее из Трандума, но обязал каждый день приходить отмечаться в участок, причем приходить надо было с упакованным чемоданом, потому что прямо из участка она могла отправиться в аэропорт и далее в Россию. Как они с Эйвиндом каждый день ожидали высылки, и она впала в депрессию (ее адвокат даже апеллировал к ее психическому состоянию, пытаясь отсрочить депортацию), а их осаждали репортеры. Как до последнего момента оставалась надежда, что ей позволят не покидать страну – даже после того, как сам премьер-министр Йенс Столтенберг высказался в том смысле, что сочувствует Марии, но закон един для всех. И как, наконец, 24-го за ней все-таки снова пришла полиция, и скоро она и Эйвинд уже сидели на борту «аэробуса 320», летящего в Шереметьево, – не подозревая, что за полтора часа до их прилета смертник в Домодедове рванет свои семь, или сколько там, килограммов в тротиловом эквиваленте, словно подтверждая: ты была права, Мария, когда боялась и не хотела возвращаться в страну, где прошло твое детство. И как непонятно, что теперь будет и позволят ли ей вернуться в страну, где она выросла и стала собой.
Мы сидим и вежливо обсуждаем кульминацию всей этой истории, финал которой неизвестен.
– Скажи, – спрашиваю я, – ты ведь помнишь свое детство в Осетии?
– Да, – откликается она, – я многое помню, Кавказ очень красивый.
И замолкает. На все вопросы о детстве она отвечает предельно скупо, и за этим уже ощущается четкая позиция: я – это не мое прошлое.
Хотя ей наверняка есть что рассказать.
Ее родной дядя – ныне уже покойный – был статусным хирургом. Ее родная тетя Земфира и вовсе жена Евгения Шапошникова, маршала авиации, последнего (после провала ГКЧП и до развала Союза) министра обороны СССР, человека, вхожего в ближний ельцинский круг, в девяностые успевшего послужить и секретарем Совбеза России, и представителем президента в «Росвооружении», – а сейчас в «Википедии» висит фото, где Шапошников стоит рядом с Путиным. Ее отец Хетаг Саламов в девяностые стал видным осетинским предпринимателем, занимался самыми разными бизнесами: мебель, ресторан «Карусель» в живописных окрестностях Владикавказа, водка, наконец.
У семьи Саламовых, входившей в региональную элиту, всё шло хорошо – а ближе к концу девяностых идти хорошо перестало. Бизнес у Хетага Саламова отжали, на нем повисли большие (говорят иногда – на осетинских форумах – многомиллионные) долги. Он пытался решить свои проблемы в Осетии; отправил дочку к родственникам в Москву, вначале как бы на каникулы – но в итоге каникулы растянулись на пару лет. Проблемы не решались; вскоре в Москве оказался и он сам, и его жена Елена. Скрывались, боялись кредиторов с их понятными методами. Потом несколько месяцев прожили в Одессе. Потом решили, что бежать надо дальше. Так Хетаг, Елена и их дочка-подросток Мадина оказались в Финляндии.
Родители подали заявление на получение убежища; в ожидании решения властей Елена работала в детском садике, Хетаг – на лодочном заводе, не особо престижная, малооплачиваемая, но легальная работа; так что неправы как минимум те, кто полагает, что Хетаг Саламов рванул в Европы с чужими миллионами. Мадина ходила в школу, подружилась с детьми, сносно выучила финский. Соседи относились к ним хорошо, мама Елена пекла для вечеринок осетинские пироги, городское самоуправление сулило сразу по получении заветного статуса кредит на открытие своего ресторанчика…
Так они прожили шестнадцать месяцев.
Только вот в статусе беженцев им в итоге отказали.
Иммиграционные чиновники не нашли весомого повода. Северная Осетия не была зоной военного конфликта. Взбешенные кредиторы с мафиозными якобы связями явно относились к компетенции российских властей.
Хетаг, Елена и Мадина быстро собрались и убежали из Финляндии в Норвегию.
Здесь родители снова подали заявление – умолчав, однако, о том, что уже получили отказ у финнов: это означало бы автоматическую депортацию. Снова лагерь для иммигрантов, снова адаптация к чужой стране, снова другой язык. Снова тревожное ожидание: дадут, не дадут… Шестнадцатилетняя Мадина, однако, получив временный иммигрантский ID, опять пошла в школу.
– Я просто поняла, – говорит она, – что не могу сидеть и ждать, когда же снова придется бежать. Не могу год за годом откладывать свою настоящую жизнь, ни к чему не привыкать и ни за что не держаться. Что я так сойду с ума. Что я хочу быть как все, дружить, учиться… Я хочу быть нормальной норвежкой. Ты понимаешь, да?
Чего ж не понять.
Можно даже понять, как она быстро выучила норвежский – быстро и настолько хорошо, что скоро вопрос «откуда ты?» оказывался вопросом, из какой она части Норвегии, и собеседники очень удивлялись, слыша в ответ что-то про Россию и Кавказ. И скоро про Россию и Кавказ Мадина – уже Мария, называвшаяся, как и ее родители, фамилией Бидзикоева (настоящей назваться опасались, совсем уж врать не хотелось – вот и позаимствовали фамилию родни со стороны одной из бабушек), – говорить перестала.
Куда сложнее понять, как ей удалось не только окончить школу и получить аттестат, но и поступить в университет в Тронхейме на социальную антропологию дробь общественные отношения, и отучиться все положенные годы, и окончить учебу магистром и с результатами достаточно хорошими, чтобы «Статойл», норвежский аналог «Газпрома», предлагал ей практику с дальнейшими карьерными перспективами. Потому что на всё это Мария не имела никакого права. Ведь ее родителям снова отказали, и семья Саламовых-Бидзикоевых снова перешла на нелегальное положение. А Норвегия – страна, конечно, демократическая, но еще и бюрократическая, тут даже налоговые декларации каждого гражданина во всеобщем доступе, и как «человек, которого нет» может успешно получить среднее и высшее образование, решительно не ясно. Этот вопрос, кстати, особенно занимает участников русскоязычных форумов в Норвегии и вообще в Европе. Разумеется, я спрашиваю ее об этом.
– Думаю, мне просто повезло, – говорит она. – Директор моей школы знал, что не должен давать мне аттестат… Но он сказал, что поможет мне. И помог, но я, когда подавала документы в университет, этого еще не знала – документы подаются весной, а аттестат вручают летом… Я вообще-то всерьез не верила, что поступить у меня получится. И документы в Тронхейм подала по сугубо романтической причине: туда после армии собирался мальчик, в которого я была влюблена в школе. Но я получила аттестат и поступила, и в университете никто ни разу не озаботился моим статусом – они знали, что я иммигрант, и у меня есть проблемы, и я стараюсь их решить, – и этого им было достаточно. Выдали мне студенческий билет и учили.
– И что, – не верю я, – ты ни разу не столкнулась с необходимостью предъявить паспорт или что-то, его заменяющее?
– Ну, – говорит Мария, – когда я окончила университет, мне отправили диплом по почте. И чтобы его забрать, нужно было предъявлять паспорт. Я сказала на почте, что его забыла. И ушла. Через две недели диплом отправили обратно в университет. И я получила его там.
– Ну хорошо, – всё еще не верю я, – но ты ведь не могла завести счет в банке? Кредитную карточку?.. В Норвегии ведь даже сим-карту не купишь без предъявления паспорта!
– Мобильный телефон, – улыбается она, – мне купили друзья, а я отдала им деньги. И если надо было что-то оплатить через банк, я поступала так же.
– Ладно, – я почти сдаюсь. – Но вот ты, скажем, заболела…
– Я не болела.
Я развожу руками.
– Когда у моего папы был инфаркт, – говорит Мария, – мы еще жили в лагере для иммигрантов. Там он получил всю необходимую помощь, ходил к врачу… Потом, когда мы стали нелегалами, мои родители пошли к этому врачу и всё ему рассказали. Мол, так и так, теперь по правилам вы не должны нас лечить… Но он сказал: к черту правила! А я действительно не болела. Правда, один раз сломала руку. Пришлось идти в больницу.
– И что?
– Ну, в Норвегии первую помощь обязаны оказывать всем… В общем, про документы меня никто не спросил.
Примерно об этом же неделю спустя, в Осло, мне будет говорить адвокат Марии Брюньольф Риснес. Мы будем пить кофе в его трехуровневой квартире в таунхаусе в тихом районе Тхуне, и Риснес будет убеждать меня: доверие, понимаешь, у нас в Норвегии очень многое основано на доверии. Личное пространство уважаемо, и если ты проявляешь себя как адекватный член общества, тебя так и воспринимают. Мария была более чем адекватной, хорошо училась, дружила со всеми, много работала волонтером – а о том, что у нее нет прав и социальных гарантий, что ей приходится зарабатывать уборкой чужих домов, она посторонним не очень-то рассказывала. Всё это Брюн Риснес будет объяснять мне на недурном русском, и когда я замечу: «А Мария не говорила мне, что вы знаете русский!» – пожмет плечами: «Ну, с ней-то мы всегда говорили по-норвежски!». А потом адвокат Риснес, у которого русская жена и шестилетняя дочка-билингв, сходит к книжной полке и покажет мне свою реликвию из тех времен, когда он жил в Петербурге и играл рок. Фотографию, где он стоит на сцене с гитарой и в алом пиджаке, а за плечо его обнимает Борис Гребенщиков.
Гребенщикова нет на плазменном экране, зато есть Леди Гага, идол нового глобального мира, где вроде бы стерты не только государственные границы, но и возрастные, расовые, национальные, гендерные заодно. Мы с Марией и Эйвиндом снова сидим в кафе – собственно, эти их нежеланные московские каникулы состоят из простых элементов: ночь в съемной квартире, марш-бросок по российским бюрократическим инстанциям, прогулка, кафе, прогулка, кафе. Сейчас была прогулка по Московскому зоопарку, где два норвежца, легальный и нелегальный, впервые видели живого белого медведя. На телефон Марии всё время приходят эсэмэски; телефон Эйвинда, не просто спутника жизни, но по совместительству пресс-секретаря, всё время звонит.
– Наши журналисты, – с ироничной ухмылкой жалуется-хвастается Эйвинд, – когда Марию депортировали, звонили вообще непрерывно. И всё время спрашивали меня: что, что вы будете делать в следующие пять минут?! В конце концов я стал отвечать: в следующие пять минут я буду говорить другим журналистам про свои планы на следующие пять минут!
– Мария, – спрашиваю я, – а как вышло, что ты решила написать книгу?
– Когда я окончила университет, – говорит она, – я окончательно перестала понимать, что мне делать. У меня были хорошие предложения работы, но я не могла пойти работать: ведь для этого нужны документы, паспорт, легальный статус – а всего этого у меня нет. У меня были отличные друзья, но моя жизнь всё время висела на волоске, каждый день меня могли поймать и пинком выгнать из страны. Я стала всерьез думать о том, чтобы купить фальшивые документы и зажить под чужим именем… Но это значило перестать быть собой, всю жизнь прожить во лжи… Этого я не хотела. Все предыдущие годы я каждый день искала верное решение. И так и не смогла его найти. Я была в отчаянии. И тут мой профессор антропологии посоветовал мне: почему бы тебе не превратить свою историю в книгу?
Вот оно, решение. Не шпионская жизнь под прикрытием чужого паспорта, нет – нечто прямо противоположное: максимальная публичность.
И она села и превратила свою историю в книгу.
Написала быстро: в дело пошли дневники, которые она вела, да и со стилем проблем не было – простой бесхитростный рассказ от первого лица, простыми недлинными фразами. Простые страхи и надежды: страх разъедающей зыбкости жизни вечного беглеца, надежда обрести вожделенную стабильность. Тоска иммигрантских лагерей. Неприкрытое восхищение новой родиной. Неприкрытое желание быть ее частью. Благодарность окружающим норвежцам, от преподавателей до работодателей, ни один из которых не обидел, не унизил, не сдал в полицию, хотя мог и даже был должен. Обида на норвежскую бюрократическую машину, для которой она, живой человек Мария, всего лишь абстрактный бумажный case.
Псевдоним она взяла претенциозный, да: Мария Амели. Но за этим, рассказывает она, личная драматическая история. Про сходство с героиней фильма Жёне сказал ей как-то хороший приятель. Который позже покончил с собой.
Контракт с издательством «Pax Forlag» был подписан быстро – возможно, еще и потому, что издатели по договору не платили безвестной нелегалке аванса (правда, потом подарили компьютер). Книга под названием «Ulovlig Norsk» («Незаконная норвежка») вышла к осени 2010-го. И вдруг оказалась чертовски успешна. История осетинской Золушки, которой холодная буква закона не дает быть простой трудящейся норвежской принцессой, прошла на ура – она попала в топ продаж, тираж допечатывали несколько раз (а в феврале-2011, судя по сайту издательства, допечатывают опять – ясное дело). Мария Амели стала знаменитостью. У нее брали интервью титульные газеты, про нее говорили по ТВ. Ее стали звать на выступления по всей стране. Популярный левый журнал «Ny Tid», закрепляя успех, выбрал ее «норвежкой года». Еще за пару дней до выхода книги она подала заявление на получение вида на жительство – первое самостоятельное в своей жизни. Все ее друзья, вспоминает она, не сомневались в успехе, не сомневался и адвокат – «ну просто потому, что это Норвегия!». Тогда же, осенью, Мария встретила Эйвинда – на каком-то окололитературном семинаре, где все пришедшие читали отрывки из дневников. Мария читала из собственной книжки. Эйвинду понравилось прочитанное, а про книжку он ничего не знал. Как же так, удивилась Мария, ты ведь работаешь в медиа? – а он просто не был в Норвегии всё то время, за которое оформилась ее литературная известность.
Ее родители Хетаг и Елена всё так же скрывались в норвежском подполье без каких бы то ни было перспектив: зарабатывали как могли – мама убирала квартиры, отец работал по дереву… Но у самой Марии жизнь зримо налаживалась.
А потом ей пришел отказ от иммиграционных властей. И всё завертелось очень быстро, и 12 января нового 2011-го ее арестовали, а 24-го отправили в Москву.
– Получилась очень глупая история, – говорит мне в Осло адвокат Брюн Риснес. – То есть я догадываюсь, почему наши власти поступили с Марией именно так – хотя закон об иммиграции сформулирован достаточно расплывчато, и ей можно было позволить остаться в Норвегии, даже несмотря на девять лет, прожитых ею в противозаконном статусе нелегала. В конце концов сама она, отдельно от родителей, подавала заявление впервые – а за то, что ее ввезли в страну несовершеннолетней, она отвечать не может. Но ситуация с иммигрантами в последние годы сильно прибавила в остроте, и именно Мария с ее книжкой, с ее публичной известностью показалась, наверное, хорошим поводом продемонстрировать непреклонность закона. Но правительство явно не ожидало такой острой реакции огромной части норвежцев. А теперь власти уже просто не могут давать задний ход: это и потеря лица, и пугающий их прецедент… И в чью это, интересно, умную голову пришла идея демонстративно арестовывать Марию силами пяти полицейских ровно в тот день, когда у нее по плану было выступление в Центре Нансена? Да еще и в Год Нансена, а?
Это точно: Фритьоф Нансен, одна из национальных икон, чье стопятидесятилетие отмечается аккурат в этом году, не просто легендарный полярный исследователь и основатель науки «физическая океанография». Он еще и великий гуманист и филантроп, лауреат Нобелевки мира-1922 с формулировкой «за многолетние усилия по оказанию помощи беззащитным», первый в истории верховный комиссар Лиги Наций, тогдашнего ООН, по делам беженцев, чьими стараниями множество несчастных беглецов из России получили паспорта, так и именуемые «нансеновскими». Рифмовать арест и депортацию двадцатипятилетней незаконной норвежки Марии Амели с именем Нансена – шаг, так скажем, недальновидный.
– В итоге, – продолжает Риснес, – вместо истории про то, что закон суров, но это закон, получилась история про то, как Система противостоит Человеку. А такая история никому в Норвегии понравиться не может. И привлекает очень, очень много внимания.
О да, очень. Депортация Марии Амели стала самым масштабным – просто по количеству сообщений – медийным поводом Норвегии за последнее десятилетие. Правда, к середине февраля в спину уже дышала египетская революция, но всё равно история Амели вызвала больший резонанс, чем американская террористическая атака 2001-го, чем цунами в юго-восточной Азии, чем Ирак и Афганистан, чем избрание Обамы, чем WikiLeaks, чем все местные события и скандалы.
Маленькая незаконная норвежка Мария Амели, думаю я, конечно, не «нагнула» это странное королевство, в котором есть монарх, но нет аристократии (упразднили двести лет назад), в котором есть государственная нефтянка, но нет сырьевой паразитарности, в котором монархизм, социализм, капитализм и патернализм сочетаются в пропорции достаточно причудливой, чтобы сделать его одной из самых дорогих, но привлекательных для жизни стран мира. Но она взбаламутила это королевство так, как никому давно не удавалось. Против нее оказалась самая представительная в стортинге Рабочая партия, чей ставленник премьер Йенс Столтенберг и решил проявить твердость. Но левые социалисты, ратующие за упрощение громоздкой иммиграционной машинерии, выступают решительно за Марию – и вместе с ними практически вся богема, интеллектуальная элита, пресса. «За» высказалась и норвежская церковь. Пока государственная бюрократия, загнавшая себя в ловушку чрезмерно скандальной истории, но не имеющая возможности отступить без потери лица, упорно гнула линию на депортацию, многочисленные компании наперебой предлагали Марии Амели сотрудничество, прослышав о том, что предложение работы даст ей легальное право остаться в стране, и она в итоге подписала контракт с журналом «Teknisk Ukeblad». Это не помогло, но теперь добившиеся своего власти вынуждены всерьез рассматривать варианты смягчения закона, предписывающего невъезд на срок от года и выше для лиц, нарушивших иммиграционное законодательство, исключительно чтобы Мария Амели, получив русский загранпаспорт, смогла сразу вернуться в Норвегию по рабочей визе.
Она – Мадина Саламова, как бы она себя ни называла, говорят одни, незваный и незаконный пришелец в Норвегии, и пусть она ищет себя и свое место в России, ну или прямо в Осетии, там же ее родина? Она – Мария Амели, говорят другие, и ее место, конечно же, в Норвегии (и среди этих других особенно много собственно норвежцев). Она честно рассказала нам историю своей жизни, чтобы мы увидели и прониклись, говорят одни. Она рассказала вам то, что вы хотите слышать, а на самом деле всё это пиар и манипуляция, говорят другие (и среди этих других особенно много русских – или бывших русских).
Всё проще, ребята, думаю я, карабкаясь по заснеженным тропинкам возле ословской крепости Акерсхус, где памятник Рузвельту смотрит на заледеневшую гавань. Разумеется, она урожденная Мадина Саламова. Но она давно и взаправду, старательно и честно стала Марией Амели. Разумеется, вся эта история – чистой воды манипуляция и несомненный пиар. Но это внесистемный, ни одной закулисной силой не запланированный пиар, и это честная манипуляция одиночки.
Конечно, когда Мария Амели, всерьез подумывавшая о фальшивых документах, писала свою книгу, она писала не столько книгу, кусок словесности, сколько развернутое заявление иммиграционным властям: вот я, вот как я люблю вашу страну и ваш народ, вот как я здорово владею вашим языком, я большая норвежка, чем многие чистокровные норвежцы, неужели вы настолько бессердечны, чтобы меня отвергнуть, примите меня в свои! Отсюда – точно найденная бесхитростная интонация, отсюда – идеально (именно по канонам открытого письма, слезной челобитной, а не литературного вкуса) подобранный в первых же главах ряд литературных альтер эго: честная трудяга Золушка, невинная жертва Анна Франк, стоическая жизнелюбка Скарлетт О’Хара.
В шахматах это называется «гамбит»: когда противнику жертвуют фигуру, чтобы захватить стратегическую инициативу и победить. У Марии Амели не было других фигур, кроме нее самой. И она своей книжкой предложила себя в жертву, надеясь, что не съедят, что засчитают победу за красоту и искренность жеста, за верность честным норвежским правилам. Однако съели; но у жизни правила не вполне шахматные – и даже съеденная пешка может выйти в ферзи при известном везении.
– Мы сегодня ходили плавать в бассейн, – говорит мне Эйвинд Трэдал. – Э-э… как у вас называется такая белая морская птица?
– Чайка.
– Tchayka, – с удовольствием повторяет он. – Ну вот, мы ходили в бассейн Tchayka. И там трижды надо было заполнять какие-то бумаги и предъявлять паспорт. Как будто это отдельное государство. Это же не очень разумно, что теперь бассейн Tchayka знает обо мне больше, чем многие мои близкие друзья в Норвегии?
Я вспоминаю этот диалог, бродя по центру Осло, столицы государства, где разумно устроен даже стихийный уличный протест нелегального меньшинства. Возле Кафедрального собора – пикет эфиопов, которых тоже собираются депортировать на родину. Плакаты: «В Эфиопии нет демократии!», «Перестаньте мучить ищущих убежища!», «Мы не преступники!». Пылают крупные свечи в круглых жестянках, топчутся понурые эфиопы, рядом минимум пять телеоператоров, полицейских нет. В нескольких сотнях метров вверх по променадной Карл-Юхансгате, возле Стортингета, здания парламента, выстроились курды: что-то скандируют, размахивают флагами виртуального Курдистана и плакатами, на которых намалеваны виселицы и написано «Остановите казни», потом бодрой колонной трогаются по прямой – мимо Национального театра, к стоящему на холме Королевскому дворцу. Здесь тоже мелькают телекамеры, глазеют туристы, но есть и полицейские – в двух минивэнах с надписью «Politi». Минивэны ползут за колонной, сидящие внутри politi экипированы как терминаторы из будущего, и им скучно.
Разумная основательность здесь во всем. В том, как точно по расписанию отчаливают из гавани черно-белые паромы. В том, как ссыпается кроновая мелочь в горловины счетных автоматов в любом супермаркете, и в том, как падают большие сырьевые деньги в Национальный нефтяной фонд: резервные фонды, вложенные в ценные бумаги, есть во многих странах, включая Россию и Китай, но только в Норвегии каждый гражданин может в любой момент посмотреть, в какие конкретно бумаги эти деньги вложены, и только в Норвегии эти деньги вкладываются в расчете на каждого конкретного гражданина, и он ежегодно получает со своего вклада проценты. В том, что по всей стране полно туристических домиков, где нет ни охранников, ни следящих камер, только минимальный набор всего необходимого, да прейскурант, да жестяная банка, чтобы добровольно оставлять деньги за ночлег и еду.
Нет, само собой, ни разу не рай – взять хоть уровень цен (запредельный), хоть уровень самоубийств (высокий). Но очень разумно организованный не-рай, и норвежцы оберегают его от внешнего мира – до такой степени, что упорно не вступают в Евросоюз. При этом иммигрантов – легальных – тут четыреста с лишним тысяч, не так мало: почти десять процентов четырех с половиной миллионного населения. И несколько (от трех до десяти, по разным оценкам) тысяч нелегалов.
Среди них есть персонажи вроде муллы Крекара: курдский экстремист с террористическим бэкграундом времен еще Саддама Хусейна, Крекар обитает в Норвегии аж с девяносто первого, проповедует радикальный ислам, похваляется знакомством с Усамой бен Ладеном, любит иногда дать интервью про то, как высокодуховные сыны Аллаха будут ставить прогнивших западных кяфиров в коленно-локтевую позицию, или намекнуть норвежским политикам, что за несправедливость по отношению к нему, Крекару, они заплатят головой. Власти давно лишили Крекара права на политическое убежище и регулярно постановляют депортировать его в Ирак, но приговор в исполнение не приводят: в Ираке ему светит виселица, а не может же гуманное общество отправить человека на виселицу, правда? То ли дело Мария Амели – ей-то в России смерть не грозит, что бы ни думали ее наивные норвежские поклонники.
Именно пример муллы Крекара заставляет обнаружить в истории Марии Амели еще одну, скрытую интригу. Это не только история про то, приголубить или нет Норвегии бедную Золушку. Это еще и история про то, как при столкновении с новой, не укладывающейся в привычные схемы реальностью (в данном случае – реальностью массовой иммиграции) в обществе – даже таком трезвомыслящем – возникает раздрай между законом, справедливостью и здравым смыслом. Ведь идея выгнать Марию, но оставить Крекара с точки зрения справедливости диковата, с точки зрения здравого смысла безумна, и только с точки зрения закона она вполне корректна.
Кажется, именно тоска по здравому смыслу звучит в скандальной речи британского премьера Кэмерона (он произносит ее, как раз пока я лечу в Осло), речи о крахе политики мультикультурализма, дозволявшей иммигранту жить в европейском «монастыре» по своему укладу; о необходимости жестко насаждать «базовые ценности демократии».
В нескольких трамвайных остановках от Стортингета, Королевского дворца, Национального театра – главная рукотворно-ландшафтная достопримечательность Осло, столицы Гамсуна и Ибсена, Грига и Мунка, богатой творцами, но не дворцами, великими маргиналами, но не великими кафедралами. Это парк Вигеланда. Тридцать гектаров, которые главный норвежский скульптор Густав Вигеланд заселил шестью с половиной сотнями человеческих фигур.
Люди, иногда из бронзы, а чаще из серого камня, в натуральный человеческий размер; почти все голые, с достоверно отображенными гениталиями, с тяжелой лепкой черепов и тел. Мужчины, женщины, дети, старики. Играющие, испуганные, веселые, сгрудившиеся в стаю, предающиеся вакхическим любовным играм. И посреди всего – восемнадцатиметровый обелиск, который неизбежно назовешь фаллическим, хотя больше он похож на огромную бугристую свечу из десятков переплетенных обнаженных тел: мужских и женских, старческих и младенческих. То ли гекатомба, предчувствие Дахау и Аушвица, то ли материализованная непрерывность жизни и неразрывность ее со смертью, то ли свальный грех.
Новое время, такое вегетарианское, толерантное, либеральное, предлагает, конечно, свою трактовку – и она не кажется притянутой за уши. Все мы прежде всего люди, ласково шепчет новое время, и каждый из нас уникален и неповторим. Всякий личность, и никто не лишний – вот он, идеал, к которому Европа продиралась через все войны, смуты, розни и распри. Как всякий идеал, этот вряд ли воплотим – но, пожалуй, нынешняя Норвегия подошла к нему насколько возможно близко.
Но за новым временем наступает новейшее, и оказывается, что лишние все-таки есть. Они приходят в тщательно отстроенную экосистему приближенного к идеалу социума извне; они другие; их нельзя скопом отторгнуть (потому что это противоречит идеалу) и невозможно молча принять (потому что под их напором идеал грозит обрушиться вовсе). Что с ними делать – непонятно. Ничего с ними не делать – невозможно. Они – это вопрос, на который надо как можно быстрее найти ответ, это ясно, и к Дэвиду Кэмерону не ходи.
Частная история осетинской девочки Мадины Саламовой, норвежской девушки Марии Амели, превратившаяся в публичную драму, важна уже тем, что формулирует этот вопрос заметно, наглядно и внятно. А еще тем, что дает намек на ответ. Не факт, что вопрос поймут, а намек услышат за громом медийного трагифарса; но шанс, наверное, есть.
Акустика в норвежских фьордах, всякий знает, дивно хороша.
Мы снова сидим в кафе – я, Мария, Эйвинд, двое их друзей-норвежцев, прилетевших в гости. Кафе называется «Хачапури», и на столе хачапури.
– Моя мама часто готовила грузинскую еду, – говорит Мария.
– Жаль, что твои родители не хотят общаться с журналистами.
– Извини, – она пожимает плечами, – я очень их уговаривала. Но они… боятся. Для них это всё еще слишком психологически тяжело.
– А что ты думаешь про их перспективы?
Она снова пожимает плечами:
– Не знаю… сами они подумывают о том, чтобы вернуться… сюда. Если бы нашлась страна, которая бы их приютила…
Мы обсуждаем новости. Двое депутатов исландского парламента подняли вопрос о том, чтобы дать Марии Амели гражданство Исландии. Тогда она смогла бы беспрепятственно въезжать в Норвегию. Несколько отделений ПЕН-клуба в разных странах готовы пригласить ее к себе пожить, если ее дело затянется. Отправлены документы на русский загранпаспорт – вот сделают, и можно подавать на рабочую норвежскую визу… Правда, никаких поправок в иммиграционном законе пока нет. А значит, над Марией Амели всё так же висит угроза невъезда в Шенген – лет на несколько.
– Но в России, – уточняю я, – ты не останешься в любом случае? Все-таки Москва ведь – не такое ужасное место…
– О, конечно, не ужасное, – охотно соглашается она со своим скандинавским прононсом. Но качает головой. Она свой выбор сделала, и давно. Не Мадина, а Мария. Не осетинка, а норвежка. Всё еще незаконная, даром что тысячи людей, знакомых с ней и нет, согласны с таким выбором. Но, может, ей повезет, и в этой истории сильнее окажутся справедливость и здравый смысл.
Может, и так – в финале, в итоге, в конце учебника. Хотя пока всё выходит ровно наоборот. Правь в этой истории незамысловатая логика здравомыслия – и Мария Амели уже получила бы то, чего пыталась добиться своим честным и разумным норвежским гамбитом. Была бы сейчас в своем северном королевстве, обрела бы заветный вид на жительство (и гражданство в перспективе), жила бы со своим Эйвиндом, работала, платила налоги. Но в этой истории правит все-таки неевклидова логика закона. И поэтому Мария Амели под полицейским присмотром летит в страну, которая уже стала ей чужой. Получает чужой, нежеланный паспорт на уже ставшее ей чужим имя. Конвертирует свои личные дни и недели в этапы чужих бюрократических процедур: неделя на внутренний паспорт, месяц – на заграничный, и дадут ли потом рабочую визу, и не вчинят ли запрет на въезд в Шенген?..
Она идет кривой и странной дорожкой закона – и надеется вернуться в ту точку, из которой, будь это история про торжество здравого смысла, могла бы не уходить.
Культура тела сегодня в ударе
Пустая рука: судьба карате в России (2013)
А еще говорили так: он знает карате. Как будто карате – что-то вроде таблицы умножения или малого боцманского загиба. Что можно быстро вызубрить наизусть и потом, буде надобность, шпарить без запинки.
Впервые я услышал это классе во втором не то третьем, когда подрался с одноклассником Р., главным хулиганским баттхёртом младших классов нашей рижской школы. Детали великой битвы стерлись из моей памяти, помню только, что я порядком трусил, а бешеный Р., кажется, вовсе нет; кончилось всё боевой ничьей. «Он знает карате!» – уважительно просветили меня приятели. Ну и ладно, зато я был на голову выше.
Еще год спустя, когда неугомонный Р. избил кого-то при помощи украденных у папы нунчаков, я уже был в курсе, что это такое: две связанные цепочкой палки, – и даже видел, как крутили их, что ли, в «Пиратах ХХ века» – не Талгат ли Нигматулин, каратист-чемпион, позднее, в 85-м, зверски забитый собратьями по религиозной секте? – а каратистам к тому моменту уже «сказали «ямэ!»», запретив чуждую западную, даром что японскую, заразу. Подвиги Р. меня более не пугали, после обмена фингалами траектории наши разошлись в разные стороны, в нейтральные воды. Его пунктир я в последний раз отследил много лет спустя, увидев в газете фотографию ближнего круга главного рижского криминального авторитета Вани Харитонова. Р., то ли правая, то ли левая рука Харитона, стоял на фото с бультерьером у ноги, оба, человек и пес, улыбались и да, были страшно похожи. Чуждую заразу к тому моменту давно разрешили обратно, и бывшие советские рукопашники, вольники и боксеры успели выбиться из рэкетиров в бригадиры, а некоторые даже в крупные бизнесмены, и вообще в силу увеличения цены и остроты вопросов в моду уже входили бывшие биатлонисты.
Но это будет не скоро, в зрелые девяностые. А в конце восьмидесятых, когда и я, и Р. еще были детьми, все кумиры видеосалонов знали карате. Исключений было два – Сталлоне предпочитал бокс, а по Шварценеггеру было видно невооруженным глазом, что ему ничего знать не требуется. Остальные – знали. Чак Норрис знал карате. Ван Дамм знал карате. Дольф Лундгрен знал карате. Брюс Ли тоже знал карате, потому что кунг-фу – это были уже неважные нюансы, и вообще они выяснились позже. То же безоружное око докладывало, что Брюс Ли знает карате лучше всех, это признал даже Виктор Цой, нарисовав себе в нугмановской «Игле» три хрестоматийных шрамика на щеке. Виктор Цой знал карате так себе (зато он лучше всех играл рок, тоже дело), но все-таки знал.
Я так и не узнал карате, хотя очень хотел, а какое-то время даже старался. Зато я написал про него первую в своей жизни газетную заметку. Шел 89-й, мне было четырнадцать, и я вот уже год занимался в школе карате кёкусинкай. В кёкусин бились фулл-контакт, не было защитной амуниции и были удары в голову, а основатель стиля, страшный человек Масутацу Ояма, урожденный кореец Ёнг И-Чой, славился тем, что победил на татами сто сменявшихся противников подряд, а на арене – полсотни быков, правда, порознь, зато сорока восьми копытным отрубил рога ребром ладони, а трех убил наповал кулаком. Гринпису это вряд ли понравилось бы, и даже испанцы, возможно, скептически косились на столь странный извод корриды, да и самому мне быков было как-то жалко, но на подростковое сознание скотобойный факт действовал магически. Внушительные легенды я в равной пропорции взболтал, не смешивая, со своей несколько менее впечатляющей еженедельной трехразовой практикой, и залил получившийся коктейль в форму бесхитростного дебютного репортажа, на блеклой глади которого кое-где (к счастью, редко) алели, как юношеские угри, непрошенные метафоры. Репортаж вышел в рижской (дело всё еще было в Риге) молодежной газете. Редактировал газету милейший еврейский юноша А. с глазами, в которых хранился весь общак национальной скорби. Название газеты было еще виктимней, чем глаза редактора: «Молодые руки». Нетрудно представить, через какие круги радостно гогочущей жеребятины они прошли. Беря свежие, чуть пачкающие «Руки» в руки, иллюзий не питал и я; но, пробегая по марким буквам, так приятно было чувствовать себя журналистом, да и мысль о том, как я небрежно, между делом, вручаю газетку сэнсэю… Тут я споткнулся и начал краснеть. Скорбный редактор А. отправил профессиональную функцию с меткостью снайпера или бреющей чайки. Он внес в текст всего одну правку: после слова «медитация» (с какой радости оно мне сдалось?!) добавил в скобках – (ритуал приветствия). Честолюбивые планы рухнули. Теперь вся надежда была на то, что самому сэнсэю никогда не взбредет в голову изучить печатный орган подросткового онанизма.
Разумеется, надежда эта оправдалась.
О, наивность молодости, переевшей гормональных би-мувиз, в которых шаолиньские старцы годами медитировали (тьфу!) средь заснеженных вершин, а окинавские отшельники железными кулаками осуществляли переработку векового леса в труху, чтобы внезапное сатори катапультировало их к ослепительным горним высям предельного мастерства. Могу представить, до какой фени моему сэнсэю, бодро выгрызающему свою нишу на рынке рукопашных образовательных услуг, был бы этот ритуал приветствия, как, впрочем, и вся стыдливая газетка «Молодые руки». Сэнсэй назывался Джимом Лесли. Возможно, на смелую догадку о собственной англосаксонской природе его навела некоторая лошадиность черт, якобы присущая жителям Острова; так или нет, бойкий командирский, он же матерный, явно освоенный без словаря, обличал в мистере Лесли натурального славянина. Впрочем, дать на счастье лапой по канонам японского мордобоя Джим и впрямь мог, и вообще никого не смущало это явное самозванство, воспринимаемое, видимо, русским человеком как непременный и простительный атрибут всякого Смутного Времени: ни меня, ни более взрослых соучеников, ни редактора А. и прочую республиканскую прессу, ни даже великого и ужасного мэтра русского кёкусин Танюшкина, который еще год спустя приезжал к нам из Москвы принимать экзамен. На экзамен я явился вдрызг простуженным, сдал, не приходя в сознание, на свой первый ученический пояс и слег с тяжелым обструктивным бронхитом.
Пройдя сквозь строй врачей, забот и соблазнов, назад я так и не вернулся. В наследство мне достались пропитанный трудовым не то гриппозным потом пояс и диплом с красивыми иероглифами (оба потом пропали), малость стоптанные костяшки пальцев, начальное теоретическое знание о том, как надо правильно бить людей, и практическая малоспособность его применить. То есть если что-то и бывало, то обычно выглядело ровно тем, чем являлось: уличной возней не представленных друг другу дилетантов, одним из которых нужны деньги, а другие, то есть я, тоже не сидят на трубе и потому не видят в себе мецената. А обычно не бывало ничего, ибо, как верно учил нас писатель Веллер, интеллигенту противна мысль о физическом насилии. Можно утешать себя льстивой версией, что это в нас голосом Левитана говорит кантовский нравственный императив. Как в апокрифе про писателя Пелевина, который мне рассказывал общий приятель Б. Якобы молодой Пелевин, тогда еще не ставший автором мегаселлеров и не ушедший с концами во Внутреннюю Монголию, серьезно знал карате. И вот однажды он и приятель Б. ночью пошли под звездным небом в ларек за водкой, а попались гопникам. Гопники предъявили. Знающий карате Пелевин уже слышал голос Левитана (позднее он даже опишет его в книге) и не мог бить гопников, но нашел остроумный выход. Он ударил водосточную трубу, и та согнулась пополам. Гопники всё поняли и ушли сами. Так Кант и карате, объединившись, воплотили завет древних мастеров единоборств, полагавших: лучший бой – тот, который не состоялся.
Мудрецы и лузеры вообще склонны приходить в одну смиренную точку, пусть и разными путями, но в пятнадцать лет сложно примерить на себя первый маршрут и унизительно – второй. Я очень переживал, что из меня не вышло Брюса Ли и не выйдет Масутацу Оямы. Боев хотелось – состоявшихся и выигранных. Бить – не водосточную трубу, а подлых врагов. К тому же сложно сейчас представить, чем было карате для позднесоветского подростка на изломе восьмидесятых-девяностых: не только ожившей авантюрной легендой, но воплощенным оксюмороном, сочетанием несочетаемого. С одной стороны – предельная манифестация индивидуализма, незнакомого и желанного, будто секс: герой-одиночка из импортных боевиков, причем такой герой, которому даже оружие не нужно, он и оружие тоже – сам себе и сам по себе. С другой – парадоксально гармоничное продолжение советской выучки и советского мифа: идея многолетнего самоотречения и саморастворения в Пути ради достижения – через усилия и боль – Идеала никак не противоречила вбитому в детстве, тренировка формальных комбинаций-ката до одури в общем строю, упакованном в одинаковые кимоно, без зазора ложилась на маршировку пионерских смотров в одинаковых блузах и алых галстуках.
И было еще третье, тогда неосознаваемое: вакуум метафизики. Поздний совок был устал, беззуб и одышлив, и ни заселить собой все метафизические этажи, существующие внутри хомо сапиенса, ни наглухо выгрызть их уже не мог. Так что граждане обставляли эту пустующую духовную жилплощадь сами и чем придется, обычно всяким хламом – кто религией или оккультизмом, кто посильным диссидентством или верой в Блистательный Запад, кто поисками йети или внеземных цивилизаций. Путь Пустой Руки с его наглядной конвертацией личностного роста в мордобойные умения тоже отлично годился. Даже в Японии, думаю, не было более фанатичных духовных адептов карате, чем юные идеалисты в позднем совке.
Нынешний гордый дух, реющий над метафизической изнанкой родины и похожий на результат скрещивания глобалистского гипермаркета с клубом патриотичных футбольных фанатов, способен заполнять пустоты еще меньше, чем былая дряхлая империя с ее скучной идеологией, зато он интуитивно понял, что не обязательно заполнить – достаточно нагадить, сами уйдут. Так, говорят, хитрые лисы выкуривают из нор трудолюбивых барсуков. В результате теперешний гражданин редко суется на метафизические этажи: потянет носом – и назад, в реальность ипотеки и ирреальность соцсетей; здесь противно и всё влом, но ведь и там воняет и всё уже не свое. Думаю даже, что тут и корень ностальгии по СССР, свойственной множеству вроде бы вполне состоявшихся и притом помнящих убожество позднего совка людей: не по имперской баллистической мощи они тоскуют и не по синим курам по два двадцать, за которыми надо стоять очередь, а по отрадной пустоте внутреннего пространства, принадлежащего тебе и только тебе.
Мы примерно об этих изводе и природе советской ностальгии говорили с писателем Андреем Рубановым вскоре после знакомства, лет пять-шесть назад: тогда он еще не написал гениальный рассказ «Брусли»[6], который как раз про подростковое восприятие киношного карате-мифа на фоне угасающего имперского лета, зато и не перешел еще на чистый адреналин, а употреблял спиртосодержащее. Болтали, опрокидывали; тут-то и выяснилось, что книжный мальчик, советский идеалист Рубанов познавал карате кёкусин примерно в те же годы. Только он чуть постарше, так что начал в армии, продолжил в роли мелкого деловара-полубандита на заре «лихих девяностых», когда умение дать человеку ногой в голову реально воспринималось тропинкой к свободе, силе и счастью. Масутацу Оямы и Брюса Ли из него тоже не вышло: занялся отмывкой бабла, поднялся, сел, вышел, стал писателем, про карате помнил.
– У тебя пояс какой? – деловито осведомился Рубанов.
– Синий, – признал я скорбно.
– А у меня вообще так белый и остался, – сообщил Рубанов, тренировавшийся, судя по обмену воспоминаниями, куда дольше, усерднее и эффективнее, чем я. Посопел, ухмыльнулся:
– Значит, я тебе должен всегда кланяться.
– Начинай, – сказал я и разлил.
И мы выпили – два несостоявшихся Великих Мастера, два сложных и нафиг никому не сдавшихся изделия закатной советской империи. Два амбициозных подростка восьмидесятых, в которых почти уже умер, но все-таки еще немного жив карате кид, которого вы можете и не знать.
Теперь он чаще представляется кунг-фу пандой.
Непереводимая игра слов
Продать Родину: почему русские больше не пишут бестселлеров (2009)
За последние двадцать лет русские стали делать много того, чего не делали раньше. Например, жить в Гоа – или в Голливуде. Например, покупать недвижимость в Лондоне – или концерн Opel. Но кое-что они делать перестали. Они перестали писать международные бестселлеры, как писали их и при самодержавии, и во времена СССР. Впервые за последние полвека русская литература, с ее мировым копирайтом на «русские вопросы» и «русскую душу», выбыла из перечня экспортных брендов, лишив своей компании балет, водку и икру. Мы разучились писать? Или перестали быть интересны?
– Я, друг, тебе точно, нах, говорю, – сообщает мой собеседник, откидываясь на спинку стула. – Все, бля, деньги, нах, у богатых жидов. Я тебе говорю, нах, это, бля, заговор. И Вторую мировую богатые, бля, жиды развязали, ты не знал? Точно говорю, они, суки, своего племени не пожалели, только чтоб еще богаче стать!
Кажется, я слегка плыву: у боксеров это называется грогги. С моим собеседником я знаком минут семь, может быть, восемь. Он молод и бодр. Его русский язык, обогащенный легким приобретенным акцентом, не столько пересыпан матом, сколько смонтирован на нем, как дом на фундаменте. У него бритая скиновская голова и аккуратная богемная бородка. У него шустрый острый взгляд молодого млекопитающего, вынужденного до поры мириться с господством медленных и здоровенных рептилий, но уже знающего себе эволюционную цену.
– Вообще-то, – сообщаю я, – у меня жена еврейка.
Мой собеседник быстро моргает, но не теряется.
– Ну так у меня у самого бабушка еврейка, – контратакует он бойко. – Немецкая еврейка, ага, нах, такая… которая не на этом ихнем говорит, ну как его… а типа на немецком, бля.
– Не на иврите, – вклиниваюсь я в паузы. – На идиш.
– Ну да! – соглашается собеседник радостно и валится в штопор фамильной бабушкиной истории, в которой избыток очевидно невыдуманных деталей изобличает явную выдуманность. Сразу видно коллегу-сочинителя.
– …так что против евреев я, бля, ничего не имею, – выходит он из штопора у самой земли. – Я, нах, против тех, ну этих, которые сами всех хотят иметь. Ты вот слыхал про такой Бильдербергский клуб, а? Во-во. Мне друг мой пиздато всё про них объяснил. Друг мой, знаешь, может, Личо, бля, Джелли, пи-два, ты не в курсе?
Бровь у меня помимо воли ползет вверх. Я в курсе, бля нах, кто такой Личо Джелли. Ну то есть настолько в курсе, насколько про Личо Джелли вообще можно быть в курсе. Говорят, что он, юный итальянский фашист, во время войны нашел и прикарманил припрятанное от нацистов югославское золото, шесть десятков тонн. Говорят, что потом он частично поделился этим золотом с лидером итальянских коммунистов Тольятти, а тот – с маршалом Тито. Говорят, что он был лидером масонской ложи «Пропаганда-2», сокращенно П-2, которая контролировала половину итальянских политиков, медиамагнатов, финансистов и чекистов. Говорят, он то ли работал, то ли не работал на ЦРУ, то ли хотел, то ли не хотел устроить государственный переворот. Говорят, его арестовывали, и он сбегал из-под ареста. Говорят, он долго скрывался на одной из своих вилл в Уругвае. Говорят, он умер. Говорят, он вернулся и теперь пишет лирические стихи. Говорят, что если он заговорит, то рухнет полсотни мраморных репутаций. Сейчас Личо Джелли должно быть девяносто лет. Я могу представить себе многое, но мне трудно представить это фэнтези на мотив «Маугли»: гигантский девяностолетний паук мировой конспирологии, наставляющий на путь истинный молодое русское млекопитающее.
Я испытываю что-то вроде писательской зависти. Мой собеседник не только «учил матчасть». У него еще и отменная фантазия.
– Ну да, мы общаемся, – продолжает тем временем он. – Я, когда приехал, был на этот счет дурак дураком, но он мне глаза-то приоткрыл. Ты вот думаешь, Швейцария. А тут их главное гнездо и есть. Я, бля, этих швейцарцев терпеть не могу. Их, нах, надо только силой оружия…
Он хищно шевелит татуированными пальцами. Я ухмыляюсь, представив себе, как мой собеседник силой оружия разбирается со швейцарцами, которые, как известно, не воевали уже полтыщи лет и провели всё это время в подготовке к возможным сражениям. Чуть не всё мужское население резервисты, у которых дома в опломбированном ящике хранятся автомат и патроны; в каждом многоквартирном доме до недавнего времени по закону было обязательно атомное бомбоубежище; и даже шоссе проектировались как резервные ВПП для военных самолетов.
А впрочем, кто его знает. Он шустрый малый.
Моего собеседника зовут Николай Лилин. Мне, впрочем, уже шепнули, что он нисколько не Лилин, а возможно, и не Николай. Зато он точно автор написанной по-итальянски книги, которую очень крупное издательство всерьез намерено двигать в бестселлеры. В качестве автора завтрашнего бестселлера он и приглашен сюда, на литературный фестиваль в Беллинцоне, Итальянской Швейцарии.
Беллинцона – это кантон Тичино, пачка открыточных видов, засунутая между Альпами и свободным ремнем итальянской границы. Невысокие зеленые горы, на которых по утрам лежат призрачные клочья облаков. Глубокие озера со знаменитыми именами: Комо, Маджоре, Лугано. Крохотные городки с итальянскими красками и темпераментом, швейцарской аккуратностью и, увы, швейцарскими ценами.
Нейтральная территория. Удобное место для рискованных встреч.
Здесь столетиями встречались разные европейские этносы и культуры.
Здесь в сорок пятом группенфюрер Вольф встречался с мэтром шпионажа Алленом Даллесом, выторговывая сепаратный мир.
Теперь здесь встречаются со своими переводчиками писатели, представляющие экзотическую, с точки зрения швейцарцев, литературу. Год назад, кажется, были хорваты. Два года назад – мексиканцы. В этом году – русские.
Литературный фестиваль в Беллинцоне называется «Babel», но автор «Конармии» тут ни при чем.
Имеется в виду Вавилонская башня. «Babel» по-английски – «Вавилон».
А что ты забыл в Швейцарии? – интересуется приятель. Приятель тоже пишет книги. Впрочем, в данный момент он ест жареную рыбу карп в московском кафе. Мир полон скрытых рифм: кафе называется «Нейтральная территория» и считается литературным.
Рыба карп лежит на боку. Вид у нее грустно-фаталистический, словно она трезво осознает свое место в мире.
Я хочу написать о том, почему русские не пишут мировых бестселлеров, говорю я.
Я ожидаю, что приятель спросит, при чем тут Швейцария. Про Швейцарию известно, что это страна банков, работающих, как часы, и часов, надежных, как банки. Про Швейцарию известно, что в ней делают офицерские ножи с миллионом несерьезных лезвий и крестиком на боку, про которые писатель Веллер сказал: если швейцарские офицеры похожи на свои ножи, то их можно ловить сачками. Но про Швейцарию как место силы русской литературы ничего не известно. Хотя там живет писатель Шишкин, лауреат «Русского Букера» и «Нацбеста», а раньше жил писатель Набоков.
Однако приятель спрашивает о другом.
Как это русские не пишут бестселлеров? – возмущается он. – Набоков? Достоевский? Булгаков? Солженицын?
Это было давно, качаю я головой. А меня интересуют последние двадцать лет литературной свободы и невообразимой прежде легкости проникновения в профессию.
Приятель задумывается и медленнее пережевывает рыбу карп.
Пелевин? – предполагает он. – Акунин? Маринина? Улицкая?
Я снова мотаю головой. Есть разница между теми, кого просто переводят и издают за границей, и теми, кого переводят и продают огромными тиражами. С первыми у нас всё неплохо. Вторых у нас нет. У нас нет своего Кинга и Роулинг. Ну ладно, их вообще почти ни у кого нет; но у нас также нет своих Памука или Уэльбека, Переса-Реверте или Мураками, Льосы или Рота, Рушди или Эллиса. Своего Питера Хёга, который пишет странную историю про Смиллу и ее чувство снега в Дании, не сказать чтоб литературной сверхдержаве, и Смилла катапультируется в мегабестселлеры. Своего Альберта Санчеса Пиньоля, который сочиняет еще более странную историю про заброшенный маяк, атакуемый негуманоидами-лягушанами, и лягушанов немедля переводят то ли в тридцати пяти странах, то ли на тридцать пять языков.
Новейшая русская литература, говорю я, знает много гитик, но не знает мирового коммерческого успеха.
Можно подумать, так только с литературой, сварливо говорит приятель, отодвигая останки рыбы карп. Можно подумать, весь мир ломится в кино на русские блокбастеры. Или втыкает себе в уши русский рок.
Но я не согласен с приятелем. Глупо спрашивать, почему мы не становимся лидерами там, где у нас никогда и не было прецедента успеха. Блокбастеры, коммерческое кино – это огромная и сложная индустрия. Это гигантский бюджет. Это высокие технологии, которых мы не освоили. Это суперпрофессионалы, на которых у нас не учат. Мы же не удивляемся, что у нас не больно-то делают автомобили класса люкс или истребители пятого поколения. Блокбастер – это истребитель пятого поколения. Если вдруг появляется кто-то, умеющий, кажется, блокбастеры конструировать, – его, как Бекмамбетова, просто перекупает Голливуд. И русский рок никогда не конкурировал с англоязычным. И русский поп – тоже. И, кстати, никакой другой.
Но литература – совсем другое дело. Мы со школы привыкли считать, что уж с ней-то у нас всё ОК. Литературе не нужен гигантский бюджет. Не нужны высокие технологии. Литература – это очищенный и концентрированный нарратив. Голая история плюс мастерство рассказчика. Теоретически, для того, чтобы написать роман века или хотя бы хит года, не требуется почти ничего. Даже «Макинтоша» с наворотами. Питер Хёг писал про свою Смиллу карандашом по бумаге. Литература – самый прямой способ коммуникации одного человека с другими людьми и одной нации с прочими нациями.
Мне интересно, почему ни один русский уже давно не делал эту коммуникацию действительно массовой, и можно ли тут ждать новостей.
Я еду в Беллинцону потому, что фестиваль «Babel» видится на редкость точным слепком взаимоотношений нынешней русской литературы с миром. «Babel» – это маленькое, камерное, буквально семейное предприятие. Его устроители – молодая красивая пара, местный уроженец Ванни и его лондонская подруга Анна с маловероятной фамилией Лидер. Его «стафф» – тоже неизменно красивые юноши и девушки с бейджами, всё время оказывающиеся сестрами, кузенами и школьными приятелями друг друга.
На «Babel» странный набор русских гостей. Тут есть, скажем, Людмила Улицкая. Есть, конечно, Михаил Шишкин. Есть Рубен Гальего, человек с героической биографией: внук главы испанской компартии, почти парализованный инвалид, который мыкался всё детство по детдомам, но в итоге начал писать поражающие жизнелюбием автобиографические книжки; сейчас живет в Нью-Йорке, женат в третий раз, и его ребенку восемь месяцев. Есть мой новый друг Лилин, про которого на сайте «Babel» сначала было написано макабрическое: он-де происходит из какого-то siberian tribe; позже сибирское племенное происхождение отменили и честно прописали приднестровские Бендеры.
Есть Андре Макин, русский лауреат Гонкура, давно живущий во Франции, пишущий по-французски и не переведенный на родной язык.
Впрочем, Макина нет, не приехал.
Вопрос, почему русские не пишут международных бестселлеров, я задаю своим мало-мальски литературным собеседникам давно и слышу множество вариантов ответа. Писатели считают, что их плохо продают издатели и агенты. Агенты и издатели считают, что писатели пишут не то, что можно продать хорошо. Все дружно считают, что мы слишком экзотические. Или что мы недостаточно экзотические. Или что степень нашей экзотичности никого не колышет, а просто на русскую литературу у иностранных издателей установлена негласная квота.
В Москве я говорю об этом с Юлей Гумен и Наташей Смирновой – едва ли не первыми людьми в России, которые сделали занятие литагента своей единственной профессией. У агентства «Goumen&Smirnova» в клиентах половина актуальной русской прозы, и, конечно, они пытаются продавать ее на Запад. Я перечисляю им ответы, известные мне. Они комментируют, загибая пальцы.
Да, агентов и впрямь мало – но потребности крошечного рынка потенциально экспортных книг они покрывают вполне.
Да, квота существует – в англоязычном мире доля переводной литературы составляет два процента, хоть ты тресни, но это для всех два процента, не только для русских.
Да, есть еще проблема с переводами: хорошие переводы с русского дороги, и издатели скупятся, а государственных программ финансовой поддержки перевода, как во многих странах, у нас нет; на частном уровне это начинают делать Фонд Прохорова и «Academia Rossica», но этого явно мало.
Да, западный издатель и читатель, кажется, ждет от русских писателей не вполне того, что они предлагают. Чего ждет? А всё того же: баня, водка, гармонь, лосось, черная икра, застенки, мороз-мороз, хохлома; они хотят слышать, как русские, поднимая тост, говорят na zdorovye. А чтобы их переубедить, надо уметь писать грамотный мейнстрим, а у нас почти не пишут грамотного мейнстрима. У нас либо downmarket – коммерческий продукт довольно низкого качества, который не востребован на Западе, либо high-brow – интеллектуальная, труднопроницаемая проза, которая бестселлером по определению стать не может.
И как писать, чтобы тебя читали, у нас не учат. Никаких тебе курсов «creative writing», как в любом заштатном западном вузе.
…Только я не думаю, что курсы «creative writing» всё чудесно изменят. Вопреки распространенному даже среди профессионалов мнению настоящий бестселлер – это не индустриальный продукт, а штука ручной выделки.
Бригада грамотных маркетологов с хорошим бюджетом может, конечно, втюхать намеченной таргет-груп хоть телефонный справочник. Но то, что выходит за пределы этой самой таргет-груп, то, что инициирует цепную реакцию, меняет моды и влияет на умы, – это всегда немножко магия. Немножко иррацио. Немножко «черный лебедь», по определению бизнес-философа Нассима Николаса Талеба: поворотное событие, абсолютно непредсказуемое до и представляющееся абсолютно логичным после.
Даже одноклеточный «Код да Винчи» кажется неизбежным хитом только задним числом: сотни сочинителей до Дэна Брауна спекулировали на подобную тему, но никто не сорвал банк.
Даже поттериана Джоан Роулинг: это сейчас непонятно, как наши дети жили без Гарри, который – как бренд – сегодня оценивается в пятнадцать миллиардов фунтов. Но у тех двенадцати издательств, которые в свое время благополучно отфутболили первую, написанную в кафе рукопись Роулинг, были, я уверен, титановые аргументы.
«Черные лебеди» – это верное определение.
Талеб написал о «черных лебедях» книгу, и она стала бестселлером.
Лежащая в горсти открыточных гор Беллинцона – хоть и итальянская, но Швейцария. В Швейцарии не должно быть «черных лебедей»: банкам и часам сюрпризы противопоказаны. Зато в Швейцарии бывают темные лошадки. Я разглядываю своего нового, а как же, друга Николая Лилина, автора бестселлера завтрашнего дня, и он нравится мне всё больше.
Лилин рассказывает, как приглашал в свой дом (он женат на итальянке и живет под Турином) солистов русского балета.
– Это же сверхлюди! – говорит он с нежностью. – Они так движутся, нах, как привидения, как ебаные касперы!
Еще Лилин рассказывает про свой жизненный путь. Его жизненный путь опровергает известный постулат о том, что время не резиновое. Биография Лилина вмещает раза в четыре больше событий, чем должна. Он ребенком стаскивал с убитых молдаван бронежилеты в Приднестровье. Он добровольцем участвовал во второй чеченской. У него первая ходка на зону была в тринадцать. Он родом из Сибири, и все его мужские предки были пацанами, по сравнению с которыми Аль Капоне бойскаут, а каморра с коза ностра должны, говорит он, сосать у них, не нагибаясь.
Слева на шее у него «тыкуха» (он явно пижонит этим лагерным термином): на фоне креста раскрытая книга, в ней – «Не бойся, не проси, не верь». На пальцах у него кресты и сердца, перстни судимости, которых, по моим дилетантским прикидкам, хватило бы трем матерым ворам в законе для выхода на заслуженную пенсию. На одном предплечье у него кошачья морда в кепке, а под ней перекрещенные нож и маузер. На другом – китайский дракон…
Я смотрю на него с нежностью, почти как он – на касперов русского балета. Я хотел бы прочесть его книгу автобиографических рассказов, да жаль, что она существует только на итальянском. Он прекрасный и знакомый персонаж. Он, конечно же, Хлестаков, Хлестаков-апгрейд, дитя новой России – со своим резиновым временем, со своей войной и зоной, с другом Личо Джелли и с угрозами исламистов, из-за которых он, оказывается, по Италии без оружия не ездит.
Гоголь написал про Хлестакова отличную пьесу, но она не стала мировым бестселлером. Я не исключаю, что, когда за перо берется сам Хлестаков, его шансы куда выше.
В Москве я спрашивал о том, почему русские не пишут международных бестселлеров, Сашу Гаврилова. Гаврилов, франт с мушкетерской бородкой, пристрастием к шейным платкам и буйной энергией завзятого бретера, – из той редкой породы людей, которых я для себя окрестил литтехнологами. Редактор «Книжного обозрения», создатель журнала «Что читать», изобретатель Книжного фестиваля в ЦДХ, соучастник множества премиальных затей, немного критик, немного литагент, вездесущий и неуловимый.
Саша, говорил я, ответь мне на этот дурацкий вопрос.
– Это совсем не дурацкий вопрос, – откликался Гаврилов. – Мы же знаем времена, когда некоторые русские писатели конвертировались и продавались очень даже неплохо, а? Какие-нибудь господа Толстой и Достоевский. И даже потом, в советские годы, – был же Солженицын. А теперь совсем перестали. Почему так? Я думаю, дело в тех вопросах, которые ставит литература. Вот, например, вопрос, который ставил Федор Михайлович, – можно ли тюкнуть противную старушку топором по голове в видах личного обогащения или всеобщего счастья? – был понятен и актуален для множества людей в Париже, Лондоне, Берлине и даже такой дыре, как Лиссабон, а позже – в Мехико, Пекине или Торонто. То есть русская литература тут совпадала с мировой повесткой. Во времена СССР мировая повестка была в огромной степени левой – и поэтому наша литература опять с этой повесткой пересекалась. Сегодня русская литература существует совершенно вне мировой повестки. Как и вся Россия, собственно. Мы инкапсулировались. Закрылись. Мы на самом деле глубоко провинциальны. Нам на самом деле неинтересно ничего вокруг. Нас занимают свои вопросы. Которые, в свою очередь, не занимают больше никого и ни в какой повестке не значатся. Например, вопрос о том, хорошо или нет собирать червяков на грядках, – как у множества русских литераторов, зациклившихся на теме своего советского детства. Или о том, хорошо или все-таки не очень бить черножопых на рынках, как у Распутина в недавней повести.






