Пульс (сборник) Барнс Джулиан
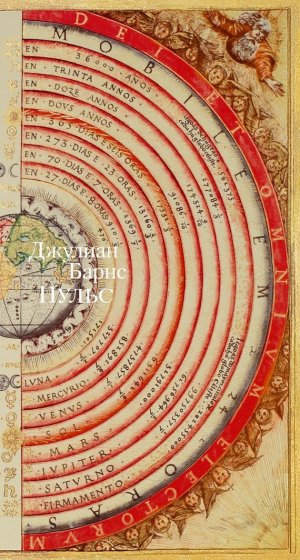
— Знаете… боюсь, вы меня побьете за эти слова… но иногда так восхитительно почувствовать свою принадлежность к последнему поколению.
— То есть как это — к последнему?
— К последнему, которое употребляет латинские выражения. Sunt lacrimae rerum[10].
— При том, как наследило в истории двуногое животное, трудно поверить, что мы и в этот раз сумеем выкарабкаться. Поэтому — да, последнее поколение, не знавшее ни хлопот, ни забот.
— Не понимаю, как у тебя язык повернулся. А события одиннадцатого сентября, терроризм, СПИД и еще…
— Свиной грипп.
— Да, но это локальные проблемы, не столь значительные в долгосрочной перспективе.
— В долгосрочной перспективе мы все умрем — вот это уж точно Кейнс.
— А что ты скажешь о «грязных» бомбах и ядерной войне на Ближнем Востоке?
— Локальные, локальные проблемы. Я говорю о другом: у меня есть ощущение, что мир пошел вразнос, время упущено, сделать ничего нельзя…
— Мы уже сорвались в пропасть…
— …и если в прошлом люди смотрели вперед и предвидели расцвет цивилизации, открытие новых континентов, приобщение к тайнам Вселенной, то мы с вами, глядя вперед, видим перед собой откат к прошлому и неизбежное катастрофическое падение, в результате которого «хомо» вновь станет «люпусом». Откуда пришли, туда и вернулись.
— Блин, опять эти мрачные пророчества.
— Но ты сказал — восхитительно. Чем восхищаться-то, если мир горит синим пламенем?
— Тем, что мир, пока не вспыхнул или пока мы не понимали, что он вот-вот вспыхнет, принадлежал тебе, нам. Мы во многом похожи на поколение, знавшее мир до тысяча девятьсот четырнадцатого года, только наша участь стократ трагичнее. Нам теперь остается лишь одно — как это называется? — управляемое падение.
— Значит, ты предлагаешь забить на сортировку мусора?
— Ни в коем случае. Я вышколен не хуже других. Но мне все-таки близка позиция Нерона. Я тоже готов играть на скрипке, пока горит Рим.
— Неужели мы действительно верим, что он так себя вел? Это напоминает те знаменитые высказывания, которых никто никогда не высказывал.
— Почему же? Разве современники не оставили свидетельств того, что Нерон играл на скрипке? Светоний, например?
— Res ipsa loquitur[11].
— Тони, уймись.
— Я и не знала, что в Древнем Риме уже были скрипки.
— Джоанна, наконец-то реплика по существу.
— А Страдивариус — это древнеримское имя? Звучит похоже.
— Удивительно, как мало у нас знаний.
— Или наоборот: как много у нас знаний и как мало к ним доверия.
— Кто это признавался, что исповедует твердые принципы, которым слабо следует?
— Сдаюсь.
— Я и сама не знаю. Просто к слову.
— Знаете, наш муниципалитет докатился до того, что набрал целый штат сыщиков-мусорщиков. Можете себе такое представить?
— Нет, не можем. Расскажи, чем они занимаются.
— Ходят кругами вокруг мусорных бачков и проверяют, сколько чего ты отдаешь в переработку…
— Прямо во двор лезут? Засудить бы этих гадов за вторжение на частную территорию.
— …а если, скажем, обнаружится, что ты выбросил маловато консервных банок, тебе под дверь начнут совать прокламашки — перевоспитывать.
— Какая наглость. На медицину денег не хватает, а тут…
— Вот с чем Британия подойдет к Судному дню. Сыщики будут вламываться к тебе в дом и проверять, не забыл ли ты выключить телевизор.
— В наших бачках они вряд ли найдут много жестянок — мы консервы стараемся не покупать. В них полно соли, консервантов и всяких гадостей.
— Ну-ну. Когда сыщики тебя прижмут, ты готова будешь скупать эти банки и выбрасывать содержимое, лишь бы только выполнить норму.
— А нельзя заменить этих сыщиков дополнительными камерами видеонаблюдения?
— Кажется, мы уходим от темы?
— Нам не привыкать.
— Страдивари.
— Прошу прощения?
— Страдивариус — это инструмент, а Страдивари — мастер.
— Ясно. Предельно ясно.
— В молодости мне было ненавистно, что миром правят старики — оторванные от реальности, увязшие в прошлом. А теперь политики так чертовски молоды, что оторваны от реальности в обратном смысле, и мне это уже скорее боязно, чем ненавистно, потому как они еще жизни не знают.
— В молодости я любила короткие повести, а теперь, когда времени остается все меньше, ловлю себя на том, что выбираю длинные романы. Кто-нибудь может это объяснить?
— Неосознанный самообман. Часть извилин притворяется, будто у тебя еще полно времени.
— В молодости, когда я начал слушать симфоническую музыку, мне нравились быстрые части, а медленные нагоняли тоску. Сидел и думал: принудиловка. Теперь все наоборот. Предпочитаю медленные.
— Возможно, это связано с замедлением кровообращения.
— А оно замедляется? Любопытно.
— Если это и неправда, то хорошо придумано.
— Очередной факт, которого мы не знаем.
— Если и не замедляется, то это метафора, а она, как таковая, правдива.
— Хорошо бы и глобальное потепление было только метафорой.
— Медленные части немедленно берут за душу. В том-то и штука. В других частях — грохот, бравурность, интродукция, кульминация. А медленная часть — это чистые эмоции. Элегичность, ощущение скоротечности времени, неминуемость утраты — вот что такое медленные части.
— Фил в этом разбирается?
— В столь поздний час я во всем разбираюсь.
— Но почему с возрастом мы становимся такими чувствительными? Потому что эмоции сделались более глубокими?
— По молодости лет нас вдохновляли и волновали быстрые части.
— Ты хочешь сказать, что эмоции бурлят у всех, но в разном возрасте выплескиваются в разных направлениях?
— По-видимому, именно это я и хочу сказать.
— Однако в молодости наши эмоции, несомненно, сильнее — влюбленность, брак, дети.
— Зато теперь — более устойчивы.
— Или же самые сильные эмоции просто становятся другими — утрата, сожаление, чувство обреченности.
— Не будь пессимистом. Дождись внуков. Они тебя удивят.
— «Сплошное удовольствие и никакой ответственности».
— Ох, избавь.
— Я поставил это в кавычки.
— Ощущение продолжения рода, которое мне не дано было испытать в полной мере со своими детьми.
— Это потому, что твои внуки еще не успели тебя разочаровать.
— Ох, типун тебе на язык.
— Молчу, я ничего не говорил.
— Так на чем мы порешили: есть надежда для планеты? Учитывая глобальное потепление, нечеткость понятия «эгоизм» и незрелость политиков, которые доросли разве что до полицейских?
— Человечество и прежде выбиралось из разных передряг.
— А молодое поколение — даже большие идеалисты, чем мы на том этапе. Или, по крайней мере, на нынешнем.
— И Галилей по-прежнему одерживает верх над Папой. Это в некотором роде метафора.
— А у меня по-прежнему нет рака задницы, и это в некотором роде факт.
— Дик, позволь, я наконец-то склоню чашу весов. Сейчас наша планета — вполне приемлемая среда обитания.
— Не выживем, так хоть согреемся.
— И бог с ними, с Нидерландами. Надо только Рембрандта всего перевезти куда повыше.
— И пояса затянуть, поскольку банкиры увели наши денежки.
— И всем стать вегетарианцами, поскольку производство мяса способствует глобальному потеплению.
— И на путешествиях поставить крест, за исключением конных и пеших.
— «На своих двоих» — забытое выражение.
— Знаете, мне всегда хотелось перенестись в ту эпоху, когда даже состоятельные люди ездили за границу лишь раз в жизни. Что уж говорить о бедном паломнике с посохом и раковиной, для которого одно-единственное паломничество длилось целую жизнь.
— Не забывай, что за этим столом сидят приверженцы Галилея.
— Тогда можно отправиться паломником во Флоренцию или куда там еще, чтобы поклониться его телескопу. Если только Папа его не сжег.
— И мы снова начнем разводить огороды и выращивать еду без химии.
— И заниматься ремонтом, как раньше.
— И будем сами придумывать себе развлечения, беседовать за семейным столом и почтительно слушать бабушку, которая примостилась в углу, вяжет носочки для малыша, еще не появившегося на свет, и рассказывает, как жилось в прежние времена.
— Это явно перебор.
— Да нет, по мне — неплохо, при условии, что можно будет изредка посмотреть телик и пожить без бабушек и дедушек.
— Может, вместо денег стоит ввести натуральный обмен?
— То-то банкиры полезут на стенку.
— Не надейся. Эти всегда выплывут. Хоть тресни, фьючерсная биржа встанет на ноги.
— Она уже стоит на ногах, дружище.
— Помнишь, как раньше говорили: «От судьбы не уйдешь»?
— Ну?
— Вернее было бы сказать: «От богатых не уйдешь», «От банкиров не уйдешь».
— До меня только сейчас дошло, почему семья без бабушек и дедушек называется ядерной. Она легко расщепляется, взрывается и грозит облучением.
— Ты меня опередил — я именно это и хотел сказать.
— Кто не успел, тот опоздал.
— Ммм, вкусно пахнут яблоневые полешки…
— Вопрос: без какого из пяти чувств легче всего обойтись?
— Уже поздновато играть в «угадайку».
— Ответим в другой раз.
— Если уж на то пошло…
— Закуски — объедение.
— Выше всяческих похвал.
— И никто не выразился на букву «п».
— И не загрузил нас сексуальной «домашкой».
— Я хочу сказать тост.
— За этим столом тостов не произносят. У нас не принято.
— Не волнуйтесь, тост не о присутствующих. Я просто скажу: за нашу планету в две тысячи шестидесятом году. Пусть на ней будет столько же удовольствий, сколько есть у нас.
— За нашу планету в две тысячи шестидесятом.
— За нашу планету.
— За удовольствия.
— Как по-вашему, в две тысячи шестидесятом люди все так же будут врать, когда речь зайдет о сексе?
— Вероятно, как минимум один из пяти.
— Кстати, это был А. Дж. П. Тейлор.
— Где?
— Это он говорил, что исповедует сильные принципы, но слабо им следует.
— Тогда и за него не грех выпить — без тоста.
Обычная толчея в прихожей, пальто, объятия, поцелуи; мы всей толпой вывалились из дома и направились кто на стоянку такси, кто на метро.
— Чудесно пахло дымком, — сказала Сью.
— И нас не пичкали тем, что вырвано из глотки мертвой коровы, — отметил Тони.
— Не верится, что к две тысячи шестидесятому мы все окочуримся, — произнес Дик.
— Ой, разве можно так говорить? — всполошилась Кэрол.
— Кто-то же должен озвучить то, о чем другие молчат, — заметил Дэвид.
— До скорого, ребята, — сказал Ларри. — Мне в ту сторону.
— До скорого, — ответили мы почти дружно.
Брачные узы
В аэропорту Глазго «твин-оттер» заполнился лишь наполовину: немногочисленные островитяне возвращались домой из метрополии, а самые нетерпеливые туристы с рюкзаками и походными ботинками за спиной спешили открыть сезон во время предстоящих выходных. Около часа они летели над зыбучими мозговыми извилинами облаков. Потом стали снижаться, и под крылом возникли зазубрины береговой линии.
Это были его любимые мгновения. Вытянутый мыс, протяженное атлантическое побережье Трай-Эйс, невысокая белая постройка, над которой они по традиции прошли на бреющем полете, неспешный разворот над горбатым островком Оронсей — и, наконец, гладкая, сияющая бухта Трай-Мор. Летом на борту всякий раз оказывается какой-нибудь столичный горлопан, который — скорее всего, из желания пустить пыль в глаза своей девушке — начинает орать, перекрывая шум пропеллеров: «Единственная в мире посадочная полоса на платном пляже!» Впрочем, с годами он даже на это стал смотреть сквозь пальцы. Пассажирский фольклор.
Они жестко приземлились на подернутый рябью берег и помчались по мелким лужам; между подкосами крыльев вздымались фонтаны брызг. Самолет подрулил боком к маленькому терминалу, и через минуту они уже спускались прямо на пляж по дребезжащему металлическому трапу. Рядом стоял наготове трактор с прицепом, чтобы доставить их чемоданы на расстояние десяти метров и свалить на мокрую бетонную плиту, служившую местом выдачи багажа. «Они», «их»: он напомнил себе, что пора привыкать к единственному числу. Такова теперь была грамматика его жизни.
Калум, поджидавший у трапа, смотрел ему через плечо, вглядываясь в стайку пассажиров. Все та же худощавая фигура, седая голова, зеленая штормовка. Калум был верен себе: ни о чем не спрашивал, просто ждал. Они поддерживали эти задушевно-чинные отношения добрых два десятка лет. Теперь постоянство и упорядоченность были нарушены, а вместе с ними — все привходящее.
Пока фургон тащился по однополосной дороге, вежливо пропуская встречные автомобили, самое время было поведать Калуму историю, которая уже навязла в зубах. Внезапная утомляемость, головокружение, анализы крови, томография, больница, опять больница, хоспис. Стремительная, неуклонная, безжалостная поступь событий. Рассказывал он сухо, ровным тоном, как будто это произошло с кем-то из посторонних. Иначе у него до сих пор не получалось.
У темного каменного домишки Калум рванул ручной тормоз.
— Упокой Господи ее душу, — тихо сказал он и подхватил дорожную сумку.
* * *
Впервые они приехали на этот остров еще до свадьбы. У нее на пальце было обручальное кольцо, в угоду… чему? — воображаемой островной морали? От этого они ощущали и свое превосходство, и ханжество.
В маленькой семейной гостинице Калума и Флоры им отвели комнатку с оштукатуренными стенами, дождевыми потеками на единственном окне и видом на торфяники, переходящие в крутой склон холма Бейн-Вортайн. В первую же ночь они обнаружили, что кровать у них в номере отзывается нещадным скрипом на любые телодвижения, выходящие за рамки того минимума, который требуется для благопристойного зачатия. Этот комичный надзор связал их по рукам и ногам. «Островная любовь», — повторяли они, приглушенно смеясь в плечо друг другу.
Перед поездкой он купил новый бинокль. В глубине острова было раздолье жаворонкам, горным чечеткам, каменкам, трясогузкам.
Над пляжем кружили чибисы и щеврицы. Но больше всего он интересовался их морскими собратьями — бакланами, олушами, буревестниками. Чтобы не пропустить их стремительное пикирование к водной глади и парящий, свободный полет, он часами просиживал на скалах, не замечая, что на нем отсырели штаны, и крутил колесико фокусировки. Особое отношение было у него к буревестникам. Те проживали свою жизнь в море и прилетали на берег только в пору гнездования. Откладывали одно-единственное яйцо, выкармливали птенца и вновь устремлялись в море, планировали над гребнями волн и, никому не подвластные, поднимались на воздушных потоках.
А она пернатым предпочитала цветы. Армерии, погремки, мышиный горошек, ирисы… Помнилось ему, были еще какие-то — черноголовки. На этом его знания — и память — начинали буксовать. Она никогда и нигде не срывала цветов. Говорила: сорвать цветок — значит обречь его на смерть. Даже вазы терпеть не могла. Больничный металлический столик в ногах ее кровати пустовал; другие пациенты считали, что она обделена заботой близких, и пытались передарить ей букеты, которые им некуда было ставить. Когда ее перевели в отдельную палату, этот вопрос решился сам собой.
Тогда, в первый год, Калум показал им весь остров. Как-то ближе к вечеру, когда они бродили по пляжу, где можно было накопать морских черенков, Калум отвернулся и сказал, будто обращаясь к морю:
— Мои дед с бабкой, между прочим, поженились, просто дав слово при свидетелях. В прежние времена только это и требовалось. Благословение родных и честное слово. Дожидались, когда начнут прибывать вода и луна, — это к счастью. А после свадьбы полагался им только жесткий матрас на полу в сарае. В первую брачную ночь. То бишь семейную жизнь начинали в смирении.
— О, чудесная история, Калум, — сказала она.
Но он-то распознал упрек, брошенный их английским нравам, их самонадеянности, их молчаливой лжи.
* * *
Во второй раз они вернулись на остров примерно через месяц после свадьбы. Им хотелось поделиться своей радостью с каждым встречным, однако здесь это было немыслимо. Может, оно и к лучшему: шалеть от счастья, но держать его в себе. Как видно, они тоже начинали семейную жизнь в смирении, только по-своему.
Но Калум и Флора догадались, и он это почувствовал. Впрочем, догадаться было нетрудно: блаженные улыбки, вся одежда с иголочки. В первый вечер Калум налил им виски из какой-то бутылки без наклеек. У него таких было не счесть. На этом острове виски потребляли гораздо больше, чем продавали, это уж точно.
Флора достала из комода старый свитер, оставшийся от ее деда. Положила на кухонный стол, разгладила складки. В старину, объяснила она, местные женщины умели рассказывать целые истории с помощью рукоделия. К примеру, вязка этого свитера говорила о том, что владелец его был родом с острова Эрискей, тогда как отделка и орнамент указывали на вероисповедание и рыбацкий промысел, на море и песок. А зигзаги по плечам — вот тут, глядите, — это все хорошее и плохое, что есть в семейной жизни. Ни дать ни взять, брачные узы.
Зигзаги. Как водится у молодоженов, они исподволь обменялись доверительными взглядами, в полной уверенности, что ничего плохого у них быть не может — не то что у родителей и знакомых, которые совершали непростительные, предсказуемые ошибки. Уж они-то будут другими, не в пример тем, кто вступал в брак до них.
— Расскажи-ка им про эти пуговицы, Флора, — подсказал Калум.
Если рисунок вязки говорил, на каком острове родился владелец свитера, то пуговицы у ворота точно указывали, какого он роду-племени. Вначале ему подумалось: это все равно что носить на груди свой почтовый индекс.
Но через пару дней он сказал Калуму:
— Жаль, что нынче таких свитеров не носят.
Ему, не знавшему родовых традиций, понравилось, что здесь их сохраняли.
— От них польза была немалая, — ответил Калум. — Утопленника сразу по фуфайке признавали. А уж дальше — на пуговицы смотрели. Кто таков.
— Я об этом даже не подозревал.
— Да тебе оно без надобности. Подозревать-то. Задумываться.
Порой у него возникало такое ощущение, будто их занесло на край света. Островитяне говорили с ними на одном языке, но это казалось каким-то необъяснимым географическим курьезом.
* * *
Сейчас Калум и Флора приняли его именно так, как он ожидал: с тактом и скромностью, которые он своим английским нутром когда-то по недомыслию принимал за почтительность. Они ему не навязывались, не изображали скорбь. Мимолетное прикосновение к плечу, тарелка с угощением, замечания о погоде — вот и все.
Каждое утро Флора давала ему завернутый в фольгу сэндвич, кусок сыра и яблоко. Он шел через торфяники к холму Бейн-Вортайн. Заставлял себя подняться на вершину: оттуда ему открывался вид на остров и зазубренную береговую линию; он мог побыть наедине с самим собой. Потом с биноклем в руке направлялся к утесам и морским птицам. От Калума он в свое время узнал, что в старину кое-где на островах местные жители ловили буревестников и вытапливали из них жир для своих коптилок. Такие подробности он почему-то скрывал от нее все двадцать с лишним лет. По возвращении домой выбрасывал это из головы. А потом они снова приезжали на остров, и он твердил себе: ей ни к чему знать, как здесь поступали с буревестниками.
В то лето, когда она чуть не ушла от него (или он от нее? — трудно сказать, слишком давно это было), Калум повел их копать морских черенков. Она чаще всего предоставляла это мужчинам, а сама предпочитала гулять вдоль влажной извилистой линии пляжа, откуда только что отхлынуло море. Здесь, среди гальки размером чуть больше песчинок, она с азартом искала цветные стеклышки — осколки битых бутылок, отшлифованные водой и временем. Не одно лето у него на глазах она, склонив голову, бродила по берегу, с готовностью опускалась на корточки, что-то поднимала, что-то отбрасывала и набирала в левую ладонь целую горстку сокровищ.
Калум объяснял, что сперва нужно отыскать в песке маленькую лунку, потом сыпануть туда щепоть соли и ждать, покуда морской черенок не высунется из своего укрытия. На левую руку Калум надевал кухонную рукавицу, чтобы не порезаться об острый край раковины. А как высунется, учил он, тут не зевай, а то уйдет в песок.
Хотя это говорилось со знанием дела, в песке чаще всего не было никакого шевеления, и они переходили к следующей лунке. Краем глаза он наблюдал, как жена, повернувшись к нему спиной, уходит все дальше, такая независимая, поглощенная своим занятием, забывшая о его присутствии.
Протянув Калуму соль и заметив, что кухонная прихватка изготовилась для атаки, он не нашел ничего лучше, чем бросить в знак мужской солидарности:
— Это как с женитьбой, верно?
Калум едва заметно нахмурился:
— В каком смысле?
— Ну, ищешь в песке добычу. А там либо пустота, либо острый край; того и гляди руки в кровь изрежешь, если не изловчишься.
Угораздило же его ляпнуть такую чушь. Вовсе он так не считал, а вдобавок, что еще хуже, это отдавало самонадеянностью.
По наступившему молчанию он тогда понял, что Калум счел его шутку оскорбительной — для себя, для Флоры, для всех островитян.
* * *
Каждый день он отправлялся на пешую прогулку, и каждый день промокал до нитки под моросящим дождем.
Наблюдая за буревестниками, скользящими над морем, он сжевал размокший сэндвич. Дошел до мыса Грейан-Хед и стал смотреть со скалы вниз на каменистую отмель, облюбованную тюленями. Когда-то они с ней видели собаку, которая доплыла от берега до отмели, разогнала тюленей и стала с довольным видом прохаживаться по косе, будто новая хозяйка. В этом году собаки не было.
Трудно поверить, но на крутом склоне Грейана было устроено поле для игры в гольф, где за все годы им так и не довелось увидеть ни одного игрока.
Небольшой круглый грин был обнесен частоколом, чтобы туда не забредали коровы. Как-то раз неподалеку от этого места на них внезапно ринулось целое стадо волов, которые до смерти ее напугали. Он не двинулся с места, начал яростно размахивать руками, непроизвольно выкрикивая имена ненавистных политиков, и отчего-то совсем не удивился, когда стадо остановилось. В этом году волов не было видно, и он даже заскучал. Видно, их давным-давно отправили на бойню.
Он вспомнил, как мелкий фермер на островке Ватерсей рассказывал ему про «ленивые грядки». Срезаешь кусок дерна, бросаешь в землю картофелины, сверху накрываешь перевернутым куском дерна — и дело с концом. Об остальном позаботятся дожди, время и солнце. «Ленивые грядки» — она давилась смехом, читая его мысли, а потом спросила: не так ли он представляет себе идеальный огород? Ему вспомнилось, как блестели ее глаза — в точности как влажные сокровища, которые она собирала в пригоршню.
* * *
В день отъезда Калум с утра отвез его на своем фургоне в Трай-Мор. Политики обещали, что скоро здесь появится настоящее взлетное поле для современных авиалайнеров. Велись дискуссии о развитии туризма и возрождении острова, с оговорками насчет процентных ставок по банковским кредитам. Калум был глух к этим разговорам, и он сам тоже. Ему нужно было только одно: чтобы остров по возможности оставался тихим и непотревоженным. Если сюда начнут летать аэробусы, для которых потребуется бетонированная полоса, ноги его здесь не будет.
После того как он сдал в багаж дорожную сумку, они вышли на воздух. Облокотившись на невысокий парапет, Калум закурил. Они смотрели на бугристый песчаный берег, где прятались моллюски. У них над головами сгустилось облако; чулок ветроуказателя безвольно поник.
— Это тебе, — сказал Калум, протягивая ему полдюжины открыток.
Не иначе как только что купил в кафе.
Виды острова, пляж, торфяники, самолет — копия того, что готовился его умчать.
— Но…
— Пригодятся, на память.
Через несколько минут под крылом «твин-оттера» уже мелькнул островок Оронсей, а дальше распростерлось открытое море. Тот мир замкнулся в себе, не одарив его прощальной красотой. В гуще облаков ему на память пришли «брачные узы» и пуговицы, морские черенки и островные радости; а еще забитый скот и пущенные на масло буревестники, и в конце концов у него навернулись слезы. Калум раньше его понял: больше он сюда не вернется. Но оплакивал он не безвозвратность, не себя самого и даже не ее и не их общее прошлое. Он терзался от собственной глупости. И самонадеянности.
Раньше он думал: чтобы начать расставание, надо перенестись назад. Думал, что можно утолить тоску, возвратившись туда, где они были счастливы, а если не утолить, то хотя бы поторопить, слегка подтолкнуть к порогу. Но взять над ней власть невозможно. Тоска сама забрала над ним власть. И он готовился в последующие месяцы и годы еще многому от нее научиться. А это был только первый урок.
Часть вторая
Портретист
Поначалу мистер Таттл все принимал в штыки: и таксу в двенадцать долларов, и размеры полотна, и пейзаж за окном. Хорошо еще, что в отношении позы и костюма удалось столковаться довольно быстро. Здесь Уодсворт охотно пошел на уступки чиновнику таможенного ведомства — и столь же охотно, в меру своих возможностей, облагородил его внешность. Ничего не поделаешь, такая работа. Он был бродячим живописцем, но считал себя ремесленником и, ублажая заказчиков, получал с них как за ремесленные поделки. Лет этак через тридцать мало кто вспомнит, как выглядел чиновник таможенного ведомства: к тому времени он уже отправится к праотцам, и единственной памятью о его телесной оболочке будет этот портрет. Как подсказывал опыт Уодсворта, заказчикам требовалось не точное сходство, а пристойное, благочестивое обличье. Это подразумевалось само собой.
Уодсворт не отрывался от кончика кисти, хотя краем глаза видел, что мистер Таттл, отговорив, закрыл рот. Вместо ответа живописец кивнул на конторскую книгу, в которой многочисленные заказчики делали свои записи, поверяя бумаге хвалу и хулу, мудрость и дурость. Нынешний заказчик мог бы просто найти подходящую сентенцию, оставленную кем-то из его предшественников лет десять, а то и двадцать тому назад, и поставить под ней свою подпись. До сих пор мысли таможенника были предсказуемы, как пуговицы на жилетке, хотя и не столь блестящи. Но Уодсворту, слава богу, платили за увековечение жилеток, а не мыслей. Нет, конечно, дело обстояло не столь примитивным образом: изображение жилета вкупе с париком и бриджами способствовало изображению мысли, а то и целого собрания мыслей. Как жилет и бриджи обрисовывали фигуру, так парик и шляпа обрисовывали мозги; хотя подчас изображение мозгов требовало изрядного художественного преувеличения.
В этом городке ему было душно; побросать бы холсты и кисти, палитру и краски в маленькую тележку, оседлать кобылу да пуститься лесными дорогами в путь: трое суток — и ты дома. А там можно будет отдохнуть, поразмыслить о том о сем и, глядишь, придумать себе другое занятие, чтобы не скитаться в поисках заработка. Не бродяжничать и, чего уж там, не пресмыкаться. Но пока суд да дело, он, по обыкновению, приехал в город, остановился на ночлег и дал объявление в газете о своих услугах, расценках и сроках. «При отсутствии заказов, — так заканчивалось его объявление, — мистер Уодсворт отбудет из города через шесть дней». Прежде он успел написать маленькую дочурку бакалейщика, а потом и дьякона Завадию Гарриса, который по-христиански приютил его у себя в доме и отрекомендовал сборщику таможенных податей.
Мистер Таттл не проявил подобного гостеприимства, но живописцу было не впервой ночевать на конюшне, под боком у своей кобылки, а столоваться на кухне. И вот на исходе третьего дня приключилась оказия, противиться которой он не смог — или не решился. После этого у него пропал сон. А по совести говоря, сердце кровью обливалось. Хотя нужно было просто махнуть рукой — мало ли каких чванливых гоблинов приходилось ему писать — да и выкинуть из головы этого таможенника. Видно, и впрямь настало время отойти от дел, поставить кобылу в стойло, чтоб жирку набрала, вспахать поле да завести какую-никакую скотину. Чем физиономии малевать, подрабатывал бы себе маляром — вполне достойное ремесло.
К полудню первого дня Уодсворту пришлось раскрыть перед таможенником свою конторскую книгу. Этот невежда, как и многие другие, воображал, будто бы, разинув рот пошире, он сможет докричаться до кого угодно. Перед глазами Уодсворта забегало перо, застучал по странице нетерпеливый указательный палец. «Если будет на то милость Господня, — вывел чиновник, — на Небесах, может статься, тебе дано будет услышать». Уодсворт ответил полуулыбкой и коротким кивком, что можно было истолковать как благодарность, смешанную с изумлением. Такую мысль ему излагали не раз. Чаще всего за ней стояла христианская жалость и сочувственная надежда; но в этой свежей записи сквозило плохо скрываемое презрение к убогим и хворым — как, мол, их только земля носит? Мистер Таттл был из тех господ, которые и рады бы нанимать в услужение слепоглухонемых, но лишь с тем условием, чтобы по хозяйскому велению к ним возвращались бы все пять чувств. Конечно, при нынешнем республиканском порядке справедливости стало больше: хозяева теперь именовались гражданами, а слуги — наемными работниками. Но ни хозяева, ни слуги от этого не вымерли, равно как и главные человеческие наклонности.
Уодсворт не считал, что берется судить таможенного чиновника и оттого поступает не по-христиански. Свое мнение он составил уже при первом знакомстве, а нынче, на третий вечер, лишь укрепился в нем. Неприятное происшествие сразило его тем, что жестокий выпад был направлен против ребенка, несмышленого мальчишки, нанятого для работы в огороде. К детям живописец относился с теплотой: они были ему милы, да к тому же — по счастью — не замечали его недуга и не осложняли ему жизнь. Семейного уклада он не знал. Может, еще и не поздно было взять жену, только такую, которая уже перешагнула детородный возраст. Боже упаси передать свой недуг потомству. Кое-кто его разубеждал: дескать, такие страхи беспочвенны, ибо недуг он приобрел не от рождения, а после болезни, перенеся в пятилетнем возрасте сыпной тиф. Кроме того, внушали ему, он ведь нашел свою стезю, так почему бы сыну его, каким бы тот ни уродился, не пойти по его стопам? Так-то оно так, а вдруг дочка родится? Если девочка всю жизнь в отверженных будет ходить, он этого не переживет. Иное дело, что она могла бы и дома сидеть — они бы друг дружку жалели. А когда его не станет?
Нет, в самом деле, пора ему отправляться восвояси да малевать свою кобылку. Давно собирался — руки не доходили. Служила она ему верой и правдой двенадцать лет, все понимала и не сетовала на вопли, что слетали с его уст в безлюдной лесной чаще. Была у него задумка: изобразить ее на холсте того же размера, что и портрет мистера Таттла, только по горизонтали, а потом набросить на картину покрывало и снять лишь тогда, когда кобылка сдохнет. Потому как негоже ставить рядом тварь Божию и жалкую поделку, сотворенную неуклюжей рукой, — хотя для этой самой цели его и нанимали заказчики.
Он предвидел, что писать кобылку будет нелегко. Терпения у нее ни на грош, а кичливости — и того меньше: не станет же она ему позировать, горделиво выставив одно копыто. Зато и к портрету кичливых придирок не будет, и полработы показывать не придется. А чиновник таможенного ведомства, не в пример ей, сейчас зыркал глазами да тыкал пальцем, навалившись ему на плечо. Чем-то он был недоволен. Уодсворт поднял взгляд от неподвижных черт к чертам подвижным. У него сохранились смутные воспоминания о слухе и речи, да и грамоту он осилил, но читать по губам так и не научился. Подняв самую тонкую кисть от живота с блестящими пуговицами, Уодсворт указал взглядом на конторскую книгу, и таможенник обмакнул перо в чернильницу. «Больше достоинства», — вывел он и подчеркнул оба слова.
Уодсворт считал, что уже в полной мере наделил мистера Таттла достоинством. Прибавил стати, убавил брюхо, сделал вид, что не заметил волосатых родинок на шее, и вообще расстарался, чтобы грубость представить усердием, а вздорность — нравственной стойкостью. Куда уж больше! Не по-христиански было требовать для себя лишнего; не по-христиански будет и потакать таким притязаниям. Если пойти у него на поводу, чтобы с портрета глядело показное достоинство, Господь за такое не похвалит.
* * *
Кого только не доводилось писать бродячему портретисту: и младенцев, и отроков, и мужчин, и женщин, и даже покойников. Трижды приезжал он на своей кобылке к смертному ложу, чтобы вернуть к жизни усопшего: родственники просили запечатлеть его как живого, хотя предъявить могли только хладное тело. Уж если такая задача была ему по плечу, неужто не сумеет он передать, как резво бежит его кобылка, как взмахивает хвостом, отгоняя мух, как нетерпеливо вытягивает шею, покуда он собирает свою нехитрую повозку, как прядает ушами, когда он по-своему заговаривает с лесной чащей?






