Козлёнок за два гроша Канович Григорий
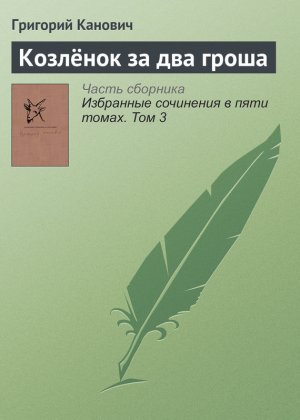
В Семене Ефремовиче все противилось такому унизительному для него определению и потому он не спешил переводить. Нет! Не Ратмир Павлович, не жандарм — его хозяин. На свете есть только один хозяин. Хозяин всех. Но он, Шахна, не станет поминать его имя всуе… да еще тут, в камере смертников. Не станет.
— Может, вы сами мне ответите… по-русски? — обратился Князев к Гиршу. — По-моему, вы владеете русским не хуже меня. Когда не понимаешь, совсем по-другому смотришь. А вы смотрите так пристально… так небезразлично…
— Он назвал вас моим хозяином, — спеша на выручку брату, пробормотал Шахна.
— У нас… у тебя… у меня… у него один хозяин, — сказал Ратмир Павлович и ткнул пальцем, на котором сверкал золотой перстень, в потолок. — Господь бог. Переведи.
Лицо Шахны покрылось багровыми пятнами, но в сумраке камеры они были незаметны — он только их чувствовал. Чувствовал и боялся, что эти пятна никогда… ни завтра, ни послезавтра, ни через десять лет не сойдут.
Господи, подумал про себя Шахна. Твое имя — на устах жандарма! И они, хозяева тюрем, хозяева военных полей, оказывается, взывают к тебе… Так кто же ты в таком случае — владыка или слуга? Слуга каждого? Прислужник? Полулакей, как какой-нибудь Нисл-Бер, владелец мишкинского заезжего дома, который готов служить всем, всем без разбора?.. Господи! Почему ты не вырвешь грешный мой язык? Почему не испепелишь мои греховные мысли? Как я смею… Я, жалкий червь… Я, кормящийся собственной блевотиной!..
— Мне нечего сказать, — долетел до Шахны голос Гирша.
— Что?
— Мне нечего сказать. Главное они знают — я стрелял в генерал-губернатора. И больше ничего от меня не услышат. Остальное — мое.
— Переведи! — приказал Князев.
— Он не отрицает, что стрелял в генерал-губернатора. Но больше ничего не скажет. Остальное принадлежит ему.
— Остальное? — переспросил Ратмир Павлович. — Спроси, что это такое?
Семен Ефремович передал брату просьбу полковника.
— Все, что было до выстрела, — объяснил Гирш.
— Отец, мать, жена… сны, мечты… — перевел Шахна.
— Следствию нужна вся картина, а не фрагмент… Объясните брату, что он зря упорствует… Досадно, когда приходится прибегать к силе… Ты же, Семен Ефремович, меня знаешь: я не сторонник зуботычин.
Шахна, запинаясь, что-то говорил Гиршу.
Ратмир Павлович слушал еврейскую речь так, как слушают по вечерам кваканье лягушек — уж раз господь сотворил их, пусть квакают.
Надзиратель тужился от подобострастия и рвения, заглядывал высокому начальству в глаза, ждал какого-нибудь приказа, чтоб проявить свою сметку и исполнительность, но в глазах Князева ничего, кроме смертельной усталости, не было.
Он, видно, и впрямь очень болен, подумал Шахна. Раньше он держался надменнее и суше.
— У вас были сообщники? — спросил Ратмир Павлович, не сомневаясь в том, что никакого ответа не последует.
Семен Ефремович пытался Гиршу, как и всем узникам, чьи показания он переводил, внушить веру в возможную, хотя и несбыточную справедливость, предостеречь от ошибок, свойственных всем мученикам и страдальцам, советовал ничего не утаивать. Умолчания и увертки могут-де усугубить и без того незавидное положение брата и даже причинить ему непоправимый урон.
Гирш слушал увещевания брата, но не выказывал никакой заинтересованности или страха. С каждой минутой арестант обретал все большее спокойствие и уверенность, как будто дело касалось не его, а кого-то другого, которого нет в этой камере смертников, за этими забранными железной решеткой окнами.
— В известном смысле и я ваш сообщник, — неожиданно сказал Ратмир Павлович. — Да, да, сообщник, ибо не согласен с такими методами, к коим прибег его высокопревосходительство губернатор. Взрослого человека пороть нельзя… Это безнравственно… Как видите, и мы можем с чем-то не соглашаться. Не правда ли, служивый? — так же неожиданно обратился Князев к надзирателю.
— Так точно, ваше высокородье, — млея от оказанной чести, выпалил тот.
— Одно дело — бунт. Другое — несогласие, — продолжал полковник. — Переведи!
— Не могу, ваше высокородье, — начал было оправдываться надзиратель, от счастья явно переоценив слова Ратмира Павловича, только что обращенные к нему.
— Я не тебе…
Шахна неторопливо перелагал мысль жандарма на язык своей матери. Куда спешить? Чем позже Гирша приведут под конвоем на военное поле, тем лучше.
— Мыслить — и значит не соглашаться. Даже перед тем как сказать «да», человек чему-то должен сказать «нет»… — пояснил полковник.
Князев упивался своей речистостью и, хотя самоупоение портилось усталостью и периодическими болями под левой лопаткой, Ратмира Павловича так и подмывало предстать перед этим молодым иудеем, простым сапожником, несчастным правдоискателем, не солдафоном, а просвещенным, даже обаятельным человеком.
— Вон их вокруг сколько! Несогласных! — полковник подошел к окну и глянул на засыпающий, но еще кое-где освещенный город. — Под каждой крышей — несогласный. Спят, встают, отправляются на работу. В сапожную мастерскую, на фабрику, в лавку, к своим покупателям и пациентам. — Тут Ратмир Павлович снова вспомнил про волшебника Самуила Гаркави. — И никто их, этих несогласных, не трогает… Возьмем, например, твоего брата… Семена Ефремовича… Шахну… Ведь не согласен он с нами?
Князев вперил взгляд в своего толмача.
— Ведь не согласен?
Семен Ефремович дернул головой.
— Не согласен, а служит нам… и служит неплохо… совсем неплохо. Почему же ты, Гирш Дудак, не мог бы так?.. Глядишь, тебя бы за верную службу и в лейб-сапожники произвели. И тачал бы ты сапоги не только его высокопревосходительству генерал-губернатору, а самому государю. Переведи!
Пока Шахна переводил, Ратмир Павлович успевал глотнуть затхлого тюремного воздуха, чуть-чуть усмирить назойливую боль.
— Может, водички? — осведомился услужливый надзиратель. — Я мигом…
— Спасибо, служивый… В следующий раз… — промолвил Ратмир Павлович, и Семен Ефремович понял, что сегодняшним днем его мучения не кончатся.
— Для того чтобы не отвечать, большого ума не надо, — сказал Князев. — Ничего за откровенность не обещаю. Я — не суд. Я — следователь. Мое дело закогтить птицу, но на огне, как тебе известно, ее зажаривают другие. Жареные птицы не в моем вкусе… даже рябчики… Я люблю летающих… Только, чтоб на голову не гадили, чтоб знали свои гнезда и не разоряли чужие… Подумай! Завтра снова увидимся… Только не в тюрьме… здесь душно… уж очень здесь воздуха мало… А у меня… У нас, — поправился Князев. — Может, что-нибудь надумаешь для своей же пользы…
Шахна, переводя, стремился передать доброжелательность Князева, которая и его, толмача, сбивала с панталыку.
— А ты, Семен Ефремович, — сказал полковник, — оставайся!
— Как оставайся?
— Да хоть до утра. Сам говорил: столько лет не виделись.
— Да, но… в тюрьме?
— И не заметите, как ночь пролетит. Принеси-ка, братец, — Князев повернулся к надзирателю, — лишнюю подушку… и одеяло…
— Слушаюсь, ваше высокородье…
— Ратмир Павлович, — взмолился Дудаков.
— Что?
— Я с вами!..
— Знаю, что ты с нами… знаю… ценю, — осклабился Князев.
— Я, пожалуй, домой…
— Ну чего ты, Семен Ефремович, в штаны наложил? — с грубоватой прямотой, подразумевавшей дружеское расположение, промолвил Ратмир Павлович. — Каждому полезно провести в тюрьме одну ночь. Не трусь! Братское ложе — не эшафот. Завтра оба и прикатите… я за вами карету пошлю… — полковник осклабился. — Вода здесь есть. Мыло есть.
— И параша, ваше высокородье, — вставил ошарашенный надзиратель.
— А то, что, Семен Ефремович, небритый приедешь ка службу, так тебе же со мной не целоваться. До свиданья!
— До свиданья, — озябшими губами произнес Семен Ефремович, провожая Ратмира Павловича и надзирателя до железных дверей.
Когда щелкнул ключ, скрипнул засов и железным бельмом затянуло глазок в двери, Шахна не сдержался и в сердцах выругался. Ишь чего, благодетель, придумал! Решил поглумиться над ним, надсмеяться — оставил на ночь в тюрьме.
На ночь?
Кто сказал, что на ночь?
Может, на всю жизнь.
Семену Ефремовичу на минуту стало так страшно, что хотелось броситься к дверям и биться о них головой, биться, биться, пока они не распахнутся перед ним.
— Сволочь, — прошипел он.
Ему вдруг пришла в голову простая и чудовищная мысль, что Ратмир Павлович забудет о нем, пришлет жандармскую карету только за братом Гиршем, а он, Шахна, останется на веки вечные в тюрьме, пусть не в одиночке, пусть не в камере смертников, но в тюрьме, и никогда ему из нее живым не выбраться. В самом деле — кто он, Семен Ефремович Дудаков? Кто он таков, чтобы печься о нем, дрожать над ним? Да таких, как он, в Вильно полным-полно. Князев и глазом не моргнет, другого толмача сыщет — посмирней да попокладистей. Только бы вырваться отсюда! Господи, только бы вырваться и завтра — ни днем позже — куда-нибудь бежать, неважно куда, только бы исчезнуть, испариться, затеряться. Российская империя велика, где-нибудь в ней и еврей может укрыться от погони, от позора, от несчастья, и никакие ищейки его не найдут.
Завтра же, завтра же, мысленно повторял Шахна, и губы его беззвучно шевелились в молитве, и в глазах мелькали не серые стены камеры, а необозримые российские просторы, радушные и безопасные, заваленные не грехом, а белыми добродетельными снегами.
Что его удерживает? Жалованье? Вера в свое призвание — сеять добро там, где земля до недр выжжена злом и пороком? Ей, этой выжженной пустыне, нужен потоп, ливень, а он, Шахна Дудак, только капля, только маленькая жалкая капелька.
Мысль Семена Ефремовича то кровоточила, то снова заразной тифозной вошью переползала на хозяина — полковника Ратмира Павловича Князева: пусть и он заразится отчаянием, пусть и он испытывает такое страшное, такое невыносимое унижение, пусть и он завтра же бежит куда глаза глядят — к гиенам и волкам, к шакалам и стервятникам: он — падаль, их пища.
Семен Ефремович цеплялся не только за тайные заклинания, но и за надежду; за то, что, еще не побывав в руках, уже валится из рук.
Он верил, вернее, ему хотелось верить, что его разыграли, что это не более чем горестная шутка, нелепый спектакль, устроенный Ратмиром Павловичем от скуки, из желания скрасить постылую жандармскую жизнь; он уповал еще на бога, на благоразумие, на то, что завтра все выяснится, и он, Шахна Дудак, посмеется над своими вчерашними страхами вместе с тем, кто его ими до одури, до изнеможения, до безумия накормил.
Нет, нет, перечил Семен Ефремович самому себе. В Вильно, в Северо-Западном крае, во всей необъятной империи не бывает ни сегодняшних, ни вчерашних, ни завтрашних страхов, над которыми можно посмеяться; правит один бессмертный, многоликий, незримый, несмешной страх. И он, Семен Ефремович Дудаков, Шахна Дудак, как и все подданные, состоит до смертного часа у него, у этого страха, на службе. Убеги в степь, в тайгу, к черту на кулички, и там ты будешь ему служить.
И там.
И Гирш, брат его, тоже состоит у него на службе. Гирш только строит из себя героя, считает себя бесстрашным.
Но разве бесстрашие в том, чтобы убивать.
Бесстрашие в том, чтобы жить. Жить, убивая в себе собственный страх.
Гирш пытался убить генерал-губернатора раньше, чем собственный страх.
Неужели этот хмырь и в самом деле принесет подушку и одеяло?
Может, сейчас откроется дверь, и Семен Ефремович услышит:
— Дудаков, на выход!
Вот когда это окончаньице спасет его, отделит от этих стен, от этих нар, от брата и вернет на свободу.
На свободу ли? Разве не все равно, где бояться?
Семен Ефремович стоял перед Гиршем, и тот смотрел на его пиджачную — из добротного английского сукна — пару, на его ботинки с гнутыми носами и замшевым верхом — куда до них тем, что Шахна когда-то приносил в починку в сапожную мастерскую на Завальной! — на аккуратно подстриженную голову, на бакенбарды, похожие на перевернутую обувную щетку, и не было во взгляде среднего брата никакой ненависти, никакого осуждения — только насмешливое равнодушие, смешанное с жалостью. И как его было не пожалеть — ни с того ни с сего попавшего из гостиной, пускай не из гостиной, пускай из прихожей теплого и беспечного дома в погреб, подземелье, за грань жизни.
— Господи! Что он так долго не идет? — сказал Семен Ефремович, сверля глазами дверь камеры.
— Митрич — человек послушный, как подзаборная трава.
— Митрич? Ты что, с ним по-русски говоришь? — встревожился Шахна.
— Не беспокойся, он придет, — успокоил брата Гирш.
Семен Ефремович и впрямь нуждался в успокоении. Сердце его, огромное, потяжелевшее, колокольно гудело в грудной клетке; ноги все время сгибались в коленях — то ли от слабости, то ли от постыдного страха. Слова Гирша, от которого он ждал чего угодно — только не участия и дружелюбия, — действовали на него так, как в детстве стук отцовской кирки. Пока кирка стучала о камень, все на свете казалось незыблемым и нерушимым.
— Тебе спать хочется? — спросил Гирш.
— Нет. Дома я всегда ложусь поздно.
— Грехи замаливаешь?
— Нет.
— Читаешь?
— Да.
— А я… почти не умею… Так, видно, и помру невеждой, — признался Гирш.
— Не надо было подкладывать в бане под зад меламеду Лейзеру вместо веника крапиву, — сказал Шахна легко, как бы освобождаясь от душевного угнетения.
— Смотри — помнит!
— Помню. У тебя Лейзер веник попросил, а ты ему, шалопай, пучок крапивы сунул. Хохоту в бане было!..
На меламеде Лейзере нить воспоминаний оборвалась, но ее проще простого было протянуть снова, если бы страх, не оставлявший Семена Ефремовича, не рвал ее еще до того, как ее пытались связать.
Гирш отошел к окну и, как прежде, вступил в безмолвный и тайный сговор со звездами, а может, и с самим всевышним.
Семен Ефремович косился на дверь, не в силах совладать с нетерпением, и после каждого поглядывания она казалась ему толще и неприступней.
— Ложись, — не поворачиваясь к брату, бросил Гирш, — Я все равно не засну…
Помолчал и добавил:
— Не бойся, крапивы под зад не суну.
— Спасибо… А ты… ты почему не спишь?
Семен Ефремович устыдился своего вопроса, замолк, засопел носом.
— Не знаю… Наверно, перед этим никто не спит.
— Все еще может обойтись… Ты же его не убил… Ты только ранил его… Казнят или расстреливают за убийство.
— Но я хотел его убить.
— Ты только на суде так не говори. Скажи: «Хотел отомстить за унижение»…
— Я хотел его убить.
Гирш никогда не лгал, всегда говорил правду, и от этой правды страдали не только домочадцы, но и он сам. Однако, несмотря на пинки и проклятия, своей привычке не изменял.
— Кроме правды есть еще истина! — бывало, поучал его рабби Авиэзер.
— Что это за истина без правды? — возражал он, не щадя никого — ни отца, ни мать, ни рабби Авиэзера, ни самого господа бога.
— Ты знаешь, где это происходит?
— На военном поле, — объяснил Шахна.
— Ты там когда-нибудь был?
— Нет.
— И я не был…
— Ты напрасно об этом думаешь.
— А о чем мне, Шахна, думать? О чем?
— О жене… Есть у тебя жена?
— Есть. Мира… Она ждет ребенка…
— Хочешь ей что-нибудь передать?
— То, что хочу, передать невозможно. А то, что могу, передавать не хочу… от моих слов ей будет еще тяжелей… пусть она думает, что я ее не любил… когда не любишь, легче расставаться… Если родится девочка, пусть назовет ее Двойре… по моей матери…
Щелкнул засов, и в камеру с охапкой арестантского белья вошел надзиратель.
— Это вот подушка… Это вот одеяло… А это… — объявил Митрич, — это штаны и куртка.
У Шахны потемнело в глазах. Ноги куда-то провалились сквозь пол, и Семен Ефремович стоял посреди камеры, как в трясине.
— Я — не арестант, — сказал он с излишней, непонятной Митричу запальчивостью.
— Господин полковник распорядились. Его высокородье так и сказал: «Выдай, служивый, ему, то есть тебе… все, что полагается». Честь по чести. Ну я и выдал.
— Забери… те! — Семен Ефремович переломил слово, как прут.
— Господин полковник прикажет — заберу, — спокойно сказал Митрич и, бросив подушку на нары, зашагал к выходу.
— Возмутительно! — закричал Шахна, когда Митрич вышел в заветный и желанный коридор.
Выдержка изменила Семену Ефремовичу, но он быстро взял себя в руки.
— Извини… нервы…
— Что? — встрепенулся средний брат.
— Нервы, говорю.
— А что это такое? — искренне, без всякого желания поддеть брата, спросил Гирш.
— Господи! Что такое эксплуататоры, он знает! Что такое генерал-губернатор, знает! Что такое виселица, знает! А что такое нервы…
— Ну чего ты так разошелся? И перестань коситься на дверь! Ты же их человек. Тебе ли бояться?
— Я не их, Гирш, и не твой.
— Так не бывает.
— Ну да! Тебе же все известно! Для тебя и ничей — враг: суй ему под зад крапиву, пали в него среди бела дня!..
— А ты все еще в вороне ангела видишь? — вдруг опечалился Гирш.
— Да!
— Даже если тебе глаза выклюет?
Семен Ефремович сел на край нар, отшвырнул арестантские штаны и куртку, поморщился.
— Больше у тебя ко мне никаких просьб? — уклонился от ответа Семен Ефремович. Сознание того, что кто-то у него о чем-то просит, придавало ему силу, уверенность, что и это заточение, и эта арестантская одежда — шутка, маскарад, которые поутру кончатся, выводило за эту дверь, за эти неприступные, сложенные умелыми каменщиками стены, за этот круг жизни.
— А ты их выполнишь?
— Смотря о чем ты меня попросишь.
— Скажем, о ремне.
— О каком ремне?
— О твоем…
— Нет. Проси о жене… о будущем ребенке… об Эльяшеве…
— Об Эльяшеве?
— Он твой адвокат… Слушайся его!.. Светлая голова!.. Замечательный защитник… Как только выйду отсюда, — Шахна боданул головой дверь камеры, — тут же к нему схожу… Еще не все потеряно… Веру Засулич ведь оправдали… ведь выпустили…
— Я не Вера и не — Засулич… Я — Гирш Дудак… Если ты действительно мне брат, оставь свой ремень.
— Нет. Нет и еще раз нет! — воскликнул Шахна.
В этом крике выразилось не только его отношение к просьбе Гирша, но и ко всему этому до омерзения двусмысленному положению, в котором он, Семен Ефремович, оказался по милости своего хитроумного начальника, решившего сыграть с ним такую злую, такую — ха-ха-ха — веселую, такую неординарную шутку.
— Я прошу тебя… Я никогда ни о чем тебя не просил… Ты знаешь… — сказал Гирш.
И тут Шахне показалось, будто у окна стоит не Гирш Дудак, а получеловек-полуовн Беньямин Иткес, явившийся сюда, в 14-й номер, из небытия — прошел, висельник, сквозь стены, чтобы испытать его, Шахны, душу, сломать, испепелить, развеять в прах по двору раввинского училища, по коридорам Виленского жандармского управления, по военному полю в Шнипишках.
Семен Ефремович раздул ноздри и испуганно принюхался.
Пахло!
Пахло!
Пахло нужником раввинского училища!
— Гирш, — пробормотал Шахна в страхе. — Гирш!
— Что?
— Ты ничего не слышишь?
— Твой голос.
— И больше ничего?
Гирш прислушался.
— Слышу только твой голос.
— Здесь ничем не пахнет?
— Здесь всегда пахнет могилой.
— Нет, не могилой.
— Еще здесь пахнет волосами моей матери Двойре…
— Волосы не пахнут.
— Пахнут. Когда придет твой черед, ты почувствуешь их запах.
— Какой черед?
Семен Ефремович жадно втягивал ноздрями затхлый воздух камеры смертников.
— Умирать… Перед смертью они пахнут, как антоновские яблоки.
— А мне, Гирш, почему-то кажется… нет, нет, я в полном уме… мне почему-то кажется: пахнет дерьмом.
— Это у тебя от страха… Страх и жажда жизни всегда пахнут дерьмом… Тебе хочется жить… жить во что бы то ни стало… в арестантской одежде… в колпаке шута… с тавром раба на лбу… только бы жить… Дай мне твой ремень… Дай! По-моему, и твой хозяин не против.
— Не против чего?
— Не против, чтобы ты мне помог.
— Чушь! Бред! Несусветная глупость!
— Сам подумай: зачем ему лишний раз руки марать? Кому охота прослыть подмастерьем палача?.. Когда его спросят, он скажет: «Птицу я, господа, закогтил, да она сама себя изжарила!»
— Тебя еще могут помиловать. Я же сказал тебе: как только выйду, побегу к Эльяшеву. Отдам ему все свои деньги. Буду платить ему два… три года подряд… У тебя ведь ребенок вот-вот родится. Ты хочешь, чтобы он сразу родился сиротой?
Семену Ефремовичу становилось все трудней и трудней дышать. Волны зловония то накатывали на него, то отливали, и в их отлив всему в камере возвращалось прежнее обличье: Гирш был Гиршем, нары — нарами, дверь — дверью камеры, а не нужника в раввинском дворе.
— Пойми, Шахна: лучше веревка палача, чем палаческая милость. Веревка сразу задушит. Милость же будет душить всю жизнь… каждый день…
— Ты прости меня… но ты тоже болен…
— Я здоров… совершенно здоров…
— Ты болен ненавистью. Как и они… Ты лечишь ее пулями, а они… они — ненавистью. — Речь его все замедлялась и замедлялась, словно он говорил во сне.
— Я устал от твоих слов, — сказал Гирш, но не грубо, а даже как-то просительно, и в этой просительности Семен Ефремович уловил смутное желание продлить разговор, только не о виселицах, не о палачах — кто же в доме повешенного говорит о веревке! — а о чем-то другом; может, о той же крапиве, которую Гирш подсунул меламеду Лейзеру, об отце, о матерях — Гинде и Двойре, о водовозе Шмуле-Сендере, о нищем Авнере, о рабби Авиэзере — да мало ли о ком.
Шахна понимал, что оба все равно не уснут, а быть вместе и молчать было выше их сил, выше их разногласий.
— Я давно там не был… — как бы в знак примирения проговорил Гирш и отвернулся от окна. — А ты?
— Ты о чем?
— О родных местах… о доме…
— Давно.
И снова Семена Ефремовича поразило сходство брата с Беньямином Иткесом, получеловеком-полуовном. Правда, сейчас оно уже не было ни отталкивающим, ни пугающим. Ночь набирала силу, в забранное решетками окно стучался ветер, и чуткое обоняние могло уловить запах распустившейся в тюремном дворе сирени.
— Интересно, как там отец? — сказал Гирш.
— Год назад был еще жив.
Братья помолчали. Неусыпный Митрич щелкнул глазком, заглянул в камеру, рявкнул: «Спать! Спать!» — и снова наступила тишина. Как странно, поймал себя на мысли Шахна, тюремная тишь как две капли воды похожа на сумрачный, таинственный покой пущи. Так пусть же им — ему и его несчастному брату Гиршу — кажется, будто они в мишкинском бору, пусть шумят над ними его гордые деревья и висят не каменные своды, а вечнозеленые верхушки елей.






