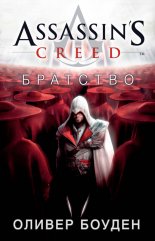Марина Цветаева: беззаконная комета Кудрова Ирма
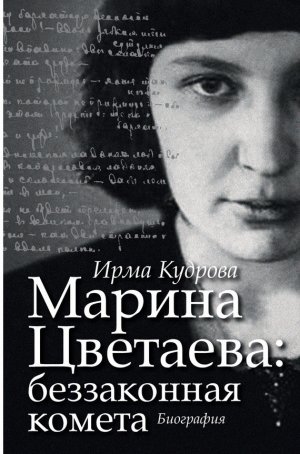
В письме Тесковой из Фавьера: «Бог с ними, конечно, – и не мое это “море” и не мои это “гости” и, может быть, я бы первая от этого веселья отстранилась: слишком уж много женского визгу и мужского хохоту! – но все-таки каждый вечер сидеть на кухне, без ни-души…»
Добровольное уединение – это одно. Но безвыходное навязанное одиночество – совсем другое. При всем своем затворничестве художника-творца Марина всегда нуждается в друзьях, в общении и даже в веселье. Тем более – теперь. Той же Тесковой: «…я – aus dem Spiel, совсем, aus jedem[25]. Смотрю на нынешних двадцатилетних: себя (и все же не себя) 20 лет назад, а они на меня – не смотрят, для них я скучная (а м. б. “странная”), еще молодая, а уже седая, – значит, немолодая – дама с мальчиком. А м. б. просто не видят как предмет. Горько – вдруг сразу – выбыть из строя – живых…»
Нет сомнения: все это – отроги «невстречи» в Париже.
Как бы она ни храбрилась – в те краткосрочные июньские дни была похоронена прекрасная мечта. И надежда, сопровождавшая ее столько лет…
Прошла неделя, другая. И феникс возрождается из пепла в очередной раз.
Из душной комнаты, в которой даже не было окна, Марина Ивановна приспособилась вытаскивать для работы в сад соломенный стол; стол, увы, хромой, у него, как пишет в одном из писем Цветаева, «пляска святого Витта», и потому она прислоняет его к кадке и подпирает коленом, чтобы не качался. Но в кадке сын хозяина держит трех своих змей, они мирно копошатся там в какой-то жиже. Мур, прекрасно зная, что мать их безумно боится, всерьез утверждает, будто змеи свистят. Преодолевая тошноту, Марина Ивановна прислушивается и изо всех сил старается думать о другом.
Со временем появляются новые знакомые – молодой филолог Борис Унбегаун, красивая умница русская швейцарка Елизавета Малер. Приезжают в Фавьер и супруги Парен: Брис Парен – видная фигура в литературно-издательском мире Франции, и его жена, с которой Цветаева в незапамятные времена училась в Москве в одной гимназии.
Опасение, что сын долго не сможет после операции ходить на прогулки, а значит, не сможет и Цветаева, – рассеивается. Уже через три недели после приезда Мур только что не бегает. И купается без лечебного бандажа.
Здесь чудное море – уже тем чудное, что вблизи берега – мелкое и можно его не бояться. Марина Ивановна подобрала на берегу выброшенную старую рыбачью сеть, срезала с нее пробки – и сшила себе прекрасный пробковый пояс. Теперь она могла без страха заплывать подальше, – при ее малом весе пояс держал замечательно, чуть ли не поверх воды…
Как всегда, главная радость ее – после творческой работы за столом! – дальние прогулки. Обычно они приглашали с собой одного или двух знакомых спутников-мужчин, чтобы можно было, если захочется, зайти по дороге в какое-нибудь кафе – отдохнуть и выпить. И – отправлялись.
Родионову, которая давно уже жила в Провансе, радовала сердечная реакция Цветаевой на природу. Несмотря на сильную близорукость, Марина Ивановна все видела, слышала, замечала – и очарование сухих меловых гор, и шорох тростника над маленькой речкой, и меняющиеся под ветром оттенки морской сини…
Беседы их по дороге всегда необыкновенно интересны. Любой разговор, вспоминает Родионова, Цветаева как-то естественно превращала в философский диспут. Говорили о поэзии и поэтах, о Бергсоне и интуиции, о Нострадамусе и об отношении к французам. Почти никогда – о политике.
Только однажды спутница, не удержавшись, все же спросила:
– Стихи – стихами, Марина Ивановна, но как же вы все-таки относитесь к происходящему?
И услышала в ответ:
– А вы знаете, как Гёте ответил на вопрос, что он думает о Французской революции? Он сказал: «О чем вы меня спрашиваете! Я занят эпохами тысячелетий, а революция – мгновение. Она есть, и вот – ее уже нет и следа!»
– Гёте мог так ответить, – возразила Родионова, – но мы-то живем сейчас в этом мгновении, мы сами – творцы его!
– Да, конечно, вы правы, – отвечала Цветаева. – Я знаю одно: мне очень хочется туда, домой, на Оку!
Изредка крутыми тропками, по которым некогда ходили пилигримы и рыцари, они совершали путешествие в средневековый горный городок Борм. Поднимались по его узеньким ступенчатым улочкам все выше и выходили к городской террасе, откуда открывался прекрасный вид: на синие горы, долины и курящееся вдали в дымке, будто в сапфировой чаше, море. А потом шли к замку. Бродили по его обширным залам, останавливались у огромных каминов с гербами, вырезанными на плитах.
Марина Ивановна говорила, что средневековье – ее любимейшая эпоха, что она будто видит воочию в Борме и пеструю толпу на улицах, и монахов, и рыцарей, и трубадуров.
Она фантазировала:
– Представьте вечер в замке. В камине жарко пылают целые сосны, и при их мерцающем свете сидят рыцари и дамы, слушают моих далеких предшественников – трубадуров. Вздыхают, смеются, плачут…
И она рассказывала множество подробностей, живых и конкретных, из жизни тех давних времен. И читала стихи. И вдруг надолго замолкала…
Время от времени в русском городке устраивали празднества и литературные вечера – на террасе какой-нибудь виллы.
Пригласили однажды выступить и Цветаеву. Она не отказалась: ведь это был, кроме всего прочего, случай немного заработать. Вечера организовывали так, что деньги за вход опускали в ларек-копилку…
К концу лета в Фавьер приехала Ариадна. Ее привез кто-то из друзей на машине.
Отношения дочери с матерью внешне были восстановлены, но глубокая трещина, образовавшаяся в прошлом году, постоянно давала о себе знать.
Але было уже двадцать три года. Но выглядела она много моложе, как некогда и мать, – никто не давал ей больше семнадцати. Родионова описывает ее сверкающую свежесть: «вся какая-то чистая, как новая куколка» и очень естественная, чем сильно отличалась от своих сверстниц. Ходила босиком даже по лесу и по каменистым тропам, совершенно не употребляла косметики. И босоножье очень ей шло – такая вот сказочная, светлая “принцесса-босоножка”».
С недавних пор именно рядом с дочерью Цветаева стала остро ощущать свою немолодость. Ей уже скоро сорок три, она упрямо не признает никаких косметических средств, а между тем смуглость ее лица приобрела желтизну, и в волосах заметно пробивается седина… И общительная, легкая, всегда оживленная Аля легко уводит от матери ее собеседников, редких в Фавьере…
К декабрю 1935-го относится эпизод, когда на вечере цветаевских стихов с Алей случайно знакомится Иван Алексеевич Бунин и после недолгой беседы в антракте, еще не зная, что это дочь Цветаевой, пригласит ее пообедать с ним завтра в домашней обстановке. Приглашение не отменяется и после выяснения, кто есть кто. А назавтра дочь с торжеством расскажет дома о любезности хозяина, предложившего ей на этот раз в следующее воскресенье вместе пойти в кинематограф… В письме к Тесковой Марина Ивановна грустно прокомментирует: «Ему – 67 лет, ей – 22, т. е. втрое. Что? Душа? (“Милая барышня”…) Ум? – Нет, двадцать лет».
Цветаеву в бунинский дом на обед не приглашают; с писателем у нее прохладно-дружеские отношения, и только с его женой Верой Николаевной – доверительные…
В августе 1936 года Цветаева с сыном живет под Фонтенбло в местечке Море-сюр-Луан. Здесь она неожиданно получает письмо, посланное из Швейцарии. Так зарождается еще одна переписка, схожая с той, какую в 1923 году в Чехии она вела с молодым критиком Александром Бахрахом.
Схожа, да не совсем. Годы привнесли в ее душевный мир ощутимый привкус горечи. Но реакции остались прежними – чуть ли не с младенчества они поражают Гулливеровскими масштабами.
Анатолий Штейгер в санатории
На этот раз корреспондент Марины Ивановны – поэт, у него уже вышли три сборника стихотворений. Он тоже молод, но все же старше Бахраха: ему только что исполнилось двадцать девять. Двенадцатилетним мальчиком родители вывезли его из России; отец его – барон фон Штейгер – был предводителем дворянства в Киевской губернии, и детство Анатолия Сергеевича прошло в родовом поместье на Украине.
Этой осенью Штейгер в Швейцарии – из-за вспышки туберкулезного процесса. Сначала в санатории, затем – в Берне, в клинике, где ему сделают операцию, потом снова в санатории.
Сохранилось тридцать цветаевских писем Штейгеру. И только одно ответное письмо. Плюс довольно длинная выписка из штейгеровского же письма, сделанная самой Цветаевой. Да еще обрывки фраз, на которые отвечает корреспондентка. Наибольшая частота писем падает на август-сентябрь. Октябрь-ноябрь не оставили нам писем – оба поэта в это время в Париже. И последнее цветаевское письмо помечено 30 декабря все того же 1936 года.
Как и в истории с Бахрахом, все напряжение чувств – с обеих сторон – приходится на «заочность». Едва «расстояния, версты, мили» сокращаются до реальной встречи – отношения обрываются. Но и в этом случае, как в случае с Бахрахом, инициатор разрыва – Цветаева. Хотя это и происходит как бы помимо ее воли. Если ничто не ново под луной, то равным образом ничто и не повторяется (Екклезиаста дополнил уже Кьеркегор). Несмотря на иллюзию сходства, в этой переписке – яркие неожиданности. И многомерная личность Цветаевой обнаруживает новые грани.
Бахрах был молод, здоров и благополучен. Анатолий Штейгер – тяжело и, как ему казалось, неизлечимо болен (он умер в 1944 году). И еще он был поэт, что в глазах Марины Ивановны означало принадлежность к обостренно чуткой и потому обостренно ранимой людской расе. И еще – он был одинок. И претерпел только что какую-то личную драму. Но и этого мало: Бахраха Цветаева до начала переписки не встречала, разве что мимо проходила на каких-нибудь литературных собраниях или в редакциях. Штейгер же сам подошел к Марине Ивановне на одном из ее литературных вечеров (видимо, то был 1932 год) и подарил свой поэтический сборник.
Да не просто подарил – надписал: «Великому поэту». И потом они раза два-три еще мельком виделись.
В письме, полученном в Море-сюр-Луан, Штейгер просил прощения, что не исполнил одну давнюю просьбу Цветаевой. И, видимо, пояснил свою грустную ситуацию. Марина Ивановна сразу откликнулась – и в ответ тотчас получила письмо-вопль, письмо-исповедь одинокого сердца на шестнадцати страницах. Не нужно усилий, чтобы представить себе реакцию читательницы этого письма. Все уже сказано было раньше в ее стихах:
- Не надо ее окликать:
- Ей оклик – что охлест.
- Ей зов Твой – раною по рукоять…
(Почему же – «оклик», «зов» и сразу уж «раною»? – спросит благоразумный читатель. Да потому, что вот так она от природы устроена – и наперед прекрасно знает, чем все это для нее обернется. Знает – и не может ничего предотвратить.)
Из Море-сюр-Луан вскоре Цветаева с сыном уехали – одолели дожди и сырость. И с начала августа поселились в Савойе. В том самом русском пансионате, где еще в 1930 году лечился больной Сергей Яковлевич.
Тогда Марина Ивановна жила в деревушке неподалеку, теперь она поселяется в древнем – XIII века! – замке д'Арсин. В начале тридцатых годов он был превращен его новыми хозяевами, выходцами из России, в «русский пансионат».
Замок д’Арсин. Савойя
Замок древний, но во Франции XX века от таинственности давних дней остались только стены. Да еще огромный гулкий чердак со сводчатыми готическими потолками, куда не доносились шумы снизу. Цветаеву, верную своей страсти к старине, совсем не радует модернизация жизни в замке – водопровод, электричество, современная мебель. И для собственного уединения она выбирает именно чердак, удаленный от прочих постояльцев, нечто вроде пещеры с крохотным оконцем и каменным полом – место, где сама пустынность создает для нее уют. Здесь слышны только «шумы времен»: ветер, дождь да легкое позвякивание колоколов на одной из башен замка.
- Уединение: уйди
- В себя, как прадеды в феоды.
- Уединение: в груди
- Ищи и находи свободу…
И она ощущает себя здесь – с наслаждением – именно в уединении «феода». Хотя внизу – сорок человек. Их она, кстати говоря, вовсе не обходит стороной: участвует в общих вечерах, прогулках или поездках. Но поездок в машинах она не любит. Ей нужны только сами горы, не знаменитые, без всяких названий. Она лазает по ним с ловкостью кошки, срывая орехи и любуясь растущими здесь гибкими нежными цикламенами. Ее уединенность понимают и уважают, отчета ни в чем не требуют.
В это лето Цветаева поглощена переводами Пушкина на французский язык. Она пытается продолжать начатое, но мысли о больном поэте чем дальше, тем больше лишают ее душевного равновесия.
Время от времени одиннадцатилетний Мур приносит матери почту:
– Письмо от Штейгера!
И Марина Ивановна умеет ответить ему независимым и спокойным голосом: «Ну вот и хорошо».
Между тем о спокойствии нет и помина.
Она пишет Штейгеру почти ежедневно, исполняя данное ему накануне операции обещание. Ее письма в течение полутора месяцев (когда состояние адресата было особенно тяжелым) по-матерински заботливы: подробности диагноза, температура, аппетит, сон, болевые ощущения – все ей важно. «Будьте другом, – просит она своего корреспондента, – напишите мне серьезно и подробно ‹…› все, что Вы о физическом себе знаете – и больше, чем знаете – узнайте, чтобы узнала – я». Помня, что в детстве Штейгер бывал в Петербурге и любил этот город, она разыскивает открытки с видами Петербурга и одну за другой пересылает их своему новому другу.
Перерывы в получении ответов она переживает столь же тяжело, как и в давние времена переписки с Бахрахом. Чего только она не надумывает в эти дни! Ее душевная боль всегда сплетена с физической. Она разбита, ей нечем дышать. Лишь пересиливая себя, она делает все, что необходимо. И так – с утра до вечера и каждый день. Весь август и весь сентябрь она сосредоточена на тревоге за молодого поэта. «Я все делаю (пишу, перевожу, читаю, хожу, говорю), – пишет она 31 августа, – ну меня ни одной мысли в голове нет, кроме тебя и твоего здоровья. Ты думаешь, я не писала “случайно”? Потому что чем-нибудь была “занята”? Мне это неписание стоило больших усилий, чем все мои писания, вместе взятые! Других усилий, другие мускулы работали, обратное…»
С того самого дня, когда она получила то исповедальное письмо на шестнадцати страницах, в ее воображении со стремительностью кинематографической ленты начинает разворачиваться очередная мечта о прекрасной «любви издалека» двух одиноких сердец. «Вы пробили мою ледяную коросту, – пишет Марина Ивановна Штейгеру, – под которой оказалась моя родная бездна – куда сразу и с головой провалились – Вы».
Как сладкоголосая сирена – спустя почти месяц с начала переписки, – она завораживает его картиной их встречи. «Я бы хотела быть с Вами совсем без людей, совсем одна в огромной утробе – замка – и нам прислуживали бы руки, как в сказке Аленький Цветочек. – Хочешь? – И я знаю, что к нам, привлеченные чистотой и жаром, пришли бы все прежние жители этого замка, все молодые женщины и все юноши ‹…› и все бабушки в чепцах и прадеды в халатах, и любили бы нас, и мы бы парили над ними и, в конце концов – незаметно – перешли бы к ним в стены и когда пришли бы другие – никого бы не нашли…
Я хочу с Вами только этого, только такого, никак не называющегося, не: сна наяву, сна – во сне, войти вместе с Вами в сон – и там жить…»
И вся эта ворожба имеет в виду – что? Всего-навсего двух-трехдневную встречу! Ту, в которой еще не успеет вступить в свои права ненавистный агрессивный быт. Ничего более не имеется в виду – и это чисто цветаевское представление о настоящем счастье. Такова ее странная для обычных представлений и тем не менее вовсе не выдуманная, а вполне реальная – по мощи сердечных волнений – любовь.
- Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе
- Насторожусь – прельщусь – смущусь – рванусь.
- О, милая! – Ни в снеговом сугробе,
- Ни в облачном с тобою не прощусь.
- И не на то мне пара крыл прекрасных
- Дана, чтоб на сердце держать пуды.
- Спеленутых, безглазых и безгласных
- Я не умножу жалкой слободы…
Эти строки в 1920-м написаны, но и в 1936-м еще звучат исповедально.
Между Штейгером и Цветаевой всего двадцать пять верст – и граница двух государств: Франции и Швейцарии.
Свой «нансеновский» паспорт Марина Ивановна оставила в В айве, и значит, она не может получить визу и не может навестить Штейгера – повидаться, поговорить не спеша. Возможность есть другая: с невероятными сложностями приехать к нему на какой-нибудь час. В Женеву из Савойи ходит туристский автобус – и в тот же день возвращается. Но Штейгер не в Женеве, и как ехать из Женевы в Берн с цветаевским «топографическим идиотизмом», если и в знакомом месте без провожатых она не способна найти дорогу? Да еще надо угадать часы приема, чтобы пустили в палату…
Кроме всего прочего, это означало бы видеться на людях, когда она уже не будет собой и встреча превратится почти что в светский визит… В довершение присоединяется и неуверенность: так ли уж ему-то нужна личная встреча?
Но ему было нужно – и безотлагательно! сейчас! – это отчетливо видно из тех обрывков его писем, на какие Цветаева отвечает. Это ее странной любви было достаточно каждодневных писем и разговоров на расстоянии, с надеждой на недолгую встречу – когда-нибудь. «Я-то – такой соловей, басенный, – пишет она своему корреспонденту 21 августа, – меня – хлебом не корми – только баснями! Я так всю жизнь прожила, и лучшие мои любови были таковы. ‹…› Я отлично умею без всего – и насколько мне отлично – с не-множким».
И еще она напишет ему о том, что уже в 1923 году было сказано в ее стихотворении «Заочность»: о преимуществах такой любви. «У меня такая сила мечты, – пишет она Штейгеру, – с которой не сравнится ни один автомобиль!»
Но Штейгер, измученный телесными и душевными недугами, жаждал в те дни живой встречи, живого разговора. Можно удивиться в очередной раз тому, что цветаевская безоглядность, этот водопад внезапной нежности не только не путают, но осчастливливают ее корреспондентов! По крайней мере, на первых порах. Даже в случае Бахраха, да и Штейгера, когда адресаты – люди совсем иного, чем она, склада, иной природы и привычек, и такая нежность им должна быть чуть ли не противопоказана! Но всякий человек на земле недолюблен; всякий уверен, что лучшего в нем люди не ценят, не замечают. И в итоге – чуть не каждый растоплен благодарным толчком в сердце, когда поток восхищения и заботы вдруг обрушивается на его голову.
Факт налицо: после девяти цветаевских писем, когда уже достаточно проявились все ее пресловутые «безмерности», способные среднестатистического мужчину перепутать насмерть, – 17 августа Штейгер укоряет свою корреспондентку: «У меня силы вашей мечты нет, и я без всякой покорности думаю о том, что мы живем рядом, а видеть и слышать я Вас не могу. От Вас до Женевы – час, от Женевы до Берна – два часа – и от этого трудно не ожесточиться ‹…›. Может быть, за 10 дней случится чудо и Вы приедете? Если хотите и умеете – до гроба Ваш…»
Это «до гроба Ваш» ошеломляет Цветаеву.
И ей приходится долго и трудно объяснять своему корреспонденту, отчего она, внутренне не расстающаяся с ним ни на час, приехать все-таки не сможет: и о паспорте, и о визе, и еще о сыне, которого ей не с кем оставить.
Сын! Вот где ее истинная болевая точка. Тут, а не где-нибудь, скрестились две разноприродные страсти. И что бы Цветаева ни объясняла, очевидно: здесь ее настоящее материнство. «Мой друг, – пишет она, оправдываясь перед Штейгером с довольно жесткими интонациями, – я – совсем старинная женщина, и не себе – современница, а тем – сто лет – и так далее дальше – назад. Породив детей (говорю о сыне, об Але – когда-нибудь расскажу) – я обязана его, пока он во мне нуждается, предпочитать всему: стихам, Вам, себе – всем просторам души моей. Фактически и физически – предпочитать. Этим я покупаю (всю жизнь покупала!) свою внутреннюю свободу – безмерную. Только потому у меня такие стихи. На этой свободе нам с Вами жить и быть. Наше царство с Вами – не от мира сего».
Поняв все же, что ее новому другу реальная встреча действительно необходима, Цветаева начинает обдумывать возможные варианты. Подробные, с обилием уточнений. Эти реальные детали – от расписания поездов до соображений о необходимости снять комнату – для нее тяжелы, утомительны, она тут попросту бестолкова. Наилучшим ей кажется вариант, при котором сам Штейгер, подлечившись, приедет к ней в Савойю. Она может подъехать поближе к железнодорожной станции и там найти приют для встречи.
Один план сменяется другим – где, когда, как? Но нетрудно заметить, что снова – точно также было в переписке с Пастернаком и Рильке! – она оттягивает и оттягивает сроки встречи. Она ее хочет – и столько же опасается. В середине сентября, перебрав разные возможности своего приезда к нему в санаторий, она вдруг сообщает: «Итак, мой родной, без нас решено: февраль».
Но от сентября до февраля – пять месяцев!
Ничто ничему ее не научило. Остановив вполне благоразумными доводами порыв Пастернака в 1926 году – приехать к ней во Францию, она уже никогда не узнала его любви. Оттягивая свой приезд к Рильке, – несмотря на его такое внятное: «Не откладывай до зимы!» – она таки не увидела его, не провела даже одного дня рядом…
Эта редкостная умница сама скажет в другом месте переписки тому же адресату: увы, душа ничему не научается. «От чего вы в жизни излечились, чему – научились? Ни от чего. Ничему. И вся я к Вам этому – живой пример». Но и собственная мудрость ей ни на йоту не помогает.
Она слишком вовлекается. Мощная стихия чувства – даже столь мало похожего на «обычную» любовь – втягивает в водоворот, где она быстро теряет ориентацию: борьба эмоций заглушает разумное знание.
В нескольких письмах, написанных, когда здоровье Штейгера уже пошло на поправку, Цветаева обращается к разбору штейгеровских стихов, – видимо, по его просьбе.
Как меняется ее интонация!
При всей заботливости и бережливости к больному другу Марина Ивановна неподкупно строга, едва речь заходит о поэтической работе. Никаких поблажек! Она анализирует стихи терпеливо, строка за строкой, она находит в них талант, но считает, что они много слабее потенциала, какой она ощущает в письмах поэта. Ее разбор временами резок, и все же бескомпромиссности оценок сопутствуют аргументация и самые конкретные, буквально построчные советы. Впрочем, не только конкретные.
«Почему Ваши письма настолько лучше Ваших стихов? Почему в письмах Вы богатый (сильный), а в стихах – бедный? ‹…› Почему Вы изгоняете все богатство вашей беды и даете беду – бедную, вызывающую жалость, а не – зависть? ‹…› Вам в стихах еще надо дорасти до себя – живого, который и старше и глубже и ярче и жарче того».
И в другом месте: «Отождествите поэта с человеком», «в этом назначение и победа стихов, чтобы каждый себя в них узнал, а не все. (Всех – нет, т. е. есть – и тогда нет никого.)»
Самое любопытное здесь – эта убежденность: стихи должны возрастать прежде всего на богатстве собственных испытаний, каковы бы они ни были. В том числе и на «богатстве беды»! В каждой жизненной ситуации есть свои безусловные козыри – для творчества…
Двенадцатого сентября отправлено наконец письмо, которое Марина Ивановна начала обдумывать с самого начала их переписки. Ее адресат был тогда слишком болен, чтобы обсуждать с ним непростые проблемы. Но из этого «слишком болен» она исходит в программном своем письме, поверив Штейгеру, что болезнь уже не оставит его до конца дней. Цветаева принимает это на веру тем легче, что в ее собственном жизненном опыте – туберкулез неоднократно возвращался у мужа и унес жизни матери, брата Андрея, любимой Нади Иловайской и ее брата Сережи. И вот, принимая реальность этой угрозы, Марина Ивановна стремится прежде всего спасти своего друга от отчаяния. Она хорошо помнит его слова в одном из первых писем – об омертвении души. Но не хочет прибегать к пустому утешительству. Она смотрит прямо в лицо беде – и призывает Штейгера к тому же.
«Примем это, – пишет она в длинном, много дней подряд рождавшемся письме, – и попробуем найти лечение неизлечимости, выход – из явного тупика». Она приводит примеры: вспоминает Эвальда – одного из героев Рильке, инвалида, обреченного наблюдать жизнь только из окна; вспоминает Марселя Пруста, добровольно заточившего себя в пробковой комнате ради возможности жить и работать… И подводит к выводу: «Бог дал Вам великий покой затвора, сам расчистил Вашу дорогу от суеты, оставив только насущное: природу, одиночество, творчество, мысль. ‹…› Мой друг, что Вы называете жизнью? Сидение по кафе… ‹…› Хождение по литературным собраниям – и политическим собраниям – и выставкам… ‹…› Итак – терпите. Живите у себя auf der Hohe (как я: in der Hohle[26]) – прорывайтесь эпизодическими «счастьями», «жизнью», – пусть это будут побывки, plongeons[27] – наглатывайтесь, нахватывайтесь – и возвращайтесь – в себя…»
Она думает о своем больном друге, ищет спасения – для него.
Но ее рецепт легко узнаваем.
Это – ее собственный способ существования. Ее способ – быть. Она сама в каком-то смысле – инвалид, непригодный для обычного существования. «Я – не для жизни», – сказала она о себе более десяти лет назад. И в ее сознании – это не трагично! А для поэта – чуть ли не благо…
Но опять-таки: Штейгеру всего двадцать девять…
Истосковавшийся без настоящего друга, уставший от белизны санаториев и снежных вершин, он хочет – это так естественно! – в гущу жизни, пусть призрачную, к впечатлениям города, пусть суетного и мельтешащего. Цветаева не может не понимать этого – и понимает. И все же пытается убедить в преимуществах «затвора», в сладости того отказа, который она сама исповедует.
Она слишком категорична.
Она бескомпромиссна, как тот античный бог, который требовал от Тезея ради высшего долга переступить через самого себя. Вспомним:
– То, чего я требую, – божественно!
– То, чего ты требуешь, – чудовищно!
Обретя собственное кредо, она плохо слышит других. Только так! Не иначе! Иные рецепты, пути, способы существования она не допускает и до обсуждения…
И когда Штейгер выбирает свое, другое, она уязвлена в самое сердце. Она чувствует себя чуть ли не оскорбленной.
Сплелось тут многое. Захлестнутая всегда бурным потоком собственных чувств и размышлений, она слишком часто не чувствует собеседника – вот этого живого, ни на кого не похожего. Ей всегда хочется «вести» – и даже поучать, причащать к своему миру, – вот еще почему так охотно она вживается в игровую ситуацию матери и сына. Но Штейгер был уже зрелым человеком – то был не двадцатилетний Бахрах! «Вы не знаете, что такое я…» – пытался он объясниться в самых первых своих письмах. Но онапочти обрывала его: «…каким бы Выни оказались, я буду любить Вас…», «меня хватит на двоих…» Слова эти продиктованы душевной щедростью – и уверенностью в себе. Но в живой жизни они готовят конец той сердечной дружбе, которая едва зародилась. Потому что, не выслушав, она не поймет потом, почему ее рецепты спасения окажутся для него непригодны. И чем в действительности вызваны его реакции. Она будет объяснять их почти нелепо, вдали от реальных причин – со своей колокольни.
«Вы хотите, чтобы вас любили не по-своему, а по-Вашему, не как умеют – а как не умеют…» – напишет она Штейгеру 15 сентября.
Но она могла бы сказать это и самой себе!
В тот день, 15 сентября, она написала последнее письмо из Савойи. Нельзя не заметить резкой разницы в интонациях его начала и конца. Вторая часть письма начиналась пометой:
«Тогда же, после почты».
Гул пробуждающегося вулкана явственно ощутим в дальнейшем тексте.
Какое именно письмо она получила в этот день по почте – неизвестно. Но основное его содержание восстанавливается по ответу. Ясно, что Штейгер сообщал Марине Ивановне о принятом решении: он едет не в Савойю, а в Париж.
Этот вариант она и сама предлагала: сначала они встретятся в Париже, а потом поедут в Швейцарию вместе – Штейгер собирался возвращаться в санаторий. Цветаевой же, в результате ее сложных хлопот, уже обещали устроить выступления в трех швейцарских городах.
Но что-то еще было в том письме Штейгера, что лишило Марину Ивановну душевного равновесия. С уверенностью можно реконструировать по крайней мере два момента. Во-первых, Штейгер написал нечто о монпарнасских кафе, где за десятой чашкой кофе в третьем часу утра, в компании Адамовича и прочих он надеется по-настоящему воскреснуть. И во-вторых, что он по-прежнему чувствует себя «мертвым».
После всех ее усилий! Когда все дни напролет почти два месяца она думала только о нем и так старалась помочь! Наверное, было бы справедливее обвинить саму себя: не сумела, не нашла нужных слов, не приехала… Но Цветаева услышала иное: ее помощь отвергнута, ее советы не приняты, она больше не нужна. Монпарнасские кафе – вместо «затвора»! Растрачивание души и здоровья – вместо служения призванию?..
И ответ ее звучит впервые в этой переписке в непривычно жестких тонах. «Если Вы – поэтический Монпарнас – зачем я Вам? – написала она в ответ. – От видения Вас среди – да все равно кого – я – отвращаюсь. Но и это – ничего: чем меньше нужна Вам буду – я (а я не нужна, когда нужно такое, Монпарнас меня исключает), тем меньше нужны мне будете – Вы, у меня иначе не бывает и не может быть: даже с собственными детьми: так случилось с Алей – и невозвратно. ‹…› Я – это прежде всего – уединение. Человек, от себя бегущий – от меня бежит. ‹…› Поскольку я умиляюсь и распинаюсь перед физической немощью – постольку пренебрегаю – духовной. “Нищие духом” не для меня. ‹…› На все, что в Вас немощь – нет. Руку помощи – да, созерцать вас в ничтожестве – нет…»
Кафе на бульваре Монпарнас
Еще более ужасное письмо она, слава богу, не отослала. Но и отосланное оказалось для Штейгера сильнейшим ударом. Весь этот водопад презрительных фраз имел истоком непереносимую боль, прорезавшую ее сердце. Все красноречие обличений выросло из слишком горячей ее вовлеченности – и рассыпалось бы в одно мгновение, если бы в ответ она услышала: «Вы мне нужны. Вы дороги и необходимы мне по-прежнему. Простите меня, я просто – другой».
Он не догадался. Редкий собеседник слышит не просто слова, а и то, что за ними. Для такого нужны душевные глубины. Райнер Мария Рильке был таким собеседником Марины Цветаевой. Он-то знал, откуда рождаются слишком резкие ее слова, – и откликался на ту боль, какая их вызвала…
Чувство сердечной заброшенности, с которым она так давно живет, душевной пустыни, любовной пустыни – вот где была собака зарыта. Рушилась очередная ее надежда: вырваться из этой мерзлоты, казавшейся уже вечной.
(С каким болезненным удовольствием иные из моих современников потрясают горчайшим письмом Эфрона Волошину, 1923 года! Об увлечениях Цветаевой, сменявших друг друга. О том, что на растопку жара души ей постоянно нужны были дрова.
Они хотели бы – холодные судьи чужих сердец, – чтобы, живя в браке, в котором давно уже нет горения чувств, она и себе самой не признавалась бы, что в этой пустыне она – умирает…)
Мертвой ощущал свою душу не только Штейгер. И Цветаева – в своем варианте.
С момента разрыва с дочерью она живет в холоде отчетливого ощущения: никому не нужна. Муж практически отъединился, ушел в свою собственную жизнь – общественную и личную. Дочь разорвала сердце, не просто уйдя из дому, но пронзив мать презрительными словами, которых не хватит жизни – забыть.
Год назад бесследно развеялась иллюзия сердечной связи с Пастернаком. В Париж он приехал больным, никем и ничем не интересующимся, да еще повторяющим несусветную чушь о колхозах…
И почти что из воздуха сердце ее создало очередную иллюзию. Пронзительные строки возникли под ее пером здесь, в Савойе:
- Наконец-то встретила
- Надобного – мне:
- У кого-то смертная
- Надоба – во мне.
- Что для ока – радуга,
- Злаку – чернозем –
- Человеку – надоба
- Человека – в нем.
- ……………………………
- И за то, что – с язвою
- Мне принес ладонь –
- Эту руку – сразу бы
- За тебя в огонь!
Семь прекрасных стихотворений написаны за месяц этой переписки. Штейгер был потрясен, получив их, но – увы! – нашел для отклика всего несколько слов: «Мне – такие стихи… Впрочем, все Ваши письма были как эти стихи…»
Сохранился его ответ как раз на последнее цветаевское письмо из Савойи. То, что было похоже чуть ли не на пощечину. Ответ Штейгера мерцает болью, прежним благоговейным уважением, но и чувством неколебимого достоинства.
«Да, Вы можете быть, если захотите – ледянее звезды, – писал Анатолий Сергеевич. – Я всегда этого боялся… ‹…› Объясняю это себе тем, что в моих письмах Вы читали лишь то, что хотели читать. Вы так сильны и богаты, что людей, которых Вы встречаете, Вы пересоздаете для себя по-своему, а когда их подлинное, настоящее все же прорывается, – Вы поражаетесь ничтожеству тех, на ком только что лежал Ваш отблеск, потому что он больше на них не лежит…»
Подлинная причина непримиримой цветаевской вспышки наиболее проясняется из не отправленного ею письма: «Вы едете к Адамовичу и К°, к ничтожествам, в ничтожество, просто – в ничто, в богему, которая пустота большая, чем ничто: сгорать ни за что – ни во чью славу, ни для чьего даже тепла – как Вы можете, Вы, поэт!»
Вот откуда эта буря в цветаевском письме! Не просто в Париж, а к Адамовичу собрался ее новый друг, едва окрепнув. Не в Савойю или Ванв – «быть», а в те самые монпарнасские кафе – «жить», то есть встречаться с тем и теми, кто во всех своих человеческих и литературных пристрастиях был законченным антиподом Цветаевой! Тут Штейгер сам проявил по отношению к своей корреспондентке вполне медвежью деликатность: он превосходно знал, что значило для Цветаевой имя Адамовича. Получалось, что он решил «ожить» душевно в компании человека, который не уставал досаждать Цветаевой чуть не все годы ее чужбины упорным принижением всего, что она создавала…
И все-таки она слишком спешила со своим диагнозом и приговорами.
Реальную почву трагедии Анатолия Сергеевича она угадает не скоро. Ибо Штейгер – из «голубых». Как Волконский, как Иваск, как Адамович. Если бы она поняла это раньше, ее хватило бы на снисхождение – какое она обнаружила, например, спустя два года в письме к Иваску, когда догадалась о той же его «беде». Тогда, скорее всего, смягчилась бы боль в ее сердце. Ибо не просто на Монпарнас он стремился, не к прожигателям ночей за столиками кафе, а все-таки и в круг себе подобных. Там он надеялся найти настоящего друга – и опору.
В Париже они еще увидятся. Сердце Марины Ивановны не так-то легко избавляется от привязанностей. Она еще познакомит – письменно – Иваска и Штейгера, и их дружба станет радостью для обоих. Но горечь такого конца изжить ей не удастся.
Какой, однако, великолепный афоризм она создает, осмысляя крах очередной иллюзии: «Дать можно только богатому, и помочьможно только сильному»…
Не столь уж важно, насколько он был справедлив по отношению к поводу, его родившему.
Первого января 1936 года без четверти пять утра, проведя в одиночестве новогоднюю ночь, подводя итоги году прошедшему, она, среди прочего, запишет в своей тетради: «…Самочувствие? Тюремное – без бунта. Но и без величия одиночного заключения. Равнодушие – приблизительно ко всему ‹…› Стихи? Все чувства иссякли, кроме негодования и горечи. Нет друзей, нет любви, нет перспективы…» И опять, и еще, и снова – о «невстрече» с Пастернаком…
Глава 8
Капкан
Термин «возвращенчество» возник в 1925 году.
Он оказался связан с именами четырех талантливых русских публицистов, выступивших осенью 1925 года с призывом «засыпать ров» между эмиграцией и Россией. То были А. В. Пешехонов, бывший редактор толстого дореволюционного журнала «Русское богатство», известная публицистка Е. Д. Кускова, ее муж экономист С. Н. Прокопович и писатель М. А. Осоргин. Свои идеи они выдвинули в связи с истекшим официальным сроком трехлетнего изгнания из СССР в 1922 году известной группы писателей, ученых и общественных деятелей. Теперь, считали «возвращенцы», настало время вернуться домой: долг русского интеллигента – разделить со своим народом все испытания.
Роман Гуль в книге «Я унес Россию» привел убедительные свидетельства того, что уже это выступление первых «возвращенцев» было искусно инициировано Дзержинским – через Екатерину Пешкову, возглавлявшую в эти годы Красный Крест, которой все доверяли и которая сама с простодушным доверием попалась на удочку. Ей и в голову не могло прийти, что все затеяно вовсе не ради возвращения высланных, а ради внесения смуты в умы и сердца эмигрантов и дробления русской эмиграции.
План ГПУ удался: резкие обвинения обрушились на головы злополучных публицистов с первых же их «возвращенческих» публикаций.
На этой волне и был создан «Союз возвращения». С самого начала он был связан с советскими организациями во Франции. Но только в тридцатых годах обрел заметный авторитет. К середине тридцатых деятельность его получила широкую известность в эмигрантских кругах.
С 1932-го по 1937 год председателем «Союза» был Е. В. Ларин. В 1937-м Ларина перевели на работу в Советский павильон Всемирной выставки, открывшейся в Париже, – павильон сразу же стал плацдармом активнейшей деятельности советских спецслужб. Теперь председателем «Союза» стал А. А. Тверитинов. Ларин и Тверитинов позже вернулись на родину – и оба оказались репрессированными. Эфрон не возглавлял официально «Союз»; он был в нем весомой, может быть даже и главной, но теневой фигурой.
Иностранный отдел НКВД вербовал тонко и деликатно. Неизменно обставляя свои предложения «благороднейшими» целями. И – что очень важно! – не пугая прямой, а тем более чрезмерной оплатой людей того жертвенного и альтруистического склада, к которому принадлежал, скажем, Эфрон. Достаточно перечесть письма Цветаевой и мемуарные свидетельства тех, кто близко знал ее быт в тридцатые годы, чтобы удостовериться: бюджет семьи еще и в 1935 году оставался крайне напряженным, а временами и катастрофическим.
Сергей Эфрон. 1930-е гг.
Одно из первых предложений сотрудничества было сделано Эфрону неким обаятельно мягким интеллектуалом из числа советских служащих в Париже, во время одного доверительного разговора.
Он вдруг предложил помощь в субсидировании какого-нибудь евразийского издания – о, конечно, без всякого вмешательства в дела редакции!..
Постепенность, неторопливость в плетении паутины, продуманный отбор «случайно» подворачивающихся собеседников – кто сочинял все эти спектакли-ловушки? Кто обучал лицедеев, кто разрабатывал режиссуру? Исторически несправедливо, что до сих пор нам неизвестны имена московских виртуозов, сумевших одурманить не только доверчивого Сергея Яковлевича, но и таких маститых волков политики, как Шульгин и Савинков…
Прекраснодушие Эфрона, соединенное с острым чувством вины перед родиной, незаметно вывело его на путь нравственного разрушения. Чем дальше, тем больше его способность к независимым суждениям сдавала свои позиции. Можно было бы сказать, что это лишь доказало невысокий уровень самостоятельности его суждений. И слишком легко управляемое нравственное чувство. Наверное, это так.
Но этим и интересен нам феномен Эфрона.
Мы размышляем, вглядываясь в его судьбу, не просто о муже знаменитой Марины Цветаевой.
Прослеживая перипетии его эволюции, мы думаем о многих и многих, позволивших уговорить свою совесть – и шаг за шагом отучавшихся трезво оценивать происходящее. Ступенька за ступенькой они спускались по лестнице оправдания зла – вплоть до соучастия в нем.
Внешне «Союз» был закамуфлирован под культурную организацию.
В нем и на самом деле велась разнообразнейшая культурная работа. В Латинском квартале Парижа, на улице Де Бюси, в нескольких комнатах второго этажа почти каждый вечер «возвращенцы» собирались то на очередной семинар, то на лекцию, то на занятия в хоровом кружке.
Воскресные собрания были посвящены современной советской культуре. В библиотеке «Союза» можно было подписаться – на льготных условиях! – чуть ли не на все советские издания. В читальном зале были представлены свежие номера советской журнальной периодики, в том числе и иллюстрированные.
Устраивались выставки русских художников, живших во Франции. А также просмотры новых советских кинофильмов. Ленты Пудовкина, Довженко, братьев Васильевых, Герасимова, Эйзенштейна пользовались ошеломляющим успехом, их крутили по многу раз. Проходили здесь и шахматные турниры. Активнейшим образом работала театральная студия. Ставили «Свадьбу» Михаила Зощенко, «Мильон терзаний» Валентина Катаева, иногда к праздникам сами писали тексты и разыгрывали шуточные сцены. Однажды в веселом водевиле «Осьмнадцатая весна», текст которого к юбилею Октября сочинил Алексей Эйснер, Ариадна Эфрон исполнила роль девицы на выданье по имени Эмиграция Кирилловна, и вокруг нее клубились разного рода евразийцы, малороссы и прочие претенденты.
Поразительно: при своих крайне скромных доходах «возвращенцы» умудрялись подписываться на советские займы и собирали деньги на строительство советских самолетов-гигантов. Так, 1 июля 1935 года они перечислили в фонд постройки таких самолетов – на адрес редакции газеты «Правда» – три тысячи франков…
В одной из комнат «Союза» располагалась редакция журнала «Наш Союз». Редакторы время от времени сменялись. Несколько лет подряд вел журнал Эфрон. Сотрудничала в редакции и дочь Цветаевой – Ариадна.
Эфрон был завербован советскими спецслужбами в 1932 году – как легко догадаться, в ответ на просьбу о возвращении в Россию.
Логика его согласия обычно излагается упрощенно: бывшему белогвардейцу предложили делом искупить свою вину перед советским государством…
Но если знать Сергея Яковлевича несколько лучше – хотя бы ту статью «Эмиграция», которая ранее цитировалась, – тогда каких-то важных звеньев для понимания его перехода от одного к другому явно не хватает. Прыжок получается, а не переход.
Обозначим эту лакуну. Может быть, найдутся еще свидетельства и документы, которые заполнят ее не упрощенным, а реальным содержанием. Мифы нам больше не нужны, в том числе и советские мифы о «всеобщей продажности» за собственное благополучие.
Что знал он о спецслужбах, вступая на роковую первую ступеньку лестницы, ведущей вниз?
И знал ли вообще, на что именно согласился, куда именно вступил? Ибо похоже на то, что поначалу хватило просто согласия на сотрудничество. Хочешь вернуться – помогай советской власти! Здесь, за ее рубежами, у нее много врагов, дела хватит всем. И вот совсем невинное, даже заманчивое задание: реорганизуй «Союз возвращения»! Объедини в нем тех, кто тоже хочет вернуться на родину, – и помоги им заслужить доверие.
Мне приходилось встречаться с бывшими «возвращенцами».
Они в один голос рассказывали, каким теплым домом стал для них «Союз» к середине тридцатых годов. В общении с единомышленниками здесь отогревались одинокие сердца заброшенных на чужбину людей. Тех, у кого ностальгия заглушала все трезвые и предостерегающие голоса. Тут царила такая дружелюбная, даже веселая атмосфера, что вечерами ноги сами вели эмигрантов на эту узенькую уютную улочку Они получали здесь наслаждение уже от самого звука русской речи. В этом пространстве, облученном доброжелательством и тоской, советские газеты и журналы в мощном содружестве с талантливыми фильмами (так наглядно свидетельствовавшими о торжестве самых справедливых идей на их родине) делали свое дело. «Чапаев», «Путевка в жизнь», «Семеро смелых», «Веселые ребята», «Цирк»… А еще были замечательные перелеты советских летчиков. А еще – построенные Днепрогэс и Магнитка… Статьи и фотографии о них в советских журналах. Кипучая плодотворная энергия – там, чувство хозяина жизни – там, в то время как здесь, на Западе, гниль и бесперспективность. И неизбывное ощущение «метека», чужака.
Правда, эмигрантская «Иллюстрированная Россия» публиковала фотографии вымерших от голода украинских деревень, статьи в других эмигрантских журналах приводили данные о заключенных, погибших на строительстве Беломорского канала. И из России шли сдержанно-кислые письма от ранее уехавших…
Но чары любви и веры броней закрывали от сомнений русских, истосковавшихся на чужбине.
Почти все эмигранты, которых удалось влить в свои ряды советским спецслужбам, вышли из «возвращенцев».
За полгода до страшной осени 1937 года Цветаева написала эссе «Пушкин и Пугачев». Посвящено оно теме как будто сторонней: речь идет здесь (поначалу, во всяком случае) о Пугачеве – герое пушкинской «Капитанской дочки». Но меня не перестает занимать вопрос, чем именно вызвана к жизни эта работа, почему из всего пушкинского наследия именно эта проблема оказалась выбрана для размышлений?
Сама Цветаева обозначила ее как тему «чары», застилающей сознание, «чары», заставляющей сквозь все злодейства видеть в предмете любви лишь «оборот добра». Так с детских лет она сама любила пушкинского Путачева-Вожатого, с его «загадкой злодеяния и чистого сердца».
Зло с добрым ликом и добро со злыми проявлениями – это сочетание, утверждает Цветаева, есть великая обольщающая сила, сопротивляться которой чрезвычайно трудно.
Ее ассоциации всегда придают наблюдениям объемную многозначность, тяготеют к размышлениям над закономерностями самого бытия. Но, поглядывая на дату написания эссе, трудно отделаться от впечатления, что в «Пушкине и Пугачеве» нашли свое отражение раздумья автора над тем, что происходило вокруг в середине тридцатых годов XX века.
Очень непросто с высоты сегодняшних наших знаний о кошмаре, исподтишка захватившем Страну Советов к середине тридцатых годов, понять горячий энтузиазм «левой» интеллигенции Запада, в массе своей подпавшей под советскую пропаганду. Успехи социалистического строительства ей представляются неопровержимыми; кроме того, СССР видится единственным в мире надежным оплотом борьбы с наглеющим день ото дня немецким фашизмом. Для нас теперь уже очевидно глубинное родство гитлеровского и сталинского режимов – но можно перечислить по пальцам тех, кто догадывался об этом тогда.
Гитлеровский режим был откровенно агрессивен, сталинский – медоточив и виртуозно лжив. Лицо и изнанка сталинского режима были столь противоположны, что человек обычной психики отказывался в это верить.
Подпитка странных нам сегодня иллюзий шла из жестокой реальности стран, пораженных многие годы подряд глубочайшим экономическим кризисом. То, что здесь все шло из рук вон безнадежно плохо, – было очевидно. А вот там… Смотрите их фильмы, читайте их газеты, их речи! Они выбрали себе путь, непохожий на наш европейский, – и может быть, именно там – правда?..
Когда в Москве начались известные политические судилища, процессуальные странности бросались в глаза. Чудовищны были публиковавшиеся в московских газетах коллективные письма-требования трудящихся «стереть с лица земли» «врагов народа». Но даже милюковские «Последние новости» писали, что обвинения против Каменева и Зиновьева при всех нелепостях звучат убедительно!
Что же говорить о тех русских эмигрантах, которые жили мечтой о возвращении на свою землю!
«С. Я. совсем ушел в Советскую Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет», – говорила Цветаева о муже.
Но таких, как Эфрон, множество: в приемные дни в советском посольстве на улице Гренель с середины тридцатых годов не протолкнуться! Число прошений о возвращении растет с каждым днем.
Андре Жид, горячий энтузиаст сближения с СССР, предпринял летом 1936 года поездку по Стране Советов. Вернувшись, он попытался отрезвить западных «левых», предостеречь их от идеализации процессов, происходящих в России. Однако его книга «Возвращение из СССР», написанная после поездки писателя, не возымела убедительного воздействия. «Клевета! Предательство! Он ничего не понял!» – так говорят в кругах французских интеллектуалов.
И так же – в кругу ближайших друзей Сергея Эфрона.
Собираясь вечерами вместе на улице Де Бюси, в «Союзе возвращения», они поют советские песни. Одна из самых популярных в эти годы – «Не спи, вставай, кудрявая; в цехах звеня, страна встает со славою навстречу дня…» – из кинофильма «Встречный», музыка Шостаковича.
С началом гражданской войны в Испании в 1936 году Сергей Яковлевич принимает активнейшее участие в формировании интернациональных бригад, отправлявшихся на помощь республиканцам.
Русским эмигрантам обещают, что участники войны получат право сразу же вернуться на родину. Эфрон сам рвется в Испанию, однако ему этого не разрешают. Разрешили Константину Родзевичу. (Который, кстати говоря, в Россию так и не вернулся.)
Был ли вообще Эфрон в Испании? Адъютант Мате Залка Алексей Эйснер решительно отрицал это. Приезжая из Испании на короткое время в Париж, Эйснер встречал там Эфрона, с которым был дружен. Они много говорили об испанских делах – но и только.
Существуют, однако, другие свидетельства. Так, сосед Эфрона по Ванву Кирилл Хенкин в своей книге «Охотник вверх ногами» приводит один очень уж конкретный факт: когда на вербовочном пункте в Париже, на улице Матюрен Моро, Хенкина отказались без рекомендации зачислить в ряды добровольцев, уезжавших в Испанию, Сергей Яковлевич сумел ему быстро помочь. И тут же предложил заняться в Испании делом «поинтереснее, чем просто стрелять из окопов». По поручению Эфрона через несколько дней Хенкин встретился уже в Валенсии в восьмиэтажном отеле «Метрополь» с А А Орловым, руководителем оперативной группы НКВД в Испании. Группа была занята, в частности, выявлением «троцкистов» и «врагов народа» на испанской территории.
Уже сам факт такой связи: Эфрон – Орлов указывает на то, что в 1937 году Сергей Яковлевич был человеком, облеченным доверием сотрудников иностранной службы НКВД.
Имея это в виду, можно прислушаться и к другим, теперь уже не поддающимся проверке свидетельствам: знакомый Эфрона Ян Артис утверждал, например, что не раз встречал Сергея Яковлевича в Испании и что тот мог бывать там с заданиями столь секретными, что о них он не стал бы распространяться при встречах в Париже даже с самыми близкими друзьями. Это возможно.
Помощь Испании официально запрещена французским правительством. Вот почему Эфрон, продолжая заниматься отправкой интербригадовцев в республиканскую армию, делает это под некоторым покровом секретности – не слишком распространяясь на эти темы.
В том числе и дома.
Еще со времен увлечения Сергея Яковлевича «евразийством» Цветаева дистанцировалась от деятельности мужа. Она знает, конечно, о его работе в «Союзе возвращения»; мало того – изредка она и сама выступает там с чтением своих стихов. Знает – в общем и целом – и о его «испанских» делах. Но много лучше всё это знают дети – Ариадна и Мур. Дочь давно во всем на стороне отца, но и в воспитании подрастающего сына Марина Ивановна терпит полное фиаско. В дневнике шестнадцатилетнего Мура – признание: «Когда я жил в Париже, я был откровенным коммунистом. Я бывал на сотнях митингов, часто участвовал в демонстрациях ‹…› отца редко видно дома, приходит он поздно, усталый ‹…› поглощен испанскими делами, это вершина его деятельности, он проявляет чудеса изобретательности в делах. Мать об этом ничего не знает, живет своей жизнью…»
Тщетно Цветаева пытается препятствовать втягиванию детей в политические страсти. Гуманизм и фанатизм, считает Марина Ивановна, существуют на разных полюсах и никому еще не удалось их совместить. Она пишет об этом в одном из писем к Анне Тесковой. О том же, по существу, сказано и в ее очерке о Волошине: о всякой партийности как «вещи заведомо не человеческой, не животной и не божественной, уничтожающей в человеке и человека, и животное, и божество».
Семейные связи не разорваны окончательно, но скреплены они теперь крайне слабо. Сергей Яковлевич месяцами живет вне дома.
Между тем задания, поручаемые ему, приобретают все более зловещий оттенок.
В 1936 году его «культурная миссия» по существу прекращается – Сергея Яковлевича бросают на борьбу с международным троцкизмом. Во всяком случае, есть подтверждение его участия в нашумевшей в ноябре 1936 года истории с похищением архивов Троцкого в Париже. Из парижского отделения Амстердамского международного института социальной истории исчезают несколько (по одной версии – пятнадцать, по другой – около сорока) пакетов, привезенных незадолго до того сыном Троцкого Седовым. Пакеты так и не удалось обнаружить – равно как и исполнителей акции.
А с конца того же 1936 года Эфрону поручено организовать слежку за Львом Седовым.
К тому, что подтвердили теперь материалы полицейских архивов Гуверовского института социальных проблем в Калифорнии, а также архивы нашего КГБ, присоединяется выразительный эпизод из воспоминаний Владимира Сосинского.
Давний и близкий знакомец семьи Эфрон, Сосинский работал во франко-славянской парижской типографии, находившейся на улице Менильмонтан. В типографии этой, в частности, набирался известный «Бюллетень оппозиции», редактируемый и издаваемый Троцким. В связи с чем туда нередко приезжал Седов, заправлявший в Париже всеми делами отца. И однажды Эфрон попросил разрешения у Сосинского – приехать в типографию тогда, когда там будет Седов, чтобы хоть издали взглянуть на сына знаменитого оппозиционера.
Просто из любопытства.
Сосинский сумел это организовать.
И Эфрон не только увидел Седова, но и попытался, изображая из себя журналиста, взять у него интервью. Однако потерпел фиаско – перед его носом закрыли дверь.
Можно догадаться, что по делам службы Сергею Яковлевичу необходимо было увидеть в лицо того, кого ему теперь предстояло «опекать». Это, впрочем, всего лишь предположение…
Наконец, еще одно. В воспоминаниях Дмитрия Сеземана упоминается поездка с матерью и отчимом в Норвегию, тоже в 1936 году. Поездка была очередным поручением секретных советских служб – с целью проверить, где именно живет Лев Давидович.
Так вот: билеты для путешествия доставил им тот же Эфрон… Так, во всяком случае, утверждает Дмитрий Сеземан.
Первой из семьи вернулась на родину Ариадна. Можно уверенно предположить, что полученное ею от советских властей разрешение на въезд в СССР было, по сути своей, вознаграждением за безупречную службу отца – и аванс за будущую.
Но и сама Аля приложила к тому немало собственных усилий. К середине тридцатых годов она не только стала активисткой в «Союзе возвращения», но и сумела организовать при нем молодежную группу. И играла в ней видную – если не руководящую – роль.
К этому периоду относится сближение Ариадны с Верой Сувчинской, уже влившейся к тому времени в ряды сотрудниц советских спецслужб за границей. Сближение страшно огорчало Марину Ивановну, ибо Вера Александровна активно вовлекала в политику свою младшую подругу.
Аля незадолго до отъезда в СССР на берегу Сены