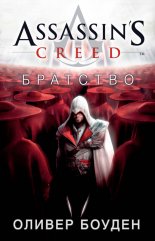Марина Цветаева: беззаконная комета Кудрова Ирма
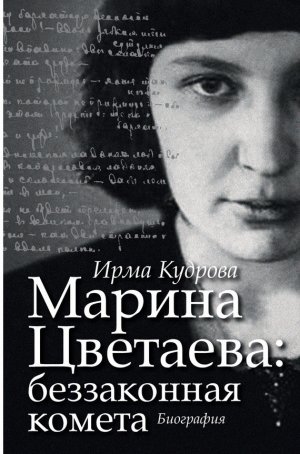
Письмо к Вере Буниной, повествующее об этом эпизоде, снова полно отчаяния. При отчужденных отношениях с самим Буниным, Марина Ивановна вынуждена пересилить себя: «Не вступился ли бы за меня Иван Алексеевич, разъяснив Демидову, что я все-таки заслуживаю одного термового фельетона (хорошо бы двух!). Что так делать – грех. Что нельзя, без объяснения причин, от чистейшей подлости обрекать настоящего писателя – на нищенство и попрошайничество (да никто уже и не дает!). Либо, если И. А. так – неудобно, пусть бы запросил Демидова, почему меня никогда не печатают, – что у меня все же есть читатель, что я, наконец, стою чего-то…»
«Никогда не печатают» – это сказано все-таки от горечи; время от времени ее в «Последних новостях» теперь печатали. Но скольких других, имена которых навеки канули в Лету, публиковали на страницах литературного «четверга» гораздо чаще!
Бунин, не переносивший стихов Цветаевой, прозу ее ценил. И, видимо, вмешался. «Китаец» вскоре был опубликован, деньги выплачены, долги розданы.
Но сходные ситуации возникали не раз и не два. За несколько месяцев до упомянутого инцидента Цветаева прямо на глазах сотрудников той же редакции не смогла удержаться от вдруг хлынувших слез – и только тогда получила в руки собственный гонорар.
Легко представить себе, каково было снова и снова гордой Марине Ивановне переживать унижение, из последних сил укрощая независимый и строптивый нрав, чтобы не сорваться и не высказать всего, что накопилось, в лицо своим мучителям. «У меня уже сердце кипит, – писала она Буниной, – и боюсь, что кончится пощечиной полной правды – т. е. разрывом».
Так и случилось в начале следующего, 1935 года. Не выдержав четырехмесячного переноса с недели на неделю статьи о погибшем поэте Николае Гронском, превосходно понимая, к чему приведет «пощечина полной правды», Цветаева все-таки написала резкое письмо Демидову – и ее отношения с редакцией газеты закончились уже навсегда. Последней публикацией в «Последних новостях» оказалась проза «Сказка матери», искаженная до неузнаваемости. «Сокращено в сорока местах, – сообщала Цветаева Тесковой 18 февраля 1935 года, – из которых – в 25-ти – среди фразы. Просто – изъяты эпитеты, придаточные предложения и т. д. Без спросу. Даже – с запретом, ибо я сократить рукопись – отказалась. ‹…› И вдруг – без меня. Я, читая, плакала…»
С высоты времен кажется поразительной эта хладнокровная редакторская расправа с текстом профессионального писателя, проза которого получила восхищенный отклик не только в парижских, но и в самых отдаленных уголках русского зарубежья. Впрочем, Демидов наверняка об этом и не знал.
А ведь первая половина 1934 года по праву могла бы считаться триумфальной для Марины Цветаевой! Публикации шли одна за другой. И какие! В трех номерах «Современных записок» подряд – проза: «Живое о живом», «Дом у Старого Пимена», «Пленный дух»; в журнале «Встреча» – проза «Открытие музея» и «Хлыстовки» – и поэтические циклы – «Стол» и «Ici-haut»[22]; в очередном сборнике «Числа» – эссе «Два “Лесных Царя”».
- Не меньше, чем пол-России
- Покрыто рукою сей! –
шутила сама Цветаева. Парадоксально: при этом ее не покидает ощущение неизрасходованной подавленной силы…
Но если в глазах критиков масштаб цветаевского таланта был уже неоспорим, то для бронезащитной природы редакторов это не было столь очевидно. Их равнодушие пересиливала временами разве что опаска перед самой Мариной Ивановной. Ее независимый нрав, колючий холод, который она ощутимо источала, когда приходилось вступать в прямой контакт с литературными вельможами, да еще беспощадно острый язычок, не останавливавшийся ни перед какими авторитетами, – это было уже хорошо известно в «русском Париже».
На юбилейной фотографии сотрудников и авторов сборника «Числа», сделанной летом 1934 года в честь выхода десятого номера, Цветаевой мы не увидим – хотя в двух номерах из десяти были опубликованы и ее произведения. Вряд ли это случайно…
В «Современных записках», главном журнале русского зарубежья, ее стихи если и принимаются, то идут в общей подборке, слепым сплошняком, завершая алфавитную очередность поэтов: редакция очень заботится о том, чтобы никого не обидеть. «Мы хотим, чтобы на шести страницах было двенадцать поэтов», – пояснял Цветаевой позицию журнала один из пяти его редакторов В. В. Руднев; именно с ним Марине Ивановне всегда приходится иметь дело.
Шесть страниц на поэзию из почти пятисот страниц всего журнала – и ни одной больше, явись хоть Державин или Блок с того света. И потому здесь не принимают не только поэм, но даже поэтических циклов. Только одно стихотворение! И не в каждый, конечно, номер.
За цветаевскую поэзию пытался заступиться поэт Алексей Эйснер. Придя впервые к Марине Ивановне в гости и воочию увидев уровень ее житейского неблагополучия, он чуть ли не на следующий день помчался в «Современные записки», чтобы задать там гневный вопрос:
– Как случилось, что стихи такого замечательного поэта почти не появляются в крупнейшем журнале русского зарубежья? Кого, как не Цветаеву, печатать? Почему в поэтическом отделе публикуют из номера в номер посредственные стихи, а то и просто рифмованные строчки, а одного из лучших поэтов обрекают на нищенство?
– Вы совершенно правы, – отвечал Алексею Владимировичу Бунаков-Фондаминский, один из редакторов журнала. – Цветаева действительно несравненный поэт. Но что же делать, если эмигрантским барышням нравятся совсем другие стихи – попроще?..
«Стихов моих, забывая, что я – поэт, нигде не берут, никто не берет – ни строчки. “Нигде” и “никто” называются Последние Новости и Современные записки – больше мест нет, – пишет Цветаева Анне Тесковой. – Предлог – непонимание меня, поэта, – читателем, на самом же деле: редактором, а именно: в Последних Новостях – Милюковым, в Современных записках – Рудневым, по профессии – врачом, по призванию – политиком, по недоразумению – редактором (NB! литературного отдела). “Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно”…»
«Пишите понятнее, Вас нелегко воспринимать, ориентируйтесь на среднего читателя», – отечески советовал Цветаевой В. В. Руднев. «Я не знаю, что такое средний читатель, – парировала Марина Ивановна, – никогда его не видела, а вот среднего редактора я вижу перед собой…»
Как всякий «средний редактор», Руднев постоянно чего-нибудь да боится: что обидится другой поэт, не попавший в подборку, что «новые стихи» трудно понять, что в цветаевской прозе читателю будут скучны подробности, например о матери Волошина («Живое о живом»). Что фигура историка Иловайского недостаточно крупна («Дом у Старого Пимена»), что на «Пленный дух» может обидеться Любовь Дмитриевна Блок, что богобоязненного читателя оскорбит концовка цветаевского «Черта».
И Цветаевой приходится выслушивать советы и соображения редактора, о чем и о ком ей лучше писать и всякий раз скрупулезно подсчитывать количество печатных знаков. Готовая рукопись почти никогда не совпадает с заранее выделенным редакцией объемом. Автор терпеливо поясняет правомерность стилевых особенностей. И постоянно сражается со страстью редактора выбрасывать «лишнее». Понятия «лишнего» у Руднева и Цветаевой всякий раз расходятся.
Когда рукопись в очередной раз превышает на несколько страничек заданный объем, Марина Ивановна предлагает не оплачивать ей «лишних» страниц; пытается растолковать, что рукопись «уже сокращена, и силой большей, чем редакторская: силой внутренней необходимости, художественного чутья».
Литературно воспитать своих редакторов ей, конечно, не удается. И если Руднев временами все же отступает, то скорее из некоторого страха перед цветаевским напором.
Но эта необходимость постоянно отстаивать свои позиции – с трудом соблюдая меру между вежливостью и твердой настойчивостью – самой Цветаевой обходится не в пример дороже. Всякий раз ей надо перебороть прежде всего себя. Ибо единственное, чего ей в этих случаях хочется, – забрать рукопись из редакции немедленно. «Я не могу писать так, как нравится Рудневу или Милюкову! Они мне сами не нравятся!» – вырывается в одном из ее писем. Но выбора нет: нет других «площадок» для публикаций. Нет ренты, нет мецената или просто хорошо зарабатывающего мужа. Есть только цены на рынке и неумолимые сроки платежей – за квартиру, за школу…
Одно из наиболее резких писем к Рудневу относится ко времени, когда шла корректура «Дома у Старого Пимена» – то есть к декабрю 1933 года: «Проза поэта – другая работа, чем проза прозаика, в ней единица усилий (усердия) – не фраза, а слово, и даже часто – слог. Это Вам подтвердят мои черновики, и это Вам подтвердит каждый поэт. И каждый серьезный критик: Ходасевич, например, если Вы ему верите. ‹…› За эти годы я объелась и опилась горечью. Печатаюсь я с 1910 г. (моя первая книга имеется в Тургеневской библиотеке), а ныне – 1933 г., и меня все еще здесь считают либо начинающим, либо любителем, – каким-то гастролером. ‹…›»
«Объелась и опилась горечью…» Она могла бы это повторить и через год, и через три.
В «русском Париже» регулярно устраиваются в пользу бедствующих писателей то «подписные обеды», то благотворительные балы и даже благотворительные бриджи. Но всегда нужно напоминать о себе! Писать прошения и заявления!
А между тем отношения с дамами-патронессами, стоящими на распределительных постах благотворительности, у Марины Ивановны – самые неприязненные. Накапливающаяся год от году душевная усталость заставляет ее подозревать этих дам в чувствах даже более активных, чем просто неприязнь, – и потому временами случается, что взрыв ее очередного негодования выстреливает вовсе не по адресу…
Она устала.
Послушаем голос Дон-Аминадо – поэта и прозаика, все более решительно уходившего в тридцатые годы от веселого юмора в горчайший сарказм. Это ему несколько лет спустя Цветаева напишет замечательное ободряющее письмо, чтобы сказать, как радуется она его таланту, как высоко его оценивает – может быть, гораздо больше и серьезнее даже, чем сам его обладатель.
Итак, вот абзац «прозаического» Дон-Аминадо, смеющегося Дон-Аминадо тридцатых годов: «Страшно подумать, из чего состоит наша вечная борьба за существование, трепка нервов и биография! Какие влажные, липкие и полупреступные руки пожимаем мы с утра до вечера, и с каким лицемерным усердием! В какие равнодушные и жестокие глаза глядим без веры и без надежды. И с какой нечеловеческой усталостью возвращаемся мы домой, в это грустное царство недействующих выключателей, продавленных диванов, расстроенных нервов, провалившихся на экзаменах детей и сбежавших алюминиевых чайников, которым тоже ведь надоело это вечное клокотание и кипячение без смысла и цели!»
Дон-Аминадо
В деловых письмах Цветаевой теперь все чаще встречаются резкие, жесткие интонации и хлещущие, как пощечина, формулировки. Впрочем, не только в письмах – и в стихах:
- Квиты: вами я объедена,
- Мною – живописаны.
- Вас положат – на обеденный,
- А меня – на письменный.
- Оттого что, йотой счастлива,
- Яств иных не ведала.
- Оттого что слишком часто вы,
- Долго вы обедали.
- …………………………………………
- Каплуном-то вместо голубя –
- Порх! душа – при вскрытии.
- А меня положат – голую:
- Два крыла прикрытием.
Она устала от унижений, от вынужденных разговоров с людьми, с которыми скучно говорить даже о погоде, устала от вечного осуждающего шепота, шелестящего вокруг нее. Осуждение ближних и уж особенно дальних сопровождает ее постоянно: она просто не может нравиться тем, кто с рождения твердо знает, как надо поступать и как не надо. Ее осуждают за колючий неуступчивый характер, за чрезмерную любовь к сыну и чрезмерную требовательность к дочери, но теперь еще и за мужа с его «просоветскими» взглядами…
Выпивая однажды в кафе за столиком свою чашечку, она внезапно слышит обращенный к ней вопрос хозяина:
– Vous n’avez pas de gueules cassees?[23] – и ее вдруг поражает – словно прорезавшая небо молния – мысль, не приходившая прежде в голову. Вернувшись домой, она запишет в тетрадке:
«Я внезапно осознала, что я всю жизнь прожила за границей, абсолютно отъединенная – за границей чужой жизни – зрителем: любопытствующим (не очень!), сочувствующим и уступчивым – и никогда не принятым в чужую жизнь – что я ничего не чувствую, как они, и они – ничего – как я – и, что главнее чувств, – у нас были абсолютно разные двигатели, что то, что для них является двигателем – для меня просто не существует – и наоборот (и какое наоборот!)».
Тяжкий упадок духа переживает в середине тридцатых годов не только Цветаева.
Ходасевич-критик пишет о растерянности, усталости, анемичности, отразившихся в творчестве даже совсем молодых поэтов-эмигрантов; талантливый прозаик Гайто Газданов публикует в юбилейном номере «Современных записок» статью «О молодой эмигрантской литературе» с пессимистическим прогнозом полного исчезновения читателя. Философ Федотов писал о «чувстве, близком к удушению», посреди культурной пустоты, которая окружает русского человека на чужбине; Ремизов признавался, что эмигрантское существование он ощущает как бессрочную и бессмысленную каторгу. К 1934 году относятся слова Рахманинова (в его интервью Камерону): «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись Родины, я потерял самого себя…» Бунин отказался от покупки виллы на юге Франции, в Грассе, где он жил много лет, хотя присуждение ему осенью 1933 года Нобелевской премии делало такую покупку вполне возможной. Его удерживала единственная мысль: неужели обосновываться здесь навсегда?.. Неужели так и не будет – России?
Один из парижских русских журналов напомнил этим летом читателю изречение Паскаля: «Человек живет вместе, умирает же всегда один». Напомнил, чтобы сопроводить грустной сентенцией: «Но в эмиграции очень многие познают это смертное одиночество задолго до смерти….»
Десятого октября в Марселе совершено очередное политическое убийство. Даже двойное: убит французский министр иностранных дел Барту и сербский король Александр, только что прибывший с визитом во Францию. Мотивы убийства неясны, убийцы не найдены. Но среди русских пополз назойливый слушок, что и тут не обошлось без соотечественников, с той ли, с этой ли стороны границы… Так или иначе – призрак Павла Горгулова оживает вновь. Как и призрак ягненка, заведомо виноватого в мутности ручья…
Цветаева почти не читала газет, вряд ли отличала Даладье от Лаваля, тем более что правительственные кабинеты во Франции менялись в середине тридцатых годов с калейдоскопической быстротой. Но она прекрасно улавливала грозное направление происходящих в мире перемен. Погромы, расстрелы, концлагеря в Германии; фашистские мятежи, прокатившиеся в 1934 году чуть ли не по всем странам Европы; чернорубашечники в Италии, синерубашечники во Франции. Все это заставляло ее почти физически ощущать запах агрессии, разраставшейся в мире.
Свой пай в котел человеконенавистничества добавило и русское зарубежье: в апреле того же 1934-го было подписано соглашение о создании «Всероссийской фашистской организации» со штабом в Харбине.
Этого факта Марина Ивановна, скорее всего, и не знала. Но ее обостренное чутье отлично улавливало запах гнили в призывах, звучавших куда ближе. Она безошибочно распознавала яд в речах и статьях, которыми даже люди, нравственно вполне здоровые, готовы были подчас обольститься. Ибо слова «Русь», «Россия», «русский мессианизм», повторявшиеся чуть не в каждом абзаце иных русских изданий, мощно воздействовали на тех, кто истосковался по родной земле.
В облатке, сильно подслащенной «патриотизмом», неискушенный читатель или слушатель готов был глотать, не замечая, ту же отраву расизма. На этот раз – русского.
Сбивало с толку, что в эмигрантских журналах «Утверждения» или «Завтра» рядом со статьями, несшими в себе до поры до времени упрятанный опасный заряд, публиковались и безусловно светлые люди русского зарубежья, такие как мать Мария, Бердяев или Бунаков-Фондаминский. Идеологи «Утверждений» горячо приветствовали тенденции «национал-большевизма», крепнувшие, по их мнению, в Москве. Сами себя они именовали «национал-максималистами». И существовали еще «младороссы» («молодые люди, не доросшие до России», – саркастически шутил Дон-Аминадо).
Различия между ними были, и немалые. Но Цветаева не желала в них вдаваться. Во всяком случае, объединяться с «национал-максималистами» под одной обложкой – на это ее плюрализма (как мы сказали бы теперь) не хватало. Тут она была непримирима. От ее аполитичности не оставалось и следа. Юрию Иваску, ее эстонскому корреспонденту, она отвечала на его вопросы: «Я – с Утверждениями?? Уж звали и услышали в ответ: Там где говорят: еврей, а подразумевают: жид – мне, собрату Генриха Гейне – не место. Больше скажу: то место меня – я на него еще и не встану – само не вместит: то место меня чует, как пороховой склад – спичку».
«Что же касается младороссов, – читаем далее в том же письме, – вот живая сценка. Доклад бывшего редактора и сотрудника В‹оли› России (еврея) М. Слонима: Гитлер и Сталин. После доклада – явление младороссов в полном составе. Стоят, “скрестивши руки на груди”. К концу прений продвигаюсь к выходу (живу загородом и связана поездом) – так что стою в самой гуще. Почтительный шепот: “Цветаева”. Предлагают какую-то листовку, к‹отор›ой не разворачиваю.
С эстрады Слоним: – “Что же касается Г‹итлера› и еврейства…” Один из младороссов (если не “столп” – так столб) – на весь зал: “Понятно! Сам из жидов!” Я, четко и раздельно: – “Хамло!” (Шепот: не понимают.) Я: – “Хамло!” и разорвав листовку пополам, иду к выходу. Несколько угрожающих жестов. Я: – “Не поняли? Те, кто вместо еврей говорят жид и прерывают оратора, те – хамы. (Пауза и, созерцательно:) Хамло. Засим удаляюсь. (С каждым говорю на его языке!)»
Сколько раз мы встретим в ее письмах ожесточенное открещивание от «злобы дня»! Каким презрением пронизано стихотворение «Читатели газет» – притом что в ее собственном обиталище газетами завалены все подоконники! Цветаева не терпит политиков, не принимает современных политических жупелов. «Ни с теми, ни с этими, ни с третьими, ни с сотыми, и не только с “политиками”, а и с писателями – не, ни с кем, одна, всю жизнь, без книг, без читателей, без друзей – без круга, без среды, без всякой защиты причастности, хуже, чем собака, а зато… А зато – всё».
Это сказано тоже в письме Иваску. Здесь – свои преувеличения и своя правда, но во всяком случае – не рисовка: может быть, состояние минуты, несколько сгустившее краски.
Ни с кем? Все-таки мы можем сказать, с кем она была.
Мы знаем больше, потому что живем позже.
Она была, по крайней мере, с Ходасевичем, Ремизовым и Замятиным – во Франции, и в одном стане с Пастернаком и Ахматовой, с Булгаковым и Платоновым, с Мандельштамом и Зощенко – в России.
О тех, кто в России, она сейчас мало знает. Зато хорошо помнит давнего своего учителя и друга, которого уже нет в живых, – Максимилиана Волошина. И при случае утверждает, что исповедует «гуманизм: максизм в политике». Этот гуманизм обрекает на мужество одинокого поиска. На постоянное усилие и бодрствование духа. Ибо куда как проще примкнуть к одному из станов! Довериться – и плыть со всеми вместе – «вниз по теченью спин», не зная муки самостоятельных решений.
«Максизм» давал именно эту нелегкую установку – установку нонконформизма: смотреть прямо в лицо неправедному миру, не оглядываясь ни на какие авторитеты, не заслоняясь никакими доктринами, – и жить по высшим нравственным законам.
- Двух станов не боец: судья – истец – заложник –
- Двух – противубоец! Дух – противубоец.
Так закончила Цветаева год спустя прекрасное стихотворение, посвященное как раз теме «ни с теми, ни с этими». Его раскаленные строфы – манифест свободного духа. Знающего свои ценности и не отступающегося от них, даже если весь мир твердит иное.
Как ни сложно было Цветаевой выбираться из дому, она посещала и доклады, и, как мы видели, вечер, посвященный теме «Гитлер и Сталин»; бывала на выступлениях Керенского, когда он рассказывал о событиях октября 1917 года; присутствовала при остром и отнюдь не литературном споре Мережковского с Вайяном-Кутюрье на вечере «Андре Жид и СССР».
Куда ее не тянуло, так это на Монпарнас, к завсегдатаям кафе, где из вечера в вечер собирались русские литераторы, художники – поговорить об искусстве и жизни. Одним из таких завсегдатаев был, в частности, талантливый поэт Анатолий Штейгер, интересный для нас еще и тем, что спустя полтора года он станет адресатом горячих цветаевских писем. В июле 1934-го, когда ужаснувшая мир «ночь длинных ножей» в очередной раз продемонстрировала новый климат Европы, Штейгер писал Зинаиде Шаховской: «На Монпарнасе ‹…› все по-старому; мне кажется, что если бы даже какое-нибудь там моровое поветрие скосило всех парижан, то, придя вечерком в Наполи, Вы все же застали бы там Адамовича, Ладинского, Иванова, Варшавского и еще кой-кого, мирно обсуждающих достоинства нового романа…»
Летом 1934-го уехал в Москву на Первый съезд советских писателей Илья Эренбург. Вернувшись, он выступил в зале «Мютюалите» вместе с гостями съезда – Луи Арагоном, Андре Мальро и Ж.-Р. Блоком. Бурно приветствуя ораторов, люди в зале скандировали: «Советы – повсюду!»
«Франция шла налево», – писал позже об этом времени Эренбург.
Сочувствие «левых» французов молодой Советской республике питалось теперь надеждой на Страну Советов как на главный бастион сопротивления фашизму. В этом чувстве надежды к ним присоединялись и известнейшие писатели других европейских стран. Из номера в номер журнал «Наш Союз», выходивший при активном участии Сергея Эфрона, публиковал восхищенные высказывания об СССР Мартина-Андерсена Нексё, Эптона Синклера, Ромена Роллана, Бернарда Шоу, – читать их сегодня почти неловко. Так, последний, отвечая на одну из анкет, утверждал: «СССР больше всего способствует прогрессу человечества тем, что занимается величайшим социальным экспериментом, какой когда-либо производился сознательным образом в истории людей».
С Эренбургом у Марины Ивановны давно уже нет прежней дружбы, но изредка они видятся, а что уж совсем несомненно – в близких отношениях с Ильей Григорьевичем Эфрон. Так что Цветаева неплохо знает о том, что происходит в России.
В парижском кафе. Слева направо: Л. М. Эренбург, неизв. лицо, Т. И. Сорокин, И. Г. Эренбург. 1925 г. (из личного архива Б. Фрезинского)
И не только о строительстве первой очереди Московского метрополитена, но и об эшелонах «раскулаченных», отправленных в далекие необжитые края Сибири. Узнаёт и о грандиозном плане реконструкции Москвы. К его осуществлению уже приступили. Эренбург рассказывал, что снесены Сухарева башня, Китай-город, Красные ворота, начали уничтожать зеленое кольцо бульваров с их вековыми деревьями.
«Москва тогда впервые узнала горячку строительства, – читаем в соответствующей главе книги «Люди, годы, жизнь», – она пахла известкой, и от этого было весело на душе. ‹…› Я не узнавал многих хорошо мне знакомых улиц: вместо кривых домишек – леса, щебень, пустыри. Над городом стоял оранжевый туман…»
Легко догадаться, зная Цветаеву, что у нее от известий такого рода не могло быть на душе весело. Проект перестройки Тверской улицы, уничтожение Страстного монастыря, а затем и храма Христа Спасителя – в ее глазах то была беда, и беда непоправимая: любимая с детства Москва уходила в небытие.
В цветаевском доме никто не разделял печали Марины Ивановны.
Девятилетний Мур, рвущийся, как и отец с сестрой, в Москву, пеняет матери:
– Бедная мама! Какая Вы странная! Вы как будто очень старая!..
Осенью сын опять пошел в школу, и снова во весь рост встала проблема выкраивания минут для письменного стола. Цветаева по-прежнему считала необходимым не только провожать Мура в школу, но и гулять с ним в любую погоду. Еще она помогала сыну с арифметикой, которая плохо ему давалась (как некогда самой Марине). И день оказывался разбитым совсем уж на мелкие кусочки. Но едва выдается просвет – она бросается к столу. И посреди кипящих кастрюль с головой уходит в свою работу, для которой родилась на свет. Упрямо опершись лбом в ладонь, она воскрешает старую Москву, далекие дни детства, мать… И считает это вовсе не бегством от сегодняшнего дня, наоборот – активной защитой исчезающих в мире великих ценностей духа, сердца, человечности. «Что мы делаем, какие защищаем: бывшее от сущего и, боюсь, будущего, – пишет она Буниной. – Будущего боюсь не своего, а “ихнего”, того, когда меня уже не будет, – бескорыстно боюсь…» А в другом письме – жалоба: «Мои живут другим – во времени и со временем…»
Нескончаемое кухонное мытарство в жалких условиях быта нелегко и для домовитой женщины, в руках которой все спорится. Для Цветаевой же то была каторга вдесятеро худшая, потому что приходилось превозмогать органическую непригодность к делам такого рода. Ни один из поэтов, с которыми Цветаеву обычно сравнивают, – Ахматова, Мандельштам, Пастернак, – не знал этой ежедневной пытки, затянувшейся на долгие годы. У них хватало своих испытаний, но не было этой изнурительной ежедневности бытовых забот, дробящих не просто время – душу. А ведь с 1917 года – плохо ли, хорошо ли – Цветаева бессменно везла на себе дом, хозяйство, заботы о детях.
Но мы не найдем в ее письмах жалобы на то, что из-за необходимости заработка надо писать, иначе не прожить. Жалобы другие: «Устала от не своего дела, на которое уходит – жизнь». Передышки хочется только от быта, от той «достоверной посудной и мыльной лужи, которая есть моя жизнь с 1917 года» (письмо Ю. Иваску, 1934 год). В другом письме, к Вере Буниной, того же года: «На мне весь дом: три переполненных хламом комнаты, кухня и две каморки. На мне – едельная (Мурино слово) кухня, потому что, придя – захотят есть. На мне весь Мур: проводы и приводы, прогулки, штопка, мывка. И, главное, я никогда никуда не могу уйти, после такого ужасного рабочего дня – никогда никуда, либо сговариваться с С. Я. за неделю, что вот в субботу, например, уйду. ‹…› Мне нужен человек в дом, помощник и заместитель, никакая уборщица делу не поможет, мне нужно, чтобы вечером, уходя, я знала, что Мур будет вымыт и уложен вовремя. Одного оставлять его невозможно: газ, грязь, неуют пустого жилья…»
После летнего перерыва некоторое время казалось, что отношения матери с дочерью наладятся. Марина Ивановна настаивает на том, чтобы Аля все же закончила школу при Лувре, аттестат школы поможет найти приличную работу. Ариадна как будто соглашается, но тянет – день, другой, неделю… Спустя семь недель мать напоминает: «Аля, либо школа, либо место, ибо так – нельзя: работаем все, работают – все, а так – бессовестно!» И вот спустя день-другой дочь сообщает: она нашла работу, но для этого будет снимать комнату в городе.
Около дома в Кламаре
Цветаева ошеломлена: ведь это означает, что для письменного стола у нее тогда не останется уже ни часа! «Вера, – жалуется Цветаева Буниной, – ни слова, ни мысли обо мне, ни оборота…»
Но уйдет Ариадна из дому в феврале 1935-го, после очередного скандала.
В тот день, когда у Цветаевой было назначено вечернее выступление, заболевает Мур. Марина Ивановна просит дочь сходить в аптеку, – сама не может: не успела подготовить текст. Ариадна вертится перед зеркалом час, другой… «Аля!» – напоминает мать. «Я уже ушла!» – резко откликается дочь. И получает от матери пощечину. Цветаева – Тесковой: «Тут С. Я. ударил меня, я бросила в него чашкой (попала в стену), Мур (побелев) кинулся на отца – и –…»
И с одобрения отца Аля покидает дом.
Через месяц-другой она вернется – и снова уйдет.
Из письма к Вере Буниной: «Я не узнаю ни его, ни ее. С. Я. меня давно уже не любит (иногда – все реже – жалеет, а бессознательно ненавидит, как помеху его отъезду в Россию. Я для него помеха, колодка на ноге). – Вы выжили дочь из дому! Вы – мачеха!»
Не слишком ясно, сколько времени продолжаются эти уходы и возвращения Ариадны. Окончательности разрыва все же нет: снять надолго комнату нет средств. Ариадна, скорее всего, живет у друзей. Но новая попытка совместной жизни в ноябре заканчивается тем же. Снова – уход. «И ни оглядки на меня – поэта! Ведь она знает, что, уходя из дому, обрекает меня на почти-неписание… – всё на мне» (Тесковой).
Но «не-писание» для Цветаевой равносильно не-существованию.
Наталья Гайдукевич
Это совсем не вопрос заработка: такова ее природа. «Потому что вовсе не: жить и писать, а жить = писать и: писать – жить. ‹…› А в жизни – что? В жизни – хозяйство: уборка, стирка, торопка, забота. В жизни – функция и отсутствие….» Это ее записи в тетради уже начала 1936-го: «Если бы мне на выбор – никогда не увидать России – или никогда не увидать своих черновых тетрадей ‹…› – не задумываясь, сразу. И ясно – что. Да, помимо всего, и справедливо. Россия без меня обойдется, тетради – нет. ‹…› Я без России обойдусь, без тетрадей – нет».
Марина Ивановна явно на грани нервного срыва. Ее остро жжет сердечная боль, ей просто необходимы сочувствие, поддержка. И о наступившем кошмаре она пишет своим женским друзьям – Анне Тесковой, Вере Буниной, Саломее Андрониковой-Гальперн, Наталье Гайдукевич, – и с подробностями, самыми неприглядными. В письмах – голос самого страдания, голос человека, за которого в собственной его семье ни у кого не болит сердце. Ее не любят. Это отвержение – давняя и все еще неизжитая рана ее детства. Нелюбовь матери ранила ее настолько глубоко, что нашла отражение не только в цветаевской прозе, но даже в ее автобиографии 1939 года.
И вот теперь то же, в собственной ее семье, некогда рожденной так светло и безоблачно, с детьми, столь желанными…
Марк Слоним вспоминал однажды вырвавшуюся у Марины Ивановны жалобу: «Как бы мне хотелось кого-нибудь доброго, мудрого, отрешенного, никуда не спешащего! Человека – не-автомобиля, не-газеты… Кто бы мне всегда – даже на смертном одре – радовался. Такого нет. Есть знакомые, которым со мной “интересно”, – и домашние, которым со всеми интересно, кроме меня, ибо я дома: посуда – метла – котлеты – сама понимаю…»
В ее очередном письме прорывается горькое – и несправедливое: «Меня никто за всю жизнь не любил…»
Марина Цветаева. Рисунок Ариадны Эфрон
Она вспоминает, солько раз ей самой хотелось уйти – на волю, принадлежать только себе. Как хотелось! Просто – блаженного утра, без кухни и рынка, без обязательств перед кем бы то ни было… Почувствовать себя на полной свободе. Но чувство долга – то, чего она совсем не видит у дочери, – всегда пересиливало: «семья в моей жизни была такая заведомость, что просто и на весы никогда не ложилась», – пишет Марина Ивановна Буниной. Теперь ей уже кажется, что всю жизнь она рвалась из семейных пут. Может быть, думает она, вспоминая увлеченность Родзевичем, надо было тогда решиться уйти, – «они без меня были бы счастливы: куда счастливее, чем со мной! Сейчас я это говорю – наверное. Но кто бы меня – тогда убедил? Я так была уверена – они же уверили – в своей незаменимости: что без меня умрут. А теперь я для них – особенно для С., ибо Аля уже стряхнула, – ноша. Божье наказание. Жизни ведь совсем врозь. Мур? Отвечу уже поставленным знаком вопроса. Ничего не знаю. Все они хотят жить, действовать, общаться, “строить жизнь” – хотя бы собственную…»
Спустя девять лет Георгий Эфрон писал своему старшему другу о трагедии их семьи: «…у Сергея Яковлевича всегда преобладало будущее; только им он и жил. У Марины Ивановны всегда преобладало прошлое, многое ей застилавшее. Я же всегда хватался за настоящее ‹…›. И в том, что у каждого из членов нашей семьи преобладала одна из этих трех величин, – в ущерб другим, в этом-то наша трагедия и причина нашей уязвимости, наших несчастий…»
И там же – еще о матери: «…веры в будущее, которая облегчила бы ей жизнь и оправдала испытания и несчастия, у нее не было…»
Никогда прежде Цветаева всерьез не жаловалась на здоровье. Правда, время от времени ее мучили долго не проходившие нарывы (видимо, то, что мы теперь называем фурункулезом), она от-но сила их на счет малокровия и скверной пищи; в июне 1934 года ей даже прописали курс крайне болезненных уколов в бесплатной лечебнице для безработных русских. Но в ноябре того же года она впервые в жизни ощутила сердце, стала задыхаться при ходьбе, даже на ровном месте.
Ариадна Эфрон и Андрей Соллогуб. 1936 г.
«Мне все эти дни хочется писать свое завещание, – читаем в письме к Тесковой 21 ноября 1934 года. – Мне вообще хотелось бы не-быть. Иду с Муром или без Мура, в школу или за молоком – и изнутри, сами собой – слова завещания. Не вещественного – у меня ничего нет – а что-то, что мне нужно, чтобы люди обо мне знали: разъяснение…»
Отчуждению внутри семьи помогли и ближайшие знакомые – из тех, кто, как и Сергей Яковлевич, были одержимы общественными страстями: Евгения Ширинская-Шихматова, Вера Сувчинская. Они тоже твердили о «материнской тирании» и увлекали юную Ариадну в «общественную активность», от которой почти брезгливо отстранялась Марина Ивановна.
В цветаевской тетради того же 1934 года – строки стихотворения, оставшегося незаконченным:
- А, Бог с вами!
- Будьте овцами!
- Ходите стадами, стаями,
- Без меты, без мысли собственной
- Вслед Гитлеру или Сталину.
- Являйте из тел распластанных
- Звезду или свасты крюки.
И снова Марк Слоним – об одной из встреч с Цветаевой в парижском кафе. «Я никогда не видел М. И. в таком безнадежном настроении. Ее ужасали наши речи о неизбежности войны с Германией, она говорила, что при одной мысли о войне ей жить не хочется. “Я совершенно одна, – повторяла она, – вокруг меня пустота”. Мне показалось, что она не только болезненно переживала свое отчуждение, но даже готова была его преувеличивать. Я это сказал, повторив ее же слова о “заговоре века”. Она покачала головой: “Нет, вы не понимаете”. И, глядя в сторону, процитировала свои незнакомые мне строки:
- Но на бегу меня тяжкой дланью
- Схватила за волосы судьба.
И прибавила: “Вера моя разрушилась, надежды исчезли, силы иссякли”. Мне никогда не было так ее жалко, как в тот день…»
Слоним думал, что Цветаева говорит о своем отчуждении от эмигрантской среды. Нет, это ей было переносить много легче. В отчаяние, которое действительно заслуживает этого слова, чаще всего нас ввергает отчуждение самых дорогих людей.
«Я достоверно зажилась», «вокруг меня пустота», «я никому здесь не нужна» – эти мотивы упорно повторяются в цветаевских письмах середины тридцатых годов.
Лирическая продукция Марины Цветаевой этого времени поражает высочайшим накалом трагедийного чувства.
Оно прорывалось и в ее молодых стихах. Мотив противостояния жизненным обстоятельствам появился в цветаевской поэзии с начала двадцатых годов («Не возьмешь моего румянца…») и оказался сквозным для поздней лирики. Со временем высвечивались всё новые и новые его грани. В поэзии Цветаевой двадцатых и начала тридцатых годов неудержимо разрастался – отдельными строками и строфами – образ «безумного мира», где человек «сгорблен и взмылен», отлучен от живой природы, оглушен «рыночным ревом» будней, задыхается «в рвани валют и виз»… Уже тогда звучание этой лирики выходило за пределы личной жалобы; то был живой голос жестокого «мира мер», «века турбин и динам», – века насилия.
Но в лирике середины тридцатых ее голос обрел новые обертоны. Перед лицом переоцененной действительности, перечеркнутых личных надежд поэзия Марины Цветаевой зазвучала – оставляя далеко позади все горькие поводы, на которых возросли ее ростки, – в том экстатическом поле, где слышны уже «последние вопросы» человеческого бытия. Экзистенциальное отчаяние – тема, победившая в зрелом поэтическом творчестве Цветаевой. «Вскрыла жилы, неостановимо…», «Тоска по родине», «Уединение», «Сад», «О поэте не подумал…», «Никуда не уехали…», «Квиты! Бамия объедена…», «Есть счастливцы и счастливицы…», «Двух станов не боец…», «Отцам», «О, слезы на глазах…….
Повторю уже сказанное ранее: на новом этапе цветаевская поэзия продолжает меняться, как бы усиливая внутреннюю мощь, но уходя при этом от герметичности, присущей многим стихам «После России». Спустя годы сходным путем пойдет и Борис Пастернак в знаменитых его стихах к роману «Доктор Живаго». Достаточно напомнить знаменитого «Гамлета» («Гул затих, я вышел на подмостки…»).
В статьях о поэзии Цветаевой Иосиф Бродский характеризовал ее жизненную позицию как стойкий отказ от примирения с существующим миропорядком. «В голосе Цветаевой, – утверждал он, – зазвучало для русского уха нечто незнакомое и пугающее: неприемлемость мира». И этот голос, утверждал поэт, уже никому не удастся втиснуть в традицию русской литературы «с ее главной тенденцией утешительства и оправдания действительности». Называя стихи Цветаевой «плачами Иова», признавая «скрытое в цветаевском стихе рыдание», Бродский воспринимал «цветаевское отчаянье, цветаевскую беспощадную интенсивность мышления, цветаевскую жажду бесконечного» как высокое откровение поэта. И продолжал: «Время говорит с индивидуумом разными голосами. У времени есть свой бас, свой тенор. И у него есть свой фальцет. Если угодно: Цветаева – это фальцет времени. Голос, выходящий за пределы нотной грамоты».
Глава 7
Невстречи
В июньские дни 1935 года в Париже стояла невыносимая жара, внезапно сменившая холодное и дождливое ненастье. Время от времени гремели грозы, и снова сгущался душный зной.
Антифашистский конгресс под девизом «В защиту культуры» открылся в пятницу 21 июня в огромном зале «Мютюалите», вмещавшем около двух тысяч делегатов и гостей. В работе конгресса приняли участие виднейшие европейские писатели – Андре Жид и Анри Барбюс, Олдос Хаксли и Вирджиния Вулф, Карел Чапек и Лион Фейхтвангер, Джон Пристли и Бертран Рассел. Делегация Советского Союза оказалась самой многочисленной. Ее должен был возглавить Максим Горький, но в последний момент он не приехал. Сообщили о его болезни, но скорее всего дело было не в этом: за несколько месяцев до того Горькому уже отказали в выезде за границу на лечение. Он стал «невыездным», – возможно, в связи с попыткой заступиться за Каменева.
Уолдо Френк, Илья Эренбург, Анри Барбюс в президиуме I Всемирного конгресса писателей в защиту культуры. Париж, 1935 г.
Эмигрантские газеты поначалу игнорировали конгресс, но затем были вынуждены нарушить молчание. «Возрождение» раздраженно констатировало: «Защита культуры приобретает характер пропаганды советского режима». И это было совершенно справедливо. Зал разразился аплодисментами после слов Андре Жида, заявившего: «СССР теперь для нас – зрелище невиданного значения, огромная надежда. Только там есть настоящий читатель…» Год спустя, освещая деятельность конгресса, Шарль Вильдрак писал (в советском журнале «Литературный критик») об «общем энтузиазме к высокому и бодрящему примеру, данному теперь СССР всему миру». В зале «Мютюалите», по мнению Вильдрака, собрались в те дни «прозорливые писатели всего мира, одушевленные общим возмущением и общими желаниями…».
Характеристика эта, мягко говоря, неточна. «Прозорливости» у деятелей культуры оказалось явно недостаточно, как показали грядущие события. А «общий энтузиазм» был, но хотя он действительно заглушил другие голоса – эти другие голоса все же звучали.
Один из них принадлежал итальянскому антифашисту Сальвемини. Он попытался направить протест собравшихся против подавления личности и духовной свободы не только в гитлеровской Германии, но и в любой стране:
– Разве холод деревни в Сибири, куда ссылают идейных врагов режима, лучше концлагерей Германии? Разве Троцкий не такой же эмигрант, как Генрих Манн?..
«Зал встрепенулся от изумления», – сообщал обозреватель «Возрождения» С. Литовцев. Вспыхнувшие было в разных местах зала аплодисменты были заглушены негодующими возгласами. По свидетельству того же обозревателя, просоветский энтузиазм брал свое: «Умеренные делегаты выступали робко, советофилы гремели, говорили смело, страстно, зажигательно…»
Пастернак и Бабель не были поначалу включены в советскую делегацию. Но французские организаторы конгресса обратились за содействием к советскому послу в Париже Потемкину, и благодаря их ходатайству вопрос был пересмотрен.
В подмосковном санатории «Узкое», где находился в это время Пастернак, раздался телефонный звонок секретаря Сталина Поскребышева. И больной Борис Леонидович вынужден был подчиниться требованию выехать немедленно; он сумел только оговорить невозможность лететь самолетом. Вслед за звонком (рассказывал Борис Леонидович много лет спустя Исайе Берлину) тут же приехали двое, то ли из НКВД, то ли из Союза писателей, что, впрочем, было одно и то же. Они сообщили, что выезжать необходимо уже завтра. «Я сказал, что на такой случай у меня нет подходящего костюма. Они ответили, что обо всем позаботятся. Мне вручили визитку и брюки в полоску, белую рубашку с твердыми манжетами и таким же твердым воротничком с загнутыми уголками и великолепную пару лакированных туфель, которые пришлись как раз впору».
Все это великолепие, однако, Пастернак умудрился забыть дома. И отправился в путешествие в своей обычной одежде.
В поезде его состояние еще ухудшилось. Во Францию он приехал почти невменяемым от депрессии и бессонниц.
В Париже он раньше никогда не был и много лет мечтал о поездке, но теперь ему было не до столицы столиц. Позже, вспоминая эти дни, он назвал свое тогдашнее состояние «внутренним адом». «Этим летом меня не было на свете, и не дай Бог никому из вас узнать те области зачаточного безумья, в которых я ‹…› пребывал», – признавался он в письме к жене.
Тем не менее Борису Леонидовичу пришлось выступить на конгрессе. Представил его собравшимся Андре Мальро: «Перед вами – один из самых больших поэтов нашего времени…» Тот же Мальро прочел в переводе на французский одно из пастернаковских стихотворений – «Так начинают. Года в два…» Свидетельства о дальнейшем расходятся. По одной версии, Пастернак, выйдя на трибуну, произнес всего несколько фраз о природе поэзии, и зал устроил ему долго не смолкавшую овацию. Сам же Борис Леонидович пересказал Исайе Берлину свое выступление иначе: «Я выступил. Понимаю, сказал я, что писатели собрались здесь, чтобы организовать сопротивление фашизму. Мне хочется вот что сказать вам по этому поводу: не организовывайте ничего! Организация – это смерть для искусства. Значение имеет только личная независимость. В 1789-м, в 1848-м, в 1917-м писатели не были организованы и не голосовали ни за, ни против. Я призываю вас: не организовывайте ничего! – Полагаю, присутствующие были удивлены. А что иное мог я сказать?..»
С каким чувством слушал он речи своих коллег-соотечественников о свободе художника в СССР, о пролетарском гуманизме, о Стране Советов как примере истинной заботы о человеке?
Шел уже последний день работы конгресса – 26 июня. Для тех, кто не смог попасть внутрь, громкоговорители транслировали речи в вестибюль.
Не сохранилось подробностей их первой встречи с Мариной. Напряжение их переписки к этому времени ослабло. В сущности, еще до появления в жизни Бориса Леонидовича той, которая стала его второй женой. Сначала из писем исчезли даты и названия предполагаемых мест встречи. С датами постепенно исчезла и их – как писала Цветаева – «дозарезность» друг в друге. Из любовников в «заочности» они превращались просто в хороших друзей.
И все-таки… Все-таки… Для Цветаевой Борис Леонидович и теперь еще оставался единственным на земле человеком, который мог лучше всех других поддержать ее в минуты отчаяния.
Теперь они сидели рядом на заседаниях конгресса, ездили вместе с Ходасевичем в Версаль и Фонтенбло, – на машине художника Юрия Анненкова. Познакомился с Сергеем Яковлевичем и Ариадной. Вместе с Муром посидели в ресторане гостиницы, в которой жил Пастернак. И еще была неудачная встреча в кафе со странным разговором о колхозах, о чем Цветаева позже не раз с горечью будет вспоминать.
К тому времени прошло уже почти полтора десятилетия со дня их последней встречи в Москве. И девять лет с той весны 1926 года, когда Пастернак готов был по первому слову Марины примчаться к ней во Францию.
Слишком долгие сроки… Еще несколько лет назад, размышляя об их «заочной» любви, Цветаева записывала в свою тетрадку мысли о том, что такая внутри самих себя хранимая нежность «не снашивается» – в отличие от той, которая имеет осуществление в реальной жизни.
Увы, теперь она могла убедиться в том, что ошибалась.
Все-таки – «сносилась»…
Слишком многое переменилось и в них самих, и в мире. При этом то и другое оказалось связано между собой теснее, чем это можно было предположить.
Что решился Пастернак рассказать ей о себе и стране? Достоверно известно (Алексей Эйснер при этом присутствовал), что рассказал об аресте Мандельштама и о телефонном звонке Сталина ровно год назад, и о странном разговоре, который состоялся тогда между Пастернаком и вождем. Но рассказал ли о той поездке, когда своими глазами увидел уральскую деревню и изнанку процессов «сплошной коллективизации»?
Мы не знаем этого. Известно другое: Цветаева все же задала Борису Леонидовичу вопрос, который ее теперь мучил постоянно: можно ли сейчас возвращаться в Россию?
Ответ показался ей невнятным, противоречивым. Пастернак и сам это как будто подтверждает: «Я не знал, что ей посоветовать», – признался он позже в очерке «Люди и положения». Но ведь сказал же он ей во время заседания конгресса на ухо о том, как почти насильно отправили его в Париж: «Я не посмел не поехать, ко мне приехал секретарь Сталина, и я испугался. Меня посадили в самолет и привезли…» (Пастернак приехал поездом, не самолетом, но в данном случае я привожу цитату из письма Цветаевой к Анне Тесковой.)
Другой вариант предостережения передает Е. Н. Федотова, скорее всего, тоже со слов Цветаевой, обстоятельства совпадают: «Марина, не езжайте в Россию, там холодно, сплошной сквозняк!» Тоже шепотом, тоже во время заседания. Иносказательность фразы и конспиративность обстоятельств наводят на мысль, что даже в Париже Борис Леонидович опасался следящих глаз и подслушивающих ушей.
Гораздо больше, чем методам «делегирования» поэта на конгресс, Цветаева ужаснулась страху Бориса Леонидовича. Пастернак испугался! – вот что было для нее непонятно, непредставимо. Она не распознала мучительного состояния, в котором он находился в это время, о подлинных причинах его не догадалась, недомолвок расшифровать не сумела. Но потому и не сумела, что воображения не хватило представить, – даже у нее, ко многому как будто уже готовой! – как далеко все зашло в стране, куда так нетерпеливо рвался ее муж.
В эти дни она и сама далеко не в лучшей своей форме.
За неделю до начала работы конгресса она отвела к врачу сына: десятилетний Мур жаловался на боли в животе. Хирург диагностировал аппендицит. Мальчика срочно прооперировали, и он провел в больнице еще десять дней. Тем не менее Марина Ивановна присутствовала на всех заседаниях конгресса.
Но уже через день после окончания его работы, 28 июня, несмотря на то что советская делегация, а с ней и Пастернак, еще оставались в Париже, Цветаева уедет с сыном на юг, в Фавьер, к морю. Ни отменить, ни даже отложить отъезд она не могла. Дешевый «каникулярный» поезд уходил на юг именно 28-го – и билеты на него были куплены заранее.
Они могли, таким образом, видеться только в течение трех дней: 25, 26 и 27 июня.
Душевного состояния Пастернака Цветаева просто не поняла. «Признававшая только экспрессии, никаких депрессий Марина не понимала, – пишет в своих воспоминаниях Ариадна Эфрон, – болезнями (не в пример зубной боли) не считала, они ей казались просто дурными чертами характера, выпущенными на поверхность, – расхлябанностью, безволием, эгоизмом, – слабостями, на которые человек (мужчина!) не вправе…»
Роковым образом это совпало с тревожной напряженностью Марины Ивановны, обеспокоенной здоровьем сына.
В результате недоразумение накладывалось на недоразумение.
Однажды, оговорившись, Борис Леонидович назвал Цветаеву именем своей жены. Марина Ивановна расслышала – и расстроилась. И огорчилась еще больше, когда в возникшем за каким-то застольем споре Пастернак вдруг начал говорить нечто совсем уж невообразимое.
Что-то о необходимости подчинения личности коллективному сознанию. И что-то даже панегирическое о колхозах.
Спор был прилюдный – и в этом, наверное, скрывалась разгадка.
Но еще долгое время после этого Цветаева не могла прийти в себя.
Сохранившиеся черновики двух писем – Николаю Тихонову и Борису Пастернаку (Марина Ивановна напишет их уже в Фавьере) – позволяют хоть в какой-то степени представить, что же это был за спор.
Тихонову она писала, в частности: «От Б. – у меня смутное чувство. Он для меня труден тем, что все, что для меня – право, для него – его, Борисин, порок, болезнь.
Как мне – тогда (Вас, впрочем, не было, – тогда и слез не было бы) – на слезы: – Почему ты плачешь? – Я не плачу, это глаза плачут. – Если я сейчас не плачу, то потому, что решил всячески удерживаться от истерии и неврастении. (Я так удивилась – что тут же перестала плакать.) – Ты – полюбишь Колхозы!
- …В ответ на слезы мне – “Колхозы”
- В ответ на чувства мне – “Челюскин”!
Словом, Борис в мужественной роли Базарова, а я – тех старичков – кладбищенских.
А плакала я потому, что Борис, лучший лирический поэт нашего времени, на моих глазах предавал Лирику, называя всего себя и все в себе – болезнью. (Пусть – “высокой”. Но он и этого не сказал. Не сказал также, что эта болезнь ему дороже здоровья и, вообще дороже, – реже и дороже радия…)»
В переводе на язык обыденный ясно, что за дружеским столом мир «старорежимный», «абстрактно-гуманистический» в лице Цветаевой отстаивал свои ценности в споре с ценностями «социалистического» мира. И Пастернак оказывался в роли хвалителя, а Цветаева – хулителя дня сегодняшнего; первый – защитником новых порядков, вторая – плакальщицей по старым.
(С Николаем Тихоновым познакомилась в эти дни и Ариадна. Они виделись не раз и не два в самой непринужденной обстановке: в зале конгресса и в отеле, где остановилась советская делегация. Пройдут годы – не столь долгие, лет пятнадцать! – и Аля из Туруханска, из своей бессрочной ссылки, напишет депутату Верховного Совета Тихонову просьбу о реабилитации. Прямого ответа от него она не получит. Тихонов просто перешлет письмо «по инстанции»…)
Кое-что конкретизирует набросок июльского письма Цветаевой Пастернаку.
«Я защищала право человека на уединение, – пишет Цветаева, – и не в комнате, для писательской работы, а – в мире. ‹…›
Вы мне – “массы”, я – “страждущие единицы”. Если массы вправе самоутверждаться – то почему я не вправе – единица? ‹…›
Я вправе, живя час и раз, не знать, что такое Колхозы, так же как Колхозы не знают – что такое – я. Равенство так равенство.
Мне интересно все, что было интересно Паскалю, и не интересно все, что было ему не интересно. Я не виновата, что я так правдива. Ничего не стоило бы на вопрос: “Вы интересуетесь будущим народа?” – ответить: “О, да”. А я ответила: “Нет”, потому что искренне не интересуюсь никаким и ничьим будущим, которое для меня пустое (и угрожающее!) место.
Странная вещь: что ты меня не любишь – мне все равно, а вот – только вспомню твои Колхозы – и слезы. (И сейчас плачу.) Мне стыдно защищать перед тобой право человека на одиночество. Потому что все стоящие были одиноки, а я – самый меньший из них…»
Всего две недели назад она поставила точку под последним словом своей прозы «Черт».
Всего несколько дней назад прочла ее на своем литературном вечере.
Да не в этой ли связи и разгорелся тот спор? Ибо вся концовка «Черта» – гимн одинокому, отъединенному духу, оберегающему ее, Марину, от всякой общности. От той общности, которая способна освятить и насилие и преступление…
Пастернака, правда, еще не было в Париже, когда проходил этот вечер, но, может быть, кто-то другой – из затеявших спор за столом – успел «Черта» послушать?..
Два года спустя ту же, в сущности, тему поднял Томас Манн – в статье «Предупреждение Европе». Темпераментно и взволнованно писатель сказал в ней об опасности увлечения, охватившего современное поколение: увлечения коллективизмом, лозунгом «слияния с массами». Но массы и не подозревают, писал Томас Манн, о существовании сложных предпосылок нашей цивилизации. Между тем гораздо легче управлять и манипулировать не личностями, а именно массами – бросая им как подачку демагогические доводы вместо размышлений и грубую подделку вместо творчества. Отречение от личного «я», утверждал писатель, неизбежно ведет к усыплению совести. И это крайне опасная тенденция, формирующаяся в современном мире.
Больного Бориса Леонидовича до самого его отъезда преданно опекала Ариадна, почти ежедневно с утра приходившая в гостиничный номер отеля «Мэдисон»; она просто сидела рядом, когда он не хотел никуда идти, вязала. И он постепенно отходил, напряжение в его глазах исчезало; слушая ее болтовню, он начинал улыбаться и понемногу реагировать. «Вот так я его разговаривала», – вспоминала позже Ариадна Сергеевна. Она подтверждала, что он «был в ужасном состоянии, и мама была ему, конечно, просто противопоказана».
Так или иначе, Цветаева назвала это «невстречей», а Пастернак позже – «упущенным, уступленным, проплывшим мимо».
Оба сполна пережили горечь еще одного, совсем уж обидного разминовения.
Письма Пастернаку и Тихонову написаны Цветаевой уже в Фавьере, где она вспоминала и переживала заново июньские дни.
Я искала этот Фавьер в 1989 году. Выехав из Марселя поездом, который шел на Тулон, я должна была сделать пересадку. Но обнаружилась какая-то нестыковка в расписании поездов – слишком большой перерыв во времени, и я побоялась приехать среди ночи туда, где у меня не было ни единой знакомой души. Да еще с плохим французским, да еще – с обычными нашими пустяками вместо денег в кармане. И я сдалась. Сошла на станции вблизи Тулона и пошла вглубь – к городку, называющемуся Сейн-сюр-Мэр, утешаясь соображениями о том, что это, в сущности, та же Ривьера, то же море, та же природа – и совсем рядом с Фавьером. Тем более что меня предупредили: от прежнего Фавьера ничего не осталось.
Аля Эфрон, Мур, Марина Цветаева в Фавьере. 1935 г.
А тут, в самом деле, был тот же жаркий и синий Прованс. Приморские сосны, мирт, лаванда, виноградники, синева Средиземного моря, нежные красоты холмов и зелено-голубых далей. Вдруг открылся за поворотом какой-то «Форт Бонапарта», и когда указательная стрелка с этой надписью попалась мне на дороге, появилось твердое ощущение, что – так или иначе – я в «цветаевских» местах.
Галина Родионова, познакомившаяся с Цветаевой как раз этим летом 1935 года, рассказывает о Фавьере: «В живописный этот благословенный уголок Прованса съезжалась творческая богема всех стран, – художников привлекали яркие краски, писатели и поэты искали здесь вдохновения. Потянулась в Фавьер и русская интеллигенция – Саша Черный построил сказочный пряничный домик среди сосен; причудливо расписал свой теремок Иван Билибин; маститый Гречанинов, любивший комфорт, снимал на лето одну из фавьерских вилл. “Во главе” с вдовой Ильи Мечникова поселились здесь и русские ученые, сотрудники Пастеровского института. Возник целый русский городок, его называли cite russe, так и писали на конвертах писем. Предприимчивые дамы из Одессы понастроили длинные домики с отдельными комнатушками, дешевое общежитие, его называли “Авгиевы конюшни”. Хозяйки кормили дешево своих постояльцев русским борщом и пирожками».
С сыном на пляже в Фавьере
Сюда и приехала Марина Ивановна с сыном.
Они поселились поначалу именно в «конюшнях». Но эмигрантское общество Цветаева переносила с трудом, когда оно оказывалось слишком рядом. Во-первых, на нее тут откровенно глазели как на местную достопримечательность, уже одно это раздражало. Во-вторых, терпения ее не хватало с утра до ночи слышать немыслимую смесь французских и русских слов, тарабарщину, на которой здесь все изъяснялись. Наконец, это глупейшее чванство, постоянно сквозившее в пересудах о Франции и французах. В письме к Тесковой, написанном из Фавьера: «…живут, ненавидя Россию (в лучшем случае – не видя) и, одновременно, – заграницу, в тухлом и затхлом самоварном и блинном прошлом – не историческом, а их личном: чревном: вкусовом, имущественном, – обывательском, за которое – копейки не дам».
По свидетельству Родионовой, она восхищалась остроумнейшими рассказами Тэффи, высмеивавшими эмигрантскую публику этого сорта.
Место было райское. Но первые недели прошли здесь более чем грустно – Марина Ивановна оставалась во власти только что пережитого в Париже.
Этот неожиданный, неузнаваемый Борис. Его странные речи, его поглощенность женой, о которой он не мог сказать ничего внятного…
«Какая она?» – спрашивала Цветаева.
«Она – красавица».
И это было все, что он мог ответить.
«Поэту нужна красавица, то есть без конца воспеваемое и никогда не сказуемое, ибо – пустота et se prete a toutes les formes[24]. Такой же абсолют – в мире зрительном, как поэт – в мире незримом. Остальное у него уже все есть», – записывает Цветаева в Фавьере – и включит потом эти строки в письмо Пастернаку. Все, что она, Марина, может ему дать, уже у него есть, ибо ее мир он вобрал внутрь, в глубину. И вовне она уже ему не нужна. «Тебе нужно любить – другое: чужое любить…»
Это она ему – его же самого (!) – поясняет…
Ариадна Эфрон
Горечь! Горечь, которую не притушить никаким пониманием жестких законов земной жизни.
Но ведь она уже размышляла над этим – больше пяти лет назад! В 1929 году, в своей прозе «Наталья Гончарова»: о Пушкине и его Натали. «Гончарова – Елена, Гончарова – пустое место, Гончарова – богиня». «Было в ней одно: красавица. Только – красавица, просто – красавица, без корректива ума, души, сердца, дара. Голая красота, разящая, как меч. И – сразила.
Просто – красавица. Просто – гений». «…Тяга гения – переполненности – к пустому месту. Чтобы было куда». И там же, там же – о ком это? Не о себе ли?
Полгода спустя, ранним утром едва начавшегося 1936 года, она запишет в своей тетрадке горькое: Борис «не нашел нужным провести со мной наедине ни получасу – потому что влюблен в жену-красавицу…».
«Обратное красавице – не чудовище (как в первую секунду может показаться), а – сущность, личность, печать…»
Мансарда, которую они с Муром занимали в «конюшне», была просторна, но днем там было невыносимо душно. И потому вскоре, по совету Родионовой, Марина Ивановна с Муром переехали в один из фермерских домов, сняв чердачную комнатку над хозяйственной пристройкой. В самой комнате навели кое-какой порядок, затащили туда стол, топчаны – и большую бутыль, оплетенную соломкой, с самодельным терпким виноградным фермерским вином: Цветаева любила во время разговора потягивать пинар из большого стакана. Вечерние беседы происходили обычно на «скворешной лестнице», ведшей на чердак.
Но поначалу именно вечера оказались мучительно тягостными.
В девять вечера Мур уже был в постели. Работать вечерами Цветаева никогда не умела – разве что писать письма. Однако при тусклой керосинке это было не слишком уютно.
Иона садилась на лесенку в одиночестве. Курила, думала. Снизу доносились по-летнему оживленные, радостные перекликающиеся голоса:
– Идем?
– Идем!
– Кофточку не забудьте! Свежо!
– А палку – взяли?
Кто шел на море, кто в гости. Она не могла никуда пойти одна – во тьме.