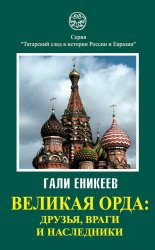Предатель памяти Джордж Элизабет

– Они упакованы по две штуки, констебль.
– Давайте. Я справлюсь.
Налив в чашку кипятка и выложив на отдельное блюдце печенье, сестра Сесилия была готова отвечать на вопросы Барбары. Они сели у окна на обтянутые винилом стулья. Перед ними открывался вид на сад; между деревьями мелькала сестра Роза с граблями в руках. Барбару и монахиню разделял низкий стол. Среди подборки религиозных журналов, разложенных веером на покрытой шпоном столешнице, Барбара разглядела зачитанный номер «Elle».
Барбара рассказала монахине о своей встрече с Линн Дэвис и спросила, известно ли было сестре Сесилии о первом браке Ричарда Дэвиса и о его первом ребенке.
Сестра Сесилия сказала, что знает и о первом браке, и о первом ребенке и что узнала о Линн и о ее «бедняжке доченьке» от самой Юджинии вскоре после рождения Гидеона.
– Могу точно вам сказать, констебль, – сообщила она Барбаре, – что для Юджинии это было шоком. Она даже не знала, что Ричард был разведен, и долгое время пыталась понять, почему он не рассказал обо всем до их свадьбы.
– Должно быть, она чувствовала себя обманутой.
– О, ее волновала не личная обида. Во всяком случае, со мной она не обсуждала эту часть вопроса. А вот духовные и религиозные последствия такой скрытности мужа она пыталась осознать на протяжении нескольких лет после рождения Гидеона.
– Какого рода последствия?
– Ну, во-первых, святая церковь считает брак бессрочным соглашением между мужчиной и женщиной.
– То есть миссис Дэвис волновалась, что, если церковь сочтет первый брак ее мужа легитимным, тогда ее собственный брак превратится в двоебрачие. А прижитые от Ричарда Дэвиса дети станут считаться незаконными.
Сестра Сесилия отпила чаю.
– И да и нет, – ответила она. – Ситуация осложнялась тем фактом, что сам Ричард не был католиком. Он вообще не придерживался никакой веры, несчастный человек. Ни первый, ни второй его брак не был освящен церковью, так что главный вопрос, стоявший перед Юджинией, заключался в том, жил ли он во грехе с Линн и носил ли на себе ребенок, рожденный от их союза – то есть зачатый во грехе, – печать Божьего суда. И если дело обстояло именно так, то не рисковала ли Юджиния навлечь и на себя гнев Божий, ступая по следам Линн.
– Вы хотите сказать, за то, что она вышла замуж за человека, который «жил во грехе»?
– О нет. За то, что ее брак не был освящен церковью.
– Церковь не разрешила бы этого?
– Вопрос о том, разрешит церковь такой брак или нет, никогда не ставился. Ричард не хотел религиозной церемонии, и она не состоялась. Они просто поставили свои подписи в бюро регистрации.
– Но разве миссис Дэвис, будучи католичкой, не настаивала на том, чтобы у них было и венчание в церкви? Разве она не обязана была венчаться? Ну, чтобы быть чистой перед Богом и Папой?
– По сути, так оно и должно было быть. Однако Юджиния была католичкой только частично.
– Как это?
– А так. Каких-то тайн она причастилась, а каких-то нет. Какие-то постулаты принимала, а какие-то нет.
– Скажите, разве, когда к вам присоединяются, люди не клянутся на Библии или на чем-то еще, что они будут выполнять все ваши правила? Вот взять хотя бы Юджинию. Мы знаем, что она выросла не в католической вере. То есть церковь согласна принимать к себе таких людей, которые одни правила согласны выполнять, а другие – нет?
– Давайте не будем забывать, констебль, что у церкви нет тайной полиции, которая следит за тем, чтобы все ее члены ходили строго по ниточке, – ответила монахиня. Она откусила печенье и несколько секунд молча жевала. – Господь дал каждому из нас совесть, чтобы мы сами следили за своим поведением. Да, несомненно, существует множество вопросов, по которым отдельные католики не согласны с матерью-церковью, но только Бог сможет сказать нам, рискуют ли они из-за этого вечным спасением.
– И все-таки миссис Дэвис, похоже, верила, что Бог сводит с грешниками счеты в их земной жизни, если она считала, что Вирджиния воплотила отношение Бога к греховной связи Линн и Ричарда.
– Люди склонны именно так интерпретировать выпадающие на их долю несчастья. Но вспомните Иова. Каков был его грех, за который Господь так сурово наказывал его?
– Возлежал и порождал не на той стороне простыни? – предположила Барбара первое, что пришло в голову. – Честно говоря, я не помню.
– Вы не помните этого потому, что за Иовом не было грехов. Просто так испытывалась его вера во Всемогущего.
Сестра Сесилия сделала еще глоток чая и стряхнула с пальцев крошки печенья на грубую ткань юбки.
– Вы говорили это Юджинии Дэвис?
– Я пыталась объяснить ей, что если бы Господь хотел наказать ее, то он не начал бы с того, что дал ей Гидеона – абсолютно здорового мальчика – в качестве первого плода ее брака с Ричардом.
– А что насчет Сони?
– Не считала ли она Соню наказанием свыше за свои грехи? – уточнила сестра Сесилия. – Прямо она никогда этого не высказывала. Но, судя по тому, как она отреагировала, узнав о болезни несчастной малютки… А потом, когда девочка умерла, Юджиния перестала посещать церковь… – Монахиня вздохнула, поднесла чашку к губам и замерла, словно обдумывая ответ. Наконец она произнесла: – Нам остается только догадываться, констебль. Мы можем лишь вспомнить вопросы, которые она задавала о Линн и ее ребенке, и на их основании строить предположения о том, что чувствовала она сама и во что верила, когда оказалась в такой же ситуации.
– А что остальные?
– Остальные?
– Остальные домочадцы. Они говорили о том, что чувствовали, когда узнали про Соню?
– Она мне не рассказывала об этом.
– Линн говорит, что она ушла от Ричарда частично из-за его отца. Она считает, что у него не хватало нескольких винтиков, а те, что еще сидели на месте, были весьма и весьма гадкими, так что оставалось только радоваться, что их не полный комплект. Но вы, наверное, знаете об этом.
– Юджиния никогда не делилась тем, что происходило у них в доме.
– Она не говорила, что кто-то хочет избавиться от Сони? Например, Ричард? Или его отец? Или еще кто-нибудь?
Голубые глаза сестры Сесилии широко раскрылись. Она воскликнула:
– Господи помилуй, нет! Люди в том доме не были злыми. Возможно, в чем-то они запутались, но кто из нас никогда не ошибается? Однако стремиться избавиться от ребенка с такой силой, чтобы даже пойти на… Нет. Не могу представить себе, что хоть кто-то из них был на такое способен.
– Но ведь кто-то убил ее, а вчера вы говорили мне, что не поверили, будто это сделала Катя Вольф.
– Не поверила и не поверю, – еще раз подтвердила свою позицию монахиня.
– Значит, это сделал кто-то другой, если только вы не считаете, что это рука Бога низверглась с небес и толкнула девочку под воду. Но кто? Сама Юджиния? Ричард? Дедуля? Жилец? Гидеон?
– Да он тогда был восьмилетним мальчиком!
– Восьмилетним мальчиком, который ревновал ко второму ребенку, сместившему его с пьедестала почета.
– Нет, с Соней это был не тот случай.
– Ну, как минимум она лишила его безраздельного внимания взрослых. Она претендовала на их время. Они тратили на нее почти все деньги. Она пила бы из этого колодца, пока он не высох. И что осталось бы делать Гидеону у пересохшего колодца?
– Ни один восьмилетний ребенок не способен загадывать так далеко вперед.
– Ребенок – нет. Зато был способен кто-то из взрослых, заинтересованный в поддержании статуса Гидеона.
– Возможно. Что ж. Все равно я не знаю, кто бы это мог быть.
Монахиня положила половинку печенья на блюдце, поднялась и пошла включить чайник еще раз, чтобы согреть воды на вторую чашку чая. Барбара наблюдала за ней, мысленно оценивая полученную от монахини информацию и поведение сестры Сесилии при их беседах на основании всего того, что ей было известно о монахинях ранее. И пришла к выводу, что монахиня говорила ей всю правду, как сама ее знала. Во время первого их разговора сестра Сесилия сообщила, что Юджиния перестала посещать церковь после смерти Сони. То есть с тех самых пор прекратились задушевные беседы Сесилии и Юджинии – беседы того рода, когда только и возможна передача самых важных и личных сведений.
Она спросила:
– А что случилось с тем, последним младенцем?
– Последним? А, вы говорите о ребенке Кати?
– Мое начальство хочет, чтобы я разыскала его.
– Он сейчас живет в Австралии, констебль. Живет там с двенадцати лет. И как я вам уже говорила в прошлый раз, если бы Катя хотела встретиться с ним, то первым делом после освобождения пришла бы ко мне. В этом вы должны мне поверить. Условия усыновления требовали, чтобы приемные родители предоставляли мне ежегодный отчет о ребенке, так что я всегда знала, где он и что он, и по первой же просьбе Кати передала бы ей всю информацию.
– Но она не просила?
– Нет. – Сестра Сесилия двинулась к выходу. – Подождите минутку. Я принесу кое-что, что может вас заинтересовать.
Монахиня вышла из комнаты. Вскоре вода в чайнике закипела, и он щелкнул, выключаясь. Барбара поднялась и заварила для сестры Сесилии вторую чашку чая, вознаградив себя за это вторым пакетиком печенья. Затолкав оба печенья в рот, она положила в чашку монахини три куска сахара. Вскоре вернулась монахиня с бумажным конвертом в руках.
Она села и разложила у себя на коленях содержимое конверта. Барбара увидела, что это письма и фотографии – любительские снимки и студийные портреты.
– Его зовут Джереми, сына Кати, – сообщила сестра Сесилия. – В феврале ему исполнится двадцать лет. Фамилия приемных родителей – Уотты, у них еще трое детей. Сейчас они все вместе живут в Аделаиде. Кстати, Джереми пошел в мать.
Барбара взяла фотографии, которые протянула ей монахиня. Они отражали почти все стадии жизни мальчика. Джереми был голубоглазым и светловолосым, хотя белокурые волосики детских лет с годами немного потемнели. Примерно в то время, когда семья переехала в Австралию, мальчик пережил период подростковой неуклюжести, но потом выровнялся и стал вполне привлекательным молодым человеком. Прямой нос, квадратная челюсть, прижатые к черепу небольшие уши – вылитый ариец, подумала Барбара.
Она спросила:
– То есть Катя Вольф даже не знает, что у вас есть все эти материалы?
– Я уже говорила: после тех событий она ни разу не пожелала увидеть меня. Даже когда настало время договариваться об усыновлении Джереми, она отказалась говорить со мной. Нашим посредником стала тюрьма: начальник охраны уведомил меня, что Катя хочет отдать ребенка на усыновление, и он же сообщил мне, когда пришло время родов. Я даже не уверена в том, видела ли Катя своего ребенка. Знаю только, что она хотела немедленно отдать его в семью и хотела, чтобы я занялась этим сразу после его рождения.
Барбара вернула ей снимки.
– Она не пожелала, чтобы ребенок жил со своим отцом?
– Нет, она настаивала на усыновлении.
– А отец, кто он?
– Мы с ней не разговаривали…
– Это я понимаю. Но вы же знали ее. Вы их всех знали. Так что у вас должны были быть какие-то свои соображения. В доме вместе с ней проживало трое мужчин, насколько нам известно: дед, Ричард Дэвис и жилец, который в то время проходил под именем Джеймс Пичфорд. Можно сказать, что вместе с Рафаэлем Робсоном, учителем музыки, их было четверо. Или пятеро, если считать и Гидеона и предположить, что Катя любила побаловаться с юными мальчиками. Ведь в одном отношении он был развит не по годам. Может, он опередил время и в чем-то еще?
Монахиня была шокирована.
– Катя не растлительница детей!
– Может, она не воспринимала свои действия как растление. Обычно женщины так не думают, когда посвящают юношей в суть дела. Да что там, есть такие племена, где пожилые женщины обязаны обучать мальчиков…
– Не знаю, как принято поступать в племенах, но ведь они не были дикарями. И разумеется, Гидеон не мог быть отцом ребенка. Я сомневаюсь… – Тут монахиня густо покраснела. – Я сомневаюсь, что он вообще был способен на… акт.
– Значит, тот, кто был отцом, имел причины держать этот факт при себе. А иначе почему он не вышел вперед и не заявил о своих правах на ребенка, когда Катя получила двадцать лет? Хотя, конечно, он мог и застесняться, узнав, что обрюхатил убийцу.
– А почему вы так уверены в том, что это сделал кто-то из дома Дэвисов? – спросила сестра Сесилия. – И почему вообще так важно знать, кто это был?
– Я не могу сказать, важно это или нет, – признала Барбара. – Но если отец ребенка каким-то образом связан со всем остальным, что случилось с Катей Вольф, то он может подвергаться серьезной опасности. Конечно, при условии, что за двумя наездами стоит Катя.
– Двумя?
– Офицер, который вел следствие по делу смерти Сони Дэвис, вчера тоже был сбит машиной. Сейчас он в коме.
Пальцы сестры Сесилии подлетели к распятию, которое она носила на шее. Сжимая его, она проговорила:
– Я не верю, что Катя имеет к этому какое-то отношение.
– Понятно, – вздохнула Барбара. – Но иногда нам приходится поверить в то, чему верить не хочется. Так устроен наш мир, сестра.
– Мой мир устроен иначе, – возвестила монахиня.
Гидеон
6 ноября
Мне снова приснился сон, доктор Роуз. Я стою на сцене «Барбикана», у меня над головой ослепительно сияют огни. Оркестр сидит за моей спиной; дирижер, лица которого я не вижу, стучит палочкой по пульту. Оркестр начинает играть: четыре такта виолончелей – и я поднимаю скрипку, готовлюсь вступить. Вдруг откуда-то из огромного зала я слышу детский плач.
Этот плач эхом отражается от стен и потолка, но я, похоже, единственный, кто замечает его. Виолончели продолжают играть, к ним присоединяются остальные струнные, и я понимаю, что вот-вот начнется мое соло.
Я не могу думать, не могу играть, ничего не могу, захваченный одной мыслью: почему дирижер не остановит оркестр, не повернется к зрителям, не потребует, чтобы кто-нибудь проявил элементарную вежливость и вынес орущего младенца из зала, позволив всем сконцентрироваться на музыке? Перед моим соло будет пауза на целый такт, и я жду ее, поглядывая на аудиторию. Но ничего не вижу из-за ослепительно ярких огней, которые в моем сне гораздо ярче, чем освещение в настоящем концертном зале. Наверное, такими лампами светят в лицо подозреваемым при допросах, по крайней мере, так это обычно представляется.
Я начинаю. Разумеется, играю неправильно. Не в той тональности. Слева от меня резко поднимается первая скрипка, и я вижу, что это Рафаэль Робсон. Я хочу сказать: «Рафаэль, ты играешь! Ты играешь на публике!» – но остальные скрипки следуют его примеру и тоже вскакивают с мест. Они возмущенно жалуются дирижеру, их крики подхватывают виолончели и контрабасы. Я слышу их голоса и хочу заглушить их своей игрой, а заодно хочу заглушить детский плач, но у меня не получается. Я хочу сказать, что это не я, что это не моя вина, я кричу: «Вы разве не слышите? Вы не слышите?» – а сам играю. И при этом наблюдаю за дирижером, потому что он продолжает управлять оркестром, как будто тот и не переставал играть.
Затем Рафаэль подходит к дирижеру, который после этого поворачивается ко мне. Это мой отец. «Играй!» – шипит он на меня. И я так удивлен видеть его там, где его быть не должно, что отступаю назад, и меня поглощает темнота зрительного зала.
Я пытаюсь отыскать плачущего ребенка и двигаюсь вдоль одного из проходов, нащупывая во тьме дорогу. Наконец я понимаю, что плач доносится из-за закрытой двери.
Я нахожу эту дверь и открываю ее. Внезапно я оказываюсь на улице, где ярко светит солнце. Передо мной большой фонтан. Но это не обычный фонтан, потому что посреди него стоит какой-то священник, весь в черном, а рядом с ним – женщина в белом, и на руках она держит заходящегося в плаче ребенка. Я вижу, как священник погружает их обоих – и женщину, и ребенка у нее на руках – под воду, и понимаю в этот момент, что женщина – это Катя Вольф, а держит она мою сестру.
Почему-то я знаю, что должен залезть в фонтан, но мои ноги вдруг тяжелеют, и я не могу шевельнуть ими. Поэтому я просто наблюдаю за тем, как из воды появляется Катя. Она одна.
Мокрое белое платье облепило ее тело, сквозь тонкий материал видны соски. Еще видны лобковые волосы, они густые, темные как ночь, они вьются, вьются, вьются вокруг ее органа, который блестит под мокрым платьем, и кажется, что она голая. Внутри меня возникает то чувство, тот прилив желания, которого я не испытывал уже много лет. С радостью я чувствую, как напрягается моя плоть, я приветствую это, я больше не думаю о концерте, с которого ушел, и о церемонии, только что произведенной на моих глазах.
Мои ноги снова получили свободу. Я приближаюсь к фонтану. Катя обхватывает ладонями груди. Но я не успеваю войти в воду и присоединиться к ней: священник преграждает мне путь, и я смотрю на него. Это мой отец.
Он подходит к ней. Он делает с ней то, что хотел сделать я, а мне остается только смотреть, как ее тело впускает его внутрь, как они начинают двигаться вместе, а у их бедер лениво плещется вода.
Я кричу и просыпаюсь.
И тут я обнаружил между ног то, чего не было уже… сколько лет? Я не мог достичь этого со времени ухода Бет. Подрагивающий, набухший и готовый к действию орган, и все благодаря сновидению, в котором я был жалким зрителем того, как наслаждался мой отец.
Я лежал в темноте, презирая свое тело, презирая свой ум, я ненавидел их за то, что они говорили мне посредством этого сна. И пока я так лежал, ко мне пришло воспоминание.
Катя Вольф входит в столовую, где все мы ужинаем. Она несет на руках мою сестру, которая уже одета в пижаму, готовая ко сну. Катя возбуждена, это сразу заметно, потому что в пылу чувств она начинает хуже говорить по-английски. Она восклицает: «Смотрите! Смотрите, вы должны, что она сделала!»
Дедушка раздраженно спрашивает: «Ну что еще?», взрослые переглядываются, и в этот момент я ощущаю напряженность между ними. Мать смотрит на дедушку, папа – на бабушку, Сара Джейн – на жильца Джеймса. Джеймс смотрит на Катю. А Катя смотрит на Соню.
Она говорит: «Покажи им, маленькая» – и усаживает Соню на пол, на попку, но не поддерживает ее рукой, как обычно, а осторожно выпрямляет ее спинку и отводит руки. Соня остается сидеть.
«Она сама сидит! – гордо объявляет Катя. – Это чудо!»
Мать поднимается из-за стола, говорит: «Какая ты у меня умница, милая!» – и обнимает Соню. Еще она говорит: «Спасибо вам, Катя», и, когда она улыбается, все ее лицо сияет восторгом.
Дедушка никак не реагирует, потому что он не смотрит на то, что показала всем Соня. Бабушка бормочет: «Вот и хорошо, вот и хорошо», не отводя взгляда от дедушки.
Сара Джейн Беккет делает вежливое замечание и пытается завязать разговор с Джеймсом. Но тот полностью заворожен Катей, он не может отвести от нее глаз, как голодная собака не сводит глаз с куска сырой говядины.
А сама Катя не сводит глаз с моего отца. «Видите, какая она молодец! – ликует она. – Видите, что учит она и как быстро! Какая молодец наша Соня, да. С Катей всем детям будет хорошо».
«Всем детям». Как я мог забыть эти слова и этот взгляд? Как я раньше не понял, что означают эти слова и эти взгляды? Потому что ясно, что они означают, и все в комнате замирают на миг, как будто сломался проектор и вместо фильма нам показывают один кадр. В следующий миг – через долю секунды – мать берет Соню на руки и говорит: «Никто в этом не сомневается, милочка».
Я видел это тогда, вижу и теперь. Но тогда я не понял всего, мне было… сколько лет? семь? Ребенок в таком возрасте не в состоянии ухватить все значение ситуации, которую он проживает. Ребенок в таком возрасте не может расслышать в единственном коротком замечании женщины, произнесенном самым любезным тоном, внезапного осознания, что ее предали в ее собственном доме и продолжают предавать.
9 ноября
Он сохранил тот снимок, доктор Роуз, помните? Все, что я знаю, сводится к тому факту, что мой отец сохранил один-единственный снимок, фотографию, которую он, скорее всего, сделал сам и потом спрятал, потому что откуда еще ей взяться?
И теперь я представляю их вдвоем в солнечный летний день: он просит ее выйти в сад, чтобы сфотографироваться с моей сестрой. Присутствие Сони на руках у Кати делает всю сцену приличной. Соня – это предлог, несмотря на то что ее держат таким образом, чтобы ее лицо было отвернуто от объектива. Это тоже важная деталь, так как Соня не совершенна. Соня – выродок, и изображение Сони, чье лицо несет на себе свидетельства поразившего ее врожденного дефекта – косые пальпебральные щели (я узнавал, как они называются), эпикантальные складки, непропорционально маленький рот, – будет служить постоянным напоминанием папе, что во второй раз в своей жизни он породил ребенка с физическими и умственными недостатками. Поэтому он не хочет запечатлевать на пленке ее лицо, но она нужна ему как оправдание.
Стали ли они уже любовниками на тот момент, Катя Вольф и мой отец? Или они оба еще только думают об этом и каждый из них ждет, чтобы другой подал некий знак, выражая интерес, говорить о котором пока нельзя? И когда это впервые происходит между ними, кто делает первый шаг и что это за шаг, который сигнализирует о том, в каком направлении будут развиваться их дальнейшие отношения?
Душной ночью она выходит, чтобы подышать свежим воздухом. Это одна из тех августовских ночей, когда Лондон находится во власти тепловой волны и некуда сбежать от давящей атмосферы, созданной загрязненным воздухом, слишком долго провисевшим над городом, причем каждый день его подогревает немилосердное солнце и каждый день его еще сильнее отравляют дизельные грузовики, изрыгающие на улицах выхлопные газы. Соня уснула, наконец-то уснула, и Катя может подарить себе эти десять минут. Ночной воздух создает иллюзию избавления от жары, затопившей комнаты, поэтому она выходит из дома, идет по дорожке в сад, и там он находит ее.
«Невыносимая жара, – говорит он. – Я весь пылаю».
«Я тоже, – отвечает она. – Я тоже вся пылаю, Ричард».
И этого достаточно. Эти последние слова и обращение к нему по имени несут в себе недвусмысленное разрешение, и вторичного приглашения не требуется. Он бросается на нее, и между ними начинается то, что чуть позднее увижу я.
Глава 20
Либби Нил никогда не бывала в квартире Ричарда Дэвиса и потому не знала, чего ожидать, когда привезла туда Гидеона из Темпла. Если бы ее спросили об этом, она предположила бы, что Ричард живет на широкую ногу, черпая из очень глубокого кармана. В последние четыре месяца он столько скандалил из-за неспособности Гидеона играть, что было вполне логично предположить, будто он нуждается в приличном доходе. То есть в регулярном поступлении крупных денежных сумм от Гидеона.
Поэтому когда Гидеон попросил ее остановиться на северной стороне улице под названием Корнуолл-гарденс, она не поверила своим глазам:
– Это здесь?
Она оглядела улицу со смутным разочарованием. Ну ладно, здания – с некоторой натяжкой – можно назвать благородными, хотя они крайне обветшали. Ну да, кое-где можно разглядеть вполне приличные домишки, но остальные строения выглядят так, как будто они не знали ремонта по крайней мере лет сто.
Дальше – хуже. Гидеон, не отвечая на ее вопрос, направился к зданию, которое еще не обрушилось только благодаря горячим молитвам жильцов – во всяком случае, такое складывалось впечатление. Он ключом открыл дверь подъезда, настолько перекошенную, что ключом здесь нужно было пользоваться только для того, чтобы пощадить чувства несчастной двери, а в принципе с задачей открывания замка справилась бы и любая кредитка. По темной лестнице они поднялись на третий этаж. Дверь в квартиру Ричарда стояла ровно, зато кто-то прошелся по ней зеленым спреем, нарисовав размашистое «Z», словно здесь отметился ирландский Зорро.
– Папа? – позвал Гидеон, распахнув дверь и входя в квартиру.
Либби он попросил подождать в гостиной, на что она с радостью согласилась, а сам скрылся в кухне.
От этого жилища у нее по спине побежали мурашки. «Вот уж никогда бы не подумала, что Ричард Дэвис может жить в подобной дыре», – говорила она себе, осматривая комнату.
Во-первых, что за депрессивные цвета? Она не считала себя сколько-нибудь умелым декоратором интерьеров – пусть этим занимаются ее мама и сестра, вот уж кто собаку съел на фэн-шуе. Но даже она, Либби, видела, что любой нормальный человек, проведя в такой комнате полдня, захочет прыгнуть с ближайшего моста. Тошнотно-зеленые стены. Поносно-коричневая мебель. И извращенные картины вроде этой голой тетки, изображенной от шеи до лодыжек, с лобковыми волосами, которые напоминают внутренности унитаза в процессе слива. Ну и что это значит, скажите пожалуйста? Над камином, служившим, как ни странно, вместилищем для книг, были прибиты какие-то странные палки. Похоже, кто-то пытался смастерить трости для ходьбы, судя по зачищенной поверхности и кожаным ремешкам, продетым в отверстия с одного конца. Но что за дикая мысль прибивать их на стену!
Только одна деталь обстановки не стала для Либби источником неприятного удивления. Она ожидала здесь увидеть и увидела множество фотографий Гидеона. Их были сотни. И все их объединяла одна и та же скучная тема: скрипка. Кто бы мог подумать, фыркнула она. Ричарду никогда и в голову не пришло бы фотографировать Гидеона, когда тот занимался чем-то, чем ему нравилось заниматься. Зачем снимать, как он запускает воздушных змеев на Примроуз-хилл? Зачем снимать, как он помогает мальчонке из Ист-Энда правильно держать скрипку, если сам Гидеон не держит ее, не играет на ней и не получает за это приличные бабки? Хорошо бы кто-нибудь пнул этого Ричарда в задницу, думала Либби. Неужели он совсем не понимает, что всем этим только ухудшает состояние Гидеона?
Она услышала, как на кухне скрипнуло открываемое окно, как Гидеон зовет отца, высунувшись наружу, видимо в надежде, что тот возится в саду, который, как заметила Либби, располагался слева от здания. Очевидно, Ричарда там не было, потому что через тридцать секунд и несколько выкриков окно снова закрылось.
Гидеон вернулся в гостиную и направился по коридору в глубь квартиры.
На этот раз он не велел Либби ждать его на месте, поэтому она последовала за ним. Оставаться в гостиной дольше было бы опасно для ее здоровья. Брр!
Гидеон методично осматривал помещение за помещением, открывая двери и окликая отца. В такой манере он миновал спальню, ванную, столовую. Либби шла следом. Она уже собиралась заявить Гидеону, что и дураку понятно, что Ричарда нет дома, так какого фига он орет как глухой, он что, потерял слух за последние двадцать четыре часа? Но она успела лишь открыть рот, потому что он толкнул очередную дверь, распахнул ее настежь, и перед Либби открылся апогей общего безумия квартиры.
Вслед за Гидеоном она вошла в комнату, вертя головой по сторонам, и чуть не подпрыгнула от неожиданности.
– Ой! Извините! – сказала она, обращаясь к солдату в форме, стоящему за дверью.
До нее не сразу дошло, что это не Ричард, переодевшийся солдатом с коварным намерением напугать их до смерти, а всего лишь манекен. Она приблизилась к нему на подгибающихся ногах.
– Вот дерьмо! Какого черта…
Оглянувшись на Гидеона, от которого хотела услышать объяснение, Либби увидела, что тот согнулся над письменным столом в дальнем конце комнаты, раскрыл все дверцы и ящики и ищет там что-то так сосредоточенно, что не услышит Либби, даже если она спросит его о том, о чем хотела спросить, а именно: какого черта Ричард поставил здесь это чучело? И еще: Гидеону известно, знает ли об этом Джил?
В комнате имелось множество витрин того типа, что можно встретить в музеях. В них были выставлены письма, медали, грамоты, телеграммы и подобное барахло, которое при более близком рассмотрении оказалось документами времен Второй мировой войны. На стенах висели фотографии того же периода, на всех них был запечатлен один и тот же парень в военной форме. Тут он лежит на животе и щурится в прицел винтовки, ну вроде как Джон Уэйн в фильме про войну. Здесь он бежит рядом с танком. А там снимок, где он сидит по-турецки на земле в центре группы таких же типов, все с оружием, причем держат свои игрушки с такой небрежностью, как будто «калашников» (или что там у них было в те годы) через плечо – это самая естественная в мире вещь. Да сегодня ни один человек с каплей здравого смысла в башке не стал бы фотографироваться с автоматом в руках! Если, конечно, он не принадлежит к какой-нибудь неонацистской группе и не орет на митингах как резаный: «Уничтожим всех, кто не белый англосаксонский протестант!»
Либби стало жутко. Назревала необходимость сваливать из этой кунсткамеры, и как можно скорее. Желательно секунд через двадцать.
У нее за спиной шуршали бумаги, с грохотом закрывались одни ящики и открывались другие, что-то падало на пол. Она обернулась, чтобы проверить, чем занят Гидеон, думая: «Теперь-то у Ричарда точно пробки перегорят, когда он увидит этот разгром». Но на самом деле ее не очень волновали чувства Ричарда: он лишь пожнет то, что посеял.
Она спросила:
– Гидеон, что ты ищешь?
– У него должен быть ее адрес. Должен.
– С чего ты взял?
– Он знает, где она. Он ее видел.
– Это он сам тебе говорил?
– Она ему писала. Он знает.
– Гид, он сам тебе так сказал? – У Либби были сомнения на этот счет. – И вообще, зачем она стала бы ему писать? Зачем ей встречаться с ним? Крессуэлл-Уайт сказал, что ей не разрешается приближаться к вам. Из-за этого она рискует снова сесть в тюрьму. А она только что двадцать лет оттрубила. Неужели ты думаешь, что она готова отдохнуть за решеткой еще три-четыре года?
– Он знает, Либби. И я тоже знаю.
– Тогда что мы тут делаем? В смысле, раз ты знаешь…
Речи Гидеона с каждым часом становились все менее вразумительными. Либби даже подумала, не позвонить ли его психиатру. Она знала, как зовут врача – доктор Роуз, кажется, – но больше никакой информацией не располагала. Может, обзвонить всех докторов по фамилии Роуз, указанных в телефонном справочнике? Сколько их существует на свете? Вряд ли слишком много. Допустим, она вычислит ту самую докторшу. И что дальше? Сказать: «Послушайте, я друг Гидеона Дэвиса, он ведет себя как-то странно, я начинаю волноваться, не поможете, а?»
Психиатров вообще вызывают на дом? И что более важно, воспримет ли доктор Роуз серьезно звонок от знакомой ее клиента, которой кажется, что клиенту стало хуже? Или она решит, что эта знакомая вскоре станет новым клиентом? Черт. Дерьмо собачье. Что же делать? Кому звонить? Только не Ричарду, это точно. От него сочувствия не дождется никто, в том числе и родной сын.
Гидеон вываливал содержимое ящиков на пол и перебирал каждую бумажку. Он уже обыскал весь стол, лишь на столе стоял нетронутый поднос с письмами, который Гидеон по какой-то странной причине – хотя кто их считает, его странности? – оставил напоследок. Теперь он приступил и к нему, вскрывая конверты, пробегая глазами листки и швыряя их на пол. Но пятое или шестое письмо привлекло его внимание. Он стал читать его от начала и до конца. Либби увидела, что это даже не письмо, а открытка с цветами, в которую вложен листок с рукописным текстом. Гидеон дочитал его и тяжело уронил руки.
Либби подумала: «Он нашел, что искал». Она подошла к нему и спросила:
– Ну что? Она и вправду писала твоему отцу?
– Вирджиния, – проговорил он еле слышно.
– Что? – не поняла Либби. – Кто? Какая Вирджиния?
Плечи Гидеона затряслись, и он сжал открытку в руках так, будто хотел задушить ее.
– Вирджиния. Вирджиния, – повторял он. – Будь он проклят. Он лгал мне.
И заплакал. Даже не заплакал, а зарыдал.
От судорожных всхлипов его тело словно выворачивалось наизнанку, грозя исторгнуть наружу все: его желудок, его мысли, его чувства.
Либби осторожно потянулась к его руке. Он позволил ей вытянуть из пальцев открытку, и она быстро проглядела написанное, желая понять, что вызвало у Гидеона такую реакцию. Вот что там было написано:
Дорогой Ричард!
Спасибо за цветы, я признательна за твое внимание. Церемония была краткой, но я постаралась сделать все так, как понравилось бы Вирджинии. Поэтому перед кремацией я повесила в часовне ее рисунки и разложила вокруг гроба ее любимые игрушки.
Наша дочь во многом была чудесным ребенком, и не только потому, что опровергла все медицинские прогнозы и прожила тридцать два года. Еще она сумела многому научить тех, кто знал ее. Думаю, ты мог бы гордиться такой дочерью, Ричард. Несмотря на все ее проблемы, она обладала упорством и бойцовским духом, унаследованными от тебя, и это ей очень помогло при жизни.
Всего хорошего.
Линн
Либби перечитала записку и поняла. «Она обладала упорством и бойцовским духом, унаследованными от тебя». Вирджиния, думала она. Еще один ребенок. У Гидеона была еще одна сестра, и она тоже мертва.
Она растерянно подняла глаза на Гидеона, не зная, что сказать ему. В последние несколько дней на него обрушилось столько ударов, один тяжелее другого, что она и представить не могла, с какого места начинать утешать его.
– Ты не знал о ней, Гид? – спросила она нерешительно. – Гидеон? – повторила Либби, не получив ответа.
Она протянула руку и прикоснулась к его плечу. Он сидел на стуле неподвижно, если не считать движением дрожь, сотрясавшую все его тело. Ей показалось даже, что он не дрожит, а вибрирует под одеждой.
– Умерла, – сказал он.
– Да, – кивнула Либби. – Я прочитала записку. Должно быть, Линн была… Ну, раз она пишет «наша дочь», значит, она была ее мамой. Что, в свою очередь, означает, что до твоей матери Ричард был женат на этой Линн и что у тебя была сводная сестра. Ты не знал?
Гидеон забрал у нее открытку. Поднявшись со стула, он долго засовывал открытку обратно в конверт, который потом положил в задний карман брюк. Тихим невыразительным голосом, каким говорят люди, находящиеся под гипнозом, он произнес:
– Все, что он говорит, – это ложь. Он всегда мне лгал. И сейчас лжет.
Он пересек комнату, слепо наступая на разбросанные по полу бумаги. Либби поспешила за ним, говоря на ходу:
– Подожди, может, он совсем не обманывал тебя.
Она говорила так не потому, что хотела защитить Ричарда Дэвиса – который, вероятно, солгал бы и о втором пришествии Иисуса Христа, если бы так было нужно для достижения его целей, – а потому, что не хотела добавлять к печалям Гидеона еще и эту.
– Если он никогда не рассказывал тебе о Вирджинии, то это не совсем ложь. Может, просто к слову не приходилось, вот и все. Может, у вас ни разу не заходил разговор на эту тему. Мало ли что. Может, это ее мама не хотела, чтобы кто-то обсуждал Вирджинию. Может, ей это причиняло боль. То есть я хочу сказать, что это совсем не обязательно означает…
– Я знал, – сказал Гидеон. – Я всегда знал.
Он прошел на кухню, Либби потянулась за ним, гадая, что означает его последняя фраза. Если Гидеон знал о Вирджинии, то в чем, собственно, дело? Он распсиховался, потому что она тоже умерла? Расстроился, что ему никто не сообщил о ее смерти? Он в ярости, что его не позвали на похороны? Только Ричард и сам не ходил, если верить той записке. Так в чем же тут ложь?
Она начала расспрашивать его, но замолчала, увидев, что Гидеон набирает номер на телефоне. Одну руку он прижал к животу, ногой нервно постукивал по полу, но тем не менее на его лице было сосредоточенное выражение. Так выглядит человек, принявший важное решение.
– Джил? Это Гидеон, – сказал он, когда на его звонок ответили. – Мне надо поговорить с папой. Нет? А где… Я у него в квартире. Нет, его здесь нет… Я проверил там. Он не говорил, что…
Последовала довольно долгая пауза, во время которой будущая жена Ричарда либо копалась в памяти, либо перечисляла все места, где мог сейчас находиться ее жених. Наконец Гидеон сказал:
– Понял. В «Товарах для детей». Хорошо… Спасибо, Джил. – Перед тем как попрощаться с ней, он сказал: – Нет. Ничего. Не надо ничего передавать. Кстати, если он позвонит, не говори ему, что я звонил. Я бы не хотел, чтобы… Да. Не будем волновать его. У него достаточно проблем.
Затем он повесил трубку.
– Она думает, что он поехал на Оксфорд-стрит за покупками. Говорит, что он хотел приобрести интерком для детской. Она не купила его сама, потому что планировала, что ребенок будет спать с ними. Или с ней. Или с ним. Или с кем-то еще. Она считает, что ребенок ни в коем случае не должен оставаться один. Потому что если ребенок остался один хотя бы на несколько минут, Либби, если за ним никто не смотрит, если родители не проявляют должной бдительности, если их что-то неожиданно отвлекло, если открыто окно, если кто-то оставил непотушенной свечу, если что угодно, то может случиться самое страшное. И оно случится. И никто не знает об этом лучше папы.
– Пойдем, – сказала Либби. – Давай уедем отсюда, Гидеон. Прошу тебя. Я куплю тебе кофе, хорошо? Наверняка здесь недалеко есть кафе.
Он покачал головой.
– Ты поезжай. Возьми машину. Поезжай домой.
– Я не оставлю тебя здесь одного. А кроме того, как ты доберешься…
– Я дождусь папу. Он привезет меня обратно.
– Да может, он не появится и через несколько часов! Или вдруг он поедет к Джил, у нее начнутся схватки, они уедут в больницу, потом у нее родится ребенок… Видишь? Он может вообще сюда не вернуться в ближайшие дни. И что, ты будешь тут торчать совсем один?
Но переубедить его она не сумела. Гидеон не хотел, чтобы она оставалась с ним, и не соглашался поехать вместе с ней домой. Он настроился на разговор с отцом.
– Мне не важно, сколько придется ждать, – сказал он ей. – На сей раз это действительно не важно.
Либби неохотно согласилась с предложенным планом; он ей не нравился, но ничего поделать она не могла. К тому же, поговорив с Джил, Гидеон как будто немного успокоился. Или, по крайней мере, стал больше похож на себя. Она попросила:
– Ты позвонишь мне, если тебе что-нибудь понадобится, ладно?
– Мне ничего не понадобится, – ответил он.