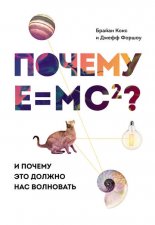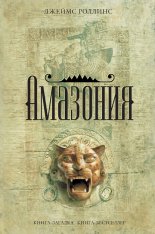Жизнь волшебника Гордеев Александр

гостю.
– Слышь, Рома, – говорит он, – возьми эту катушку себе. Бери, бери, тебе пригодится, а у меня
ещё есть.
Ромка просто не может передохнуть от радости. Такое приобретение! Это что за день сегодня
такой! Уж он-то знает, куда приспособить эту проволоку. И он тут же принимается перематывать её
в отдельный моток: если своё, так надо же к своему как-то руки приложить.
Но перемотать успевает лишь половину. Отец встаёт из-за стола, берёт мешок с запчастями и
фотоаппаратом – пора шагать на автостанцию.
По улице Ромка, кажется, не идёт, а летит на валенках в подкрылках. Ох, уж эти новые валенки!
А фотоаппарат – это чудо машинка, которой он карточки делать будет! А проволока, которую он
сегодня вечером домотает дома! Сколько фантазий по поводу всех сегодняшних приобретений!
Быстрей бы теперь со всем этим домой из такого чудного, щедрого города! Отец же плетётся себе
что-то еле-еле. Ещё и за руку взял, так что валенки приходится нести с одной стороны. Ромка
постоянно заглядывает вперёд: да где же она, эта автостанция? Идут они долго, всё кругом
незнакомо, потом заворачивают за угол и вот она – автостанция. С вывеской и со скамейкой у
крылечка – теперь уж совсем рядом. Ну, уж тут-то не заблудишься! Добежать бы до скамейки да
подождать там отца. Вырвав свою ладошку, он потуже перехватывает валенки под левой рукой и
косо, изображая истребитель, перегруженный на одно крыло, пробегает мимо капота стоящего у
обочины автобуса и вдруг – прямо под колёса другого!
И Михаил всё это видит. Видит тот пустой автобус, круто и лихо заворачивающий во двор
автостанции, видит Ромку, бегущего прямо на него, видит, как от удара бампером его сынишка,
свернувшись комочком, отлетает вперёд, как разлетаются по дороге его новые валенки, как
настигает его колесо с отчётливым протектором. Только колесо в этот момент уже не вращается, а
идёт юзом. Метра два оно скользит по прикатанной дороге и лишь однажды перекувыркивает
Ромку. У сына слетает шапка, из карманов выпадают катушка и моток с проволокой. Его
перепуганный сын-беляк быстро вскакивает, отбегает в сторону, но, увидев, что автобус уже не
движется, словно прильнув колёсами к скользкой дороге, бросается собирать своё добро.
Огарыш ослабело стоит и не может шагнуть. Из автобуса выскакивает молодой водитель с
белым, как печка лицом. То ли по оцепенелому виду, то ли по их телогрейкам, то ли потому, что в
Михаиле с его мешком, клейменным буквами «ММ», сразу угадывается деревенский, водитель тут
же догадывается, с кем шёл этот белобрысый пацанёнок, и хватает Михаила за ворот. Никто,
никогда не дёргал так когда-то дерзкого и хлёсткого в драках Огарыша, и никто никогда не
обкладывал его такими матюгами, как этот молокосос. Водитель даже замахивается на него, но
потом медленно опускает руку, потому что помертвевший Огарыш даже не моргает на его замах.
У Ромки побаливает бедро, но не так чтобы очень: на лыжах ушибался и сильнее. Теперь ему
жалко отца, которого из-за него так матерят. Быстренько подобрав и шапку, и катушку, и валенки,
он подходит к водителю, не стесняясь и без боязни, дёргает его за край куртки и, глядя
голубенькими глазами прямо в глаза, просит:
– Дяденька, вы не ругайтесь, он не виноват. А я больше не буду так делать…
Водитель удивлённо с полминуты смотрит на него, потом, отмахиваясь руками, словно говоря
«чур меня, чур меня», вскакивает в кабину и пытается закурить, ломая о коробок одну спичку за
другой. Молодой, но уже достаточно тёртый шофёр и сам не поймёт своего внезапного страха.
Сначала был испуг оттого, что он чуть было не задавил пацана, выскочившего на дорогу, но теперь
тот первый страх смят вторым, более сильным. В голубеньком, почти ангельском взгляде
мальчишки, только что побывавшего на краю жизни, он вдруг увидел нечто совсем противное
ангельскому. Странная глубина, почти бездна плеснула из его глаз. Как будто мальчишка заглянул
в пропасть, и пропасть оказалась сфотографированной его взглядом. Нервно сплёвывая крошки
табака от сигареты, водитель наблюдает потом за ними, одинаково одетыми во всё чёрное.
Совершенно трезвый мужик идёт словно на ватных ногах, а ребёнок, только что получивший
потрясающий опыт, осторожно и заботливо оглядываясь на дороге, переводит его, как поводырь
слепого. «Демон, это просто какой-то демон», – думает водитель про пацана, и сам удивляясь
тому, откуда в голове всплыл этот «демон», откуда он вообще знает это слово.
Ромка же отчётливо понимает, что уж на этот-то раз ему обязательно влетит и, наверное, чего
доброго ремнём. И это несмотря на все сегодняшние подарки. Но с отцом как будто что-то стало.
Потом, когда они уже входят в сумрачную, деревянную автостанцию, Огарыш, обмякло
плюхнувшись на скамейку, притягивает Ромку к себе и долго, как-то бездумно, гладит по голове,
чего уж вообще никогда в жизни не бывало.
– Ох, ну какой же он молодец… Какой молодец…. И как он только тормознуть успел… –
медленно произносит он, но все как будто для себя самого. – И, главно, тормознул-то передком…
21
Ведь могло и задёрнуть. И почему он меня не ударил? Лучше бы ударил. Злой-то какой был.
– Он был не злой, – не соглашается Ромка. – Он светлый весь. Он просто испугался, да и всё.
– Как это «светлый»? – автоматически спрашивает Михаил.
– Ой, папа, ну я не знаю, как это светлый. Просто он такой. Я сейчас почему-то всех цветными
видеть начал. И ты тоже светлый – жёлтый такой.
– Пожелтеешь тут с тобой, – бормочет ошеломлённый Огарыш, не понимая его странных слов.
И потом в автобусе он всю дорогу молчит, не отпуская сына на какое-нибудь свободное место,
которых пол-автобуса.
– Ну, что же ты так-то, а? – тихо говорит он уже около самого села, словно у самого же Ромки
ища сочувствия. – Ну, вот приехал бы я сейчас один, да матери-то чо бы сказал, а? Она бы не
вынесла… Уж она-то точно бы не вынесла… Это я – крепкий…
– Папа, я ещё где-то пуговку потерял, – насмелившись, сообщает Ромка для того, чтобы отец
заступился перед матерью, – она, наверно, там оторвалась…
Михаил отстраняет его на вытянутые руки и смотрит откуда-то издали. Видя потупленный
взгляд сына, он снова не может вымолвить ни слова: горло набухает непроходимой тяжестью. Вид
у сына вроде бы и виноватый, а всё равно вроде как радостный, будто он прошёл через какое-то
весёлое приключение, будто заглянул к соседу за высокий забор с колючей проволокой, да ничего
кроме рядов спелой малины там не увидел. Отец и сын смотрят друг на друга из разных миров. В
мире сына ещё, оказывается, нет смерти (или она для него какая-то другая). Он пока ещё как трава
или как птенец. И уйти мог бы, так ничего не поняв. Уйти из этого мира, даже не узнав, что в нём
существует смерть. Это почему-то и вовсе кажется невозможным. И эта разница их миров с новой
силой потрясает Огарыша. Он чувствует вдруг даже какую-то неразделённость, одинокость своих
переживаний: Ромка-то, оказывается, ещё совсем не тум-тум. Зимняя муха, муравей на лыжах…
Сын непонимающе смотрит в блестящие глаза отца, которые рядом, и уж совсем пугается, видя,
как из отцовского глаза катится внезапная слеза и отвесной линией скользит по щеке с чёрной
щетиной. Никогда не видев отца таким, он тоже отворачивается и сопит. .
…Из армии Романа ждут – не дождутся. Мать покупает ему несколько рубашек. Первую из
купленных Огарыш решительно бракует.
– Но-о, купила каку-то распашонку, – ругается он, – он же, поди, подрос, или чо?
– Ну а какой же у него размер-то теперь?
– Да бери как на меня, токо чуть поболе, с запасом, – советует Михаил, – он же вымахал-то,
поди, ой-ё-ёй…
Не сосчитать, сколько раз успевают они беззлобно переругаться до возвращения своего
единственного сына. *2
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Странный дембель
Роман сидит на крашенном охрой горячем от солнца крыльце, держа на ладони ключ, и через
два года привычно нащупанный всё там же – над дверной колодой. Эта-то привычность и
заставляет его остановиться. На лбу солдата сохнут капельки пота, зелёная фуражка, отпотевшая
изнутри, лежит рядом. Вокруг всё своё, родное. На крыше сарая блестят клёпаные алюминиевые
санки – наверное, он-то и забросил их туда ещё в детстве после последнего катания с горы, только
тогда их деревянные планки не были такими облупившимися и серыми. Там же валяется ржавый
конёк и полуистлевший валенок… Но не хочется сейчас полностью отдаваться этому душевному
пощипыванию: не время рассыпаться по этим милым, конкретным мелочам… Всё это потом,
постепенно – завтра, послезавтра… Спешить уже некуда. Теперь он тут надолго, возможно, на всю
жизнь. Сейчас хватает и одного цельного чувства – хорошо просто сидеть и дышать родным.
Роман видит, что первым на большие шаги к дому спешит отец. Он того и ожидал, что весть о
его приезде сама найдёт родителей: и в автобусе ехал с односельчанами, и здесь сидит на виду
всей улицы. А шаги-то у отца, кажется, уже чуть-чуть не те: ломкие, вязкие. Ноги, что ли, как-то не
до конца распрямляются? И руками он теперь как-то короче размахивает. Наверное, если б не
торопился, то не бросалось бы это в глаза.
Роман по привычке, как при появлении старшего, надевает фуражку. Отец и сын сходятся у
калитки. Встряхивают друг друга за руку, встречаются глазами, но не обнимаются и тем более не
целуются: такие нежности между мужчинами в семье не приняты.
– Ну, здорово, батя, – говорит Роман.
– Дорово, дорово, – отвечает Михаил, блестя глазами, – как доехал-то, ничо? Нормально?
– Нормально, – отвечает Роман, улыбаясь про себя: да какая разница как доехал, если дома
два года не был? Хотя, конечно, и дорога была непростой, но это уж другая песня.
Входят в дом. Михаил, накинув кепку на «спичку» (слово, которое Роману вспоминается вдруг),
22
или на гвоздь, вбитый в стену, суетливо выскакивает с чайником на веранду. Роман даже замирает:
отец случайно задевает ковшом о край бочки, и этот звук раскатывается в душе – надо ж, как живёт
здесь всё своё: и бочка та же, и ковшик, и чайник, и звуки. И вкус воды из этой бочки, конечно, тот
же, который нельзя было забыть. Роман медленно обходит комнаты, рассматривая столы, шкаф,
стулья, комод, окна, кивая головой, здороваясь и словно соглашаясь со всем и согласуя себя со
всем своим. На комоде много разных мелких сувенирчиков, к которым умильно и трогательно
тяготеет мама. Прямо целая выставка. И все эти игрушки знакомы. Среди простых сельских вещей
они всегда казались чем-то чудесным, пришедшим из какого-то большого, более цветного мира.
Особенно контрастирует со всем деревенским изящная фарфоровая статуэтка девочки с синими
глазами. Романа ещё в детстве подмывало спросить у мамы, откуда она? Кто её подарил? Но не
спрашивал, откладывал, не понимая, чего больше ему хочется: знать о ней или не знать, чтобы
оставалась тайна. Однажды, когда был ещё совсем маленьким, спросил лишь об одном: «Мама, а
как эту девочку зовут?» Маруся взяла в руки статуэтку, повертела её так и эдак. «Не знаю, сына, –
задумчиво ответила она и тут же оживилась, будто впервые увидев. – Ой, а глаза-то, глаза-то у неё
какие синющие! Прямо страсть! Вот если бы у меня была такая доча, то я называла бы её
Голубикой». «Голубикой, – засмеялся Ромка, но с какой-то стыдливой неловкостью – очень уж
удивило и понравилось ему это имя, – нет, мама, так девочек не зовут». «Да, знамо дело, не
зовут… А может, и зовут, кто его знат…», – ответила Маруся, посмотрела на сына, потом куда-то в
угол комнаты, словно вдаль, как в какую-то мечту и, вздохнув, поставила статуэтку на комод.
А вот в зеркале шкафа он в своей военной форме выглядит непривычно, как будто не
соответствует своему дому. Сняв китель, Роман выходит на яркую, освещенную веранду к отцу,
который с пристрастием изучает белое нутро холодильника.
– А лысина-то у тебя увеличилась, – грустно замечает Роман.
– Да уж, так получатца, – даже как-то польщёно смеясь, откликается отец, – думал, пойду в
седину, а пошёл в лысину. Седых-то ни волоска. Сразу живыми осыпаются, и всё.
Он принимается рассказывать про их житьё-бытьё, но от радостной взбудораженности как-то
всё не о том. Интересно ли теперь это сыну? Теперь Ромка (да какой уж он теперь Ромка –
настоящий Роман) даже как-то непривычен. А вымахал-то как: подтянутый, тонкий, кисти рук – как
клещи, а лапы, чего доброго, сорок последнего размера. Про тех, кто приходит из армии, говорят –
возмужал. Возмужал и сын, но только его возмужание продвинулось как-то не «по линии»
Михаила. Огарыш быстрый и шебутной, а в Романе обнаруживается квадратность плеч, солидная
неспешность, с продуманностью каждого жеста, грудной голос, теперь уже полностью
сгустившийся до баса. Откуда это в нём? Видать, пробивает что-то по естественной родове,
которую никто из них не знает. Странно, что Огарыш, вырастивший его, вдруг чувствует перед
сыном неловкость и лёгкую робость. Ему вдруг кажется, что Ромка-Роман такой, каким он
вернулся, ни за что и ни в чём не послушается его. Всё – теперь он уже полностью сам по себе.
Чайник ещё не успевает и зашуметь, как массивно, но торопливо, раскачиваясь из стороны в
сторону, приходит Маруся. Она была в магазине, когда ей сообщили новость, а потом ещё и по
дороге два раза поздравили с возвращением сына. Первое, что она, запыхавшаяся, видит в зале
перед круглым столом, покрытым красной бархатной скатертью, – это сержантский китель с
зелёными погонами, аккуратно висящий на спинке стула. И у неё уже всё плывёт перед глазами.
Роман, слыша её шаги по скрипучим половицам веранды, выходит из кухни и попадает в объятия.
Пригнув сына к себе, Маруся зацеловывает его до того, что Роману приходится со смехом и
растроганностью вытирать ладонями лицо. Есть у Маруси такая особенность, как слёзная
чувствительность. Встречая родных (да и провожая тоже) она всегда плачет, не стыдясь и не
стесняясь никого, потому что для неё естественно. Кто-то может кричать, хлопать по плечам,
размахивать руками, у кого-то при этом наворачиваются слёзы на глаза, а Маруся обильно и
растроганно плачет.
А вот у неё-то при виде сына и тени робости нет – мой, и всё. Рослый, сильный и красивый?
Значит, ещё больше мой! Маруся невольно присматривается к Роману – выпрямила его армия или
нет? Плечи сына чуть перекошены с рождения. Михаил, помнится, всё переживал – вдруг на
медкомиссии забракуют да служить не возьмут? А разве можно парню без армии? Он же потом и
сам себя человеком считать не будет. Когда Роман вырос, то плечи оказались широкими и
прямыми, ещё сильнее подчёркивая перекос. Но ничего, взяли, вроде не заметили. Теперь же
видно, что и военная выправка его плечам не помогла. И снова для Маруси этот неправильный,
всё же менее заметный, но теперь уже родной перекос – напоминание о трудной его судьбе.
– Но-о, развылась! – ради порядка прикрикивает на неё Огарыш, правда, позволив сначала
источить основную порцию слез.
– А чо же не повыть-то, – говорит Маруся, сморкаясь в платочек, – сыоночка вернулся. Я ить
говорила, говорила же тебе, что сёдни приедет. Я же чую.
– Чуешь, чуешь, – соглашается Огарыш, от волнения нарезая сало неровными брусочками. – Ты
это каждый день чуяла, причём, три недели подряд…
Немного успокоясь, Маруся ещё раз прижимает Романа, но уже как-то завершающе,
23
освобождённо от переживаний, на другом настроении: всё, факт свершился, надо привыкнуть. Сын
дома, здесь, рядом. Вот и хорошо.
– Ну, ладно, готовиться начну, – однако, опять же чуть не расплакавшись, но уже на какой-то
другой волне, сообщает она, – вечером людей соберём. Ты своих друзей пригласи…
– А может, не надо всего этого? – говорит Роман. – Отслужил да и отслужил… Все служат.
– Ну прямо, не надо тебе! – тут же строго прикрикивает мать. – Мы чо же, не ждали тебя, или
чо? У нас уже всё запасено. Вино и то выдюжило. Папка вон чуть слюной не захлебнулся, а
вытерпел…
При этом она зыркает на Михаила, напоминая тому о чём-то, правда, не особенно того смутив.
– Но-о, мать-перемать, не захлебнулся тебе! – возмущается отец, но уж как-то слишком
«показательно», с горделивой ноткой за свою выдержанность.
– Давай, давай полайся, – говорит Маруся, – пусть сын-то послушат, давненько тебя не слышал,
соскучился поди.
– Но-о, послушат тебе, нашла тоже ребёнка, а то он в армии-то ничо такого не слыхал… Ты
думашь чо? А, да ничо ты тут не понимаш…
* * *