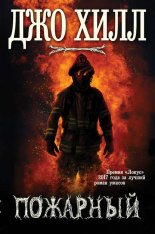Не уходи Норк Алекс

Она оборачивается:
— Ты что-то сказал?
Чайковский покрыл все. Она не услышала. А может быть, и услышала — и немного пошатнулась именно от этого.
В этот вечер у нас любовь. Парадом командует твоя мать, я никогда не знал ее такой. «Тише… — посмеиваюсь я, — тише». Но она делает со мною все, что ей нужно, у нее свои планы. Эльза обрушивает на меня бездну застоявшейся энергии, сегодня ночью я у нее вроде заземления. Разыгрывается эротический фарс, она его позаимствовала то ли в какой-то книжке, то ли в кино. В общем, она решила, что в эту ночь будет испепеляюще страстной. И вот я — предмет этой страстности, попавшая ей под руку мишень, ломовой жеребец, которого заставили нестись вскачь. Сейчас она скользнула и постанывает где-то под моим животом… Я вовсе не привык видеть ее такой покорной. Я даже чувствую себя виноватым — получается, что в угоду мне Эльза готова на любое распутство. Я хочу уйти, удрать из этой постели — но остаюсь. Теперь и я разошелся, я взглянул на ее лицо и подумал, что… И эта мысль распалила меня невероятно. Навалившись на твою мать, я делаю ей больно. Я заталкиваю ее в изножье кровати и беру словно козу, и, пока это длится, я спрашиваю себя, что же это я такое вытворяю…
После этого она лежала подо мною, словно раздавленное яйцо, слегка ворочалась в своей расколотой скорлупе и смотрела на меня с каким-то новым намерением. Выражение у нее было счастливое и коварное, как у ведьмы, которой удалось колдовство. Впервые с тех пор, как я с ней познакомился, я подумал: «Боже мой, как я хочу ее оставить!..»
Маленькое тело моей любовницы чуть наискось лежало на краю постели, а я смотрел на то местечко, где худенькая спина переходила в ягодицы. Перед этим я ее буквально облизал — язык мой прошел от ее прически до самых ступней, забрался во все впадинки и даже в промежутки между пальчиками. Италия ежилась от удовольствия и от холода. А на меня вдруг накатило желание любить ее вот так, пядь за пядью, без движений, без слов. Все происходило не так, как раньше, не было больше никаких яростных соитий, не было ослепления — всего, что прежде считалось нашим. Я приучился укладывать ее на постель, и просил лежать смирно, и принимался целовать, только целовать. Мне хотелось, чтобы она через мои ласки почувствовала себя. Уставшим от напряжения языком я обходил ее всю, в конце никакой слюны во рту уже не было. В близости она не ведала никакого стыда, была почти наглой, однако же стеснялась своих мозолистых подошв — и любви стеснялась безмерно. Я входил в нее лишь напоследок, когда был совсем уже без сил; я забирался в нее, словно пес, который много дней несся через чащи, терновые кусты и каменные завалы, — и вот, дойдя до полного изнеможения, разыскал наконец свое прибежище.
— Оставь меня, — шепотом просит она. Голос у нее тих и холоден, словно металлическое лезвие.
— Что ты такое говоришь…
Я подхожу, глажу по сиротливой ее спине.
— Я не могу так… Я больше не могу… — Она отчаянно мотает головой. — Лучше сейчас… знаешь, прямо сейчас…
Она охватила лицо ладонями.
— Если ты хоть немного меня любишь, отпусти меня.
Я с силой прижимаю ее к себе, ее локти упираются мне в грудь.
— Я никогда, никогда тебя не оставлю.
И я так уверен в том, что говорю, что все мое тело подбирается и каждая его клетка наливается силой, пока я обнимаю ее, — вокруг меня словно бы появилась броня, наделяющая меня неодолимой мощью. И так вот мы с нею замираем — каждый устроился подбородком на плече другого, и каждый смотрит в свою собственную пустоту.
Боже мой, дочь моя, что же это означает — любить? Знаешь ли ты это? Для меня любить означало стеречь дыхание Италии, держа ее в объятиях, и понимать при этом, что все прочие звуки перестают существовать. Я ведь врач, я умею улавливать пульсации своего сердца — даже когда мне этого не хочется. Так вот, я клянусь тебе, Анджела, то сердце, что во мне тогда билось, было вовсе не моим. Это было сердце Италии.
А ей все время снился один и тот же сон. Она видела, что уходит ее поезд, но уходит без нее. Она заранее приходила на станцию, на ней было красивое платье, она покупала цветной журнал, потом ходила туда и сюда под станционным навесом — абсолютно спокойно. Поезд стоял рядом, он ждал ее, это был красивый поезд, с красно-серыми вагонами, — так она рассказывала. Она должна была вот-вот в него сесть — но мешкала, рылась в сумочке, ища билет. Потом старалась прочесть название конечного пункта, а время уходило… Поезд трогался, она оставалась на перроне, и сумочки при ней уже не было, на ногах не было туфель. Станция у нее за спиной зияла пустотой, а сама она вдруг оказывалась голой — «как на музейных картинах», сказала она. И добавила, что этот сон мучил ее с ранней юности, потом он перестал ей сниться, и только вместе со мною он появился снова.
Я подозреваю, Анджела, что в снах мы себя наказываем и корим. И лишь очень редко мы в них себя награждаем.
— Дай мне ладонь, — попросила она. — Левую ладонь.
Она ее расправила, потом провела своей ладонью по моей, словно хотела ее протереть, очистить от пыли всяких прочих обстоятельств, не имевших к нам ни малейшего отношения.
— У тебя линия жизни длинная, только в середине разрыв.
Я в эти глупости не верю и пожал плечами.
— И что этот разрыв означает?
— Что помучаешься — и переживешь.
И вот теперь я спрашиваю себя: не означал ли этот разрыв твоего появления на свет, Анджела, не тебя ли обнаружила Италия на моей ладони?
— А теперь посильнее сожми кулак, посмотрим, сколько у тебя будет детей.
Она внимательно разглядывала на моем кулаке складочки возле мизинца.
— Одного я уже вижу… А вот и второй… Поздравляю! — И она засмеялась.
— Хорошо, а ты? — сказал я. — Покажи-ка теперь свою руку, какая там у тебя жизнь?
Она поднялась на ноги, все еще смеясь.
— Не волнуйся, она длинная-предлинная, дурную траву так просто не выполоть, недаром мать прозвала меня Крапивой.
Когда мы уже попрощались, она вдруг побежала следом, вцепилась в меня.
— Никогда не принимай всерьез, если я прошу меня оставить. Держи меня, держи меня крепче, прошу тебя. Приходи, когда по-настоящему захочется… Раз в месяц, раз в год — но не отпускай меня…
— Я буду тебя держать, не сомневайся. Я люблю тебя, Крапива.
Она разразилась слезами, заплакала взахлеб, лавина слез обожгла мое лицо.
— Ну что с тобою, что?
Щеки у нее были красными, покрасневшие глаза смотрели мне прямо в лицо, кулаками она молотила по моей руке.
— Я сплю с мужиками с двенадцати лет, но никто мне еще не говорил «я тебя люблю». Если ты это смеха ради, я убью тебя!
— Вот этими кулачками?
— Вот этими самыми.
А ты, Анджела, успела позаниматься с кем-нибудь любовью? Я хорошо помню день, когда в тебе проснулась женщина, это было три года тому назад. Ты была в школе, учительница английского отвела тебя в кабинет директора, ты позвонила матери в редакцию, она приехала и отвезла тебя домой. В машине она шутила, ты в ответ слабо улыбалась, как улыбаются больные, была рассеянна, немного раздражена. Ты этого момента давно ждала, но сейчас жалела, что растешь. Ты ведь всегда была девочкой самостоятельной и ершистой, привыкшей самой решать свои дела, этакая двенадцатилетняя независимая сыроежка. Твое тело было совсем детским, куда более детским, чем у подружек, да и мысли твои и игры были еще детскими. Но внутри тебя что-то вдруг двинулось и разрешения не спросило. Созрела первая яйцеклетка — и лопнула. Кровь означала, что детство кончилось.
Я об этом узнал от твоей матери, она поджидала меня у выхода из больницы. Она сияла, она была уже не той женщиной, которая утром вышла из дома и поехала по делам; на ее лице я увидел выражение, какое бывает у акушерок, принявших роды. Вы, женщины, так переменчивы, вы так живо хватаете жизнь и все, что в ней есть, вы не пропустите ни одного ее мотылька. Мы же, мужчины, выстроились в колонну у вашей стены, как дождевые черви. Я, помнится, заулыбался, никак не мог попасть в рукава пальто. Ты лежала на постели, я помню твои расширенные черные глаза, твое удлинившееся лицо, которым ты напомнила мне отощавшую кошку.
Я приближаюсь, склоняюсь над тобой:
— Анджела…
Ты слегка улыбаешься, от этой улыбки бледная кожа лица чуть морщится.
— Привет, папка.
Я столько хотел бы тебе сказать, но не могу произнести ни слова. В эту минуту ты не принадлежишь никому, кроме своей матери, я у вас только неловкий гость, из тех, что ненароком опрокидывают стаканы. Ты держишь руки на животе, ноги у тебя подогнуты, двигать ими не рекомендуется. Ты моя хрупкая травка, ты мой самый любимый аромат, единственный в мире. Сколько раз я раскачивал твои качели, сколько раз твоя спина летела обратно, прямо мне в руки. И я не остановил этих мгновений, я дал им улететь, да, наверное, мне и раскачивать тебя не очень-то хотелось, я норовил поскорее пробежать последние новости в газете… Теперь я легонько касаюсь твоего лба.
— Молодчина, — говорю я. — Молодчина!
У себя в кабинете, под просторным абажуром в стиле модерн, который направляет круг теплого света на мой письменный стол и на мою лысую голову, я не перестаю думать о тебе. Я укрылся здесь, оставив вам, женщинам, весь остальной дом и возню с белыми простынями, и с ватой, и с этой первой кровью. Твоя мать заварила чай, отнесла его к тебе в комнату на лондонском подносе, расписанном кошками. Вы будете макать в чай бисквиты, сидя со скрещенными ногами на коврике, как две закадычные подружки. Сегодня день совершенно особый, мы не выходим и никого не принимаем, мы сидим в тепле и не будем ужинать. Я в одиночку поем на кухне немножко сыру, но это будет позже. А пока я думаю о том дне, когда ты окажешься в постели с мужчиной. Какой-то неизвестный мне парень приблизится к тебе, протянет руки, у него будет своя собственная история. Он приблизится к моей долговязой девочке, и вы займетесь уже не обменом цветных наклеек и не выяснением того, чья очередь сесть на качели, — он опрокинет тебя навзничь и погрузит в тебя свое мужское естество. Я даже прикрываю руками глаза — картинки, которые танцуют передо мною, слишком невыносимы. Я ведь твой отец, и то, что у тебя между ног, для меня все еще та неоперившаяся милая штучка, из которой нужно было вымывать песок после игр на пляже. Но я ведь еще и мужчина. И именно я был тем угрюмым варваром, который силой взял эту женщину, эту начинающую стареть девчонку. Я сделал это, потому что сразу полюбил ее. И вот, протирая глаза, чтобы загнать обратно, в небытие, тот непривлекательный образ себя самого, я вижу спину другого самца, который, исходя мужской истомой, приближается к тебе. И тогда я в воображении беру его за шиворот и говорю: помни, что ты делаешь, это Анджела, она — самое главное в моей жизни. Но тут же отпускаю руку. И отгоняю все эти мысли, такие обидные для тебя. Я не имею никакого права представлять себе, как ты станешь заниматься любовью. Это будет так, как тебе захочется. Это у тебя будет красиво и нежно. Это у тебя будет с мужчиной куда лучше меня.
Сегодня день моего рождения. Это вовсе не та дата, которую я готов принять с удовольствием; несмотря на прожитые годы, ко мне неизменно возвращается горечь, которую я в этот день испытывал еще мальчиком. Школы в эту пору закрыты на лето, приятели мои обретались неизвестно где, так что настоящего праздника никогда не получалось. По мере того как я рос, я и сам стал игнорировать эту дату. Я и мать твою просил, чтобы она не теряла времени на устройство праздничных сюрпризов, которыми меня никто удивить не может. Она на мои убеждения поддалась, а я, хоть и никогда ей этого не говорил, был на нее сердит за то, что она столь легко со мной согласилась.
День выдался не самый лучший. Солнце задыхалось где-то за грудой известкового цвета облаков. Мои тесть и теща, едва вернувшись из круиза по Красному морю, явились к нам с визитом. Днем мы снова расселись на берегу под зонтиками. Бабушка Нора демонстрировала свой загар, испещренный пометками врача-косметолога, выводившего ей старческие пигментные пятна. Надо лбом дедушки Дуилио нависал козырек фуражки, какие носят капитаны дальнего плавания. Летом он всегда так одевается — короткие штаны, гольфы, натянутые на крепкие еще икры, веревочные башмаки. Сидя на низеньком пляжном стульчике, он барабанил пальцами по коленям, отбивая ритм своего многозначительного молчания. Мне с моим тестем всегда было довольно неуютно. Ты-то знаешь его таким, каков он сегодня, — отрешенным, милым и очень хорошо к тебе относящимся. Но шестнадцать лет тому назад он еще сохранял весьма надменные повадки, ему не хватало снисходительности, — правда, то и другое помогло ему сделать в профессии очень хорошую карьеру. Он был одним из ведущих архитекторов этого города, и, когда умрет, его имя непременно присвоят какой-нибудь улице. Сейчас он только вступает в возраст, называемый пожилым, и ему трудновато довольствоваться скромной участью в светских сборищах, на которую его обрекают года. С женой он всегда обращался ужасно, но та была слишком поглощена собой, чтобы это замечать. Эльза питала к отцу неподдельное уважение, в первые годы нашего брака она уделяла ему столько внимания, что мне даже обидно становилось. Когда в доме присутствовал он, для меня места не оставалось. Потом, с течением времени, положение стало смягчаться. Он все больше старел, но я, к сожалению, тоже. Теперь он проводит дни, сидя перед телевизором в компании маленькой филиппинки, которая за ним ухаживает, и мы с ним добрые друзья, ты это знаешь; если я раза два в неделю не загляну к нему и не померяю давление, он безмерно обижается.
Обняв руками голову, Эльза лежала на боку и разговаривала с матерью. В особо коротких отношениях они никогда не были, при жизни Норы Эльза не могла простить мамаше ее легкомыслия. Эльза, как и ее родитель, никогда не была снисходительна, именно в этом крылась ее подлинная слабость. «Моя мать такая добрая, — говаривала она, — и такая дура». Когда Нора умерла, она как по волшебству тут же перестала быть дурой. Твоя мать, подстегиваемая какими-то таинственными изгибами своего бессознательного, принялась лепить ее заново, совершенно другой женщиной, чуткой, ранимой и волевой, всегда бывшей для нее, дочери, светлым примером. Вплоть до того дня, когда она тебе сказала: «Твоя бабушка не обладала такой уж выдающейся культурой, но она была самой умной женщиной, какую мне довелось знать». Я взглянул на нее с изумлением, она спокойно выдержала мой взгляд. Твоя мать умеет забывать, умеет расставлять все вещи именно в том порядке, какой ей нужен в данную минуту. С одной стороны, это ужасно, а с другой — она ведь придает всему, что ее окружает, способность постоянно обновляться! Должно быть, и я в ее руках множество раз возрождался с совершенно новыми свойствами и ведать об этом не ведал.
Вот так я и жил-поживал, погруженный в тишину установившейся и всеми признанной жизни. В ней я был свободным человеком, и у меня не было нужды от кого-либо прятаться. Люди меня знали, моя жена и тесть — тоже. Все, все меня знали. И тем не менее мне казалось, что именно эта моя жизнь всего лишь параллельна другой, настоящей, а вовсе не наоборот. Та, в которой была Италия, и говорили мы шепотом, и прятались по углам, была жизнью подлинной. Она была подпольной, пугливой, ей не хватало неба — но она была подлинной…
Какая-то женщина решила выкупаться в холодном уже море, голова ее то исчезала, то вновь появлялась среди барашков пены. Потом женщина показалась из воды по пояс. Выжала волосы, скрутив их, потрясла головой, дошла до берега. По мере все уменьшавшейся глубины ее тело наконец обрисовалось полностью. На ней был купальный костюм бикини бирюзового цвета. Загар отсутствовал. Белый живот слегка выдавался вперед, как у ребенка после сытного обеда. Она шла прямо ко мне, покачивая костистыми бедрами. Мне показалось, что я слышу шелест ее дыхания, шум морских капель, скатывавшихся на ходу с ее тела и падавших на песок. Мне показалось даже, что я уже поднимаю руку, чтобы ее остановить, но на самом деле никаких жестов не было. Все выглядело неподвижным, как бы замерзшим. Двигалась только она, двигалась как в замедленной съемке. Засевший в своем укреплении из камней, я ожидал, что будет дальше. Она прошла мимо, и я даже не нашел в себе смелости проводить ее взглядом — шея у меня от потрясения словно окоченела, она отказывалась двигаться. Но мираж этот так и остался у меня в зрачках, остались колеблющиеся линии силуэта, который надвигался на меня, оставляя на песке следы босых ног.
Между тем мир вокруг снова стал звучать — шум поднявшегося ветра, болтовня тещи и надсадное дыхание тестя; так бывает, когда вы приближаетесь к берегу на лодке и гомон пляжа понемногу начинает доноситься до вас. Я обернулся — но за спиной увидел только мучнистую стену дюн. Италия исчезла.
Остаток дня я провел будто в трансе. Все мне казалось чрезмерным — слишком пронзительными были голоса, слишком надуманными выглядели жесты. Что это за тупые люди жили вокруг меня, в моем собственном доме? И подумать только — когда-то мне казалось, что я совершу великолепный социальный прыжок, если породнюсь с респектабельным семейством этих дураков! За ужином я с трудом мог поднести вилку ко рту, расстояние от тарелки до губ вдруг стало таким длинным… Я встал из-за стола и пошел в ванную. В коридоре тещин йоркширский терьер выпрыгнул из темного угла, гавкнул, оскалил зубы. Я наградил эту салонную собачонку увесистым пинком. Та, визжа, ринулась к хозяйке, которая уже спешила навстречу.
— Извини, Нора, я нечаянно его задел.
В одной из комнат второго этажа я улегся на пол, на ковер. Я чувствовал себя червяком, из тех, что летом повисают на иссохших виноградных лозах и, если легонько щелкнуть по лозе пальцем, падают на землю без малейшего сопротивления.
После ужина Эльзины родители стали собираться, мне пришлось их провожать. Эльза наказала мне проэскортировать их до первых городских фонарей. Тесть медленно вел свою машину по темным улицам, плохо ему знакомым. А я через лобовое стекло своей поглядывал на две эти головы, неподвижные и безгласные. О чем они думали? Очень возможно, что о смерти — в воскресные вечера так естественно думается о смерти. А может, и о жизни — что купить, что съесть… О той самой жизни, что в конце концов становится просто поеданием жратвы и потреблением разных вещей. Ты берешь — и у тебя нет никакого желания что-либо отдать взамен. Мы с Эльзой постепенно подвигались к точно такому же безгласию. Одиночество, которое резали огни моих фар, через несколько лет завладеет и нами. Впереди через ночную тьму ехали два манекена. У меня еще было какое-то время, чтобы оборвать свое путешествие и вернуться к жизни, к иной жизни.
Я принял вправо и остановился у начала городского асфальта. Машина с тестем и тещей исчезла за погруженным в темноту поворотом. В тот вечер я почувствовал, что умру молодым и что Италия — это дар, от которого я не стану отказываться.
— Как ты разыскала дом?
— Да просто пошла вдоль пляжа.
— Но зачем, зачем?
— Захотелось отметить твой день рождения, захотелось, чтобы ты увидел меня в купальном костюме.
Она все еще куталась в банный халат, пыталась согреться, прижималась к своей собаке.
— Я пойду, ложись-ка ты спать.
— Нет, давай прогуляемся.
По улице она шла медленно, продев руку мне под локоть. Мы вошли в бар, все в тот же.
— Что тебе взять?
Она не ответила, она всем телом навалилась на стойку бара. Я проследил за ее рукой — рука двигалась по металлической столешнице к стопке бумажных салфеток. Агрессивным движением она выхватила всю стопку из обоймы, нагнулась и, спотыкаясь, устремилась к выходу. Я нагнал ее, она стояла опершись на стену, уронив голову.
— Что с тобой?
Руки у нее были сцеплены, она заложила их между бедрами, пачка салфеток торчала из ладоней.
— Мне нехорошо, отведи меня домой, — прошептала она.
Света было мало, но я увидел, что белые салфетки, выглядывающие из ее ладоней, темнеют прямо на глазах.
— У тебя кровотечение…
— Пошли домой… прошу тебя.
Но она тут же потеряла сознание. Я взял ее на руки, донес до машины, положил на сиденье. Приходилось рисковать, везти ее в свою больницу. Крутя руль, я пытался вспомнить, кто из хорошо знакомых врачей дежурит сегодня вечером. Она пришла в себя, была бледна, невесело глядела на ночной город.
— Куда ты меня везешь?
— В больницу.
— Не надо, я хочу домой, мне уже лучше.
Она успела соскользнуть с сиденья, сидела скорчившись на полу.
— Что ты делаешь?
— Я же испачкаю тебе сиденье.
Я убрал одну руку с баранки, наклонился, ухватил ее за край кофточки.
— Поднимайся на сиденье, живо!
Но она уперлась, она осталась внизу.
— Так удобнее… Отсюда мне тебя видно гораздо лучше…
В приемном покое было пусто, только какой-то старичок лежал на топчане, укрывшись больничным одеялом. Я знал одного из дежурных фельдшеров, крупного парня, с которым иногда разговаривал о футболе. Я отдал Италии пляжное полотенце, валявшееся на заднем сиденье, из машины она вышла, обернув это мохнатое полотнище вокруг бедер. Фельдшер помог ей войти в смотровую, устроил на каталке. Дежурный врач появился сразу же, это была молодая женщина, раньше я ее здесь вроде бы не видел.
— Больная, пойдемте со мной, будем делать эхограмму.
Втроем мы дошли до лифта. У женщины было невыспавшееся лицо, волосы ее свалялись. Она уважительно мне улыбалась — конечно же, она знала, кто я такой. У Италии цвет лица стал куда лучше, в кабину лифта она вошла без нашей помощи.
Когда начался осмотр, я их оставил и пошел к себе на отделение. Пользуясь минуткой, я хотел взглянуть на пациента, которого оперировал накануне. Я подошел к его постели — пациент спал, дыхание было хорошим.
— Завтра мы, наверное, сможем убрать дренаж, как вы думаете, профессор? — спросила у меня медсестра-монахиня, вошедшая вместе со мною в палату.
Когда я вернулся, Италия и докторша как раз выходили после эхограммы.
— Там все в порядке, произошло частичное отслоение плаценты, но зародыш на месте, — услышал я.
На долю секунды я замер, глядя в лицо докторши, на ее резко очерченные скулы, на лоснящуюся кожу носа, на близко посаженные глаза. Потом сделал шаг назад, инстинктивно оглянулся, словно боясь, что кто-то еще слышал ее слова.
— Прекрасно, — сказал я, как мне показалось. — Прекрасно.
Докторша, несомненно, заметила мое волнение. Она смотрела на меня странным взглядом сообщницы.
— Я, профессор, все же положила бы эту даму в палату. Ей лучше избегать утомления — хотя бы какое-то время.
«Дама» при этом стояла в нескольких шагах позади докторши, она была оглушена и потрясена, я это ясно видел. И вовсе не дама это была, это была барышня, это была моя любовница. Глазами мы с ней встретились всего на секунду, на одну-единственную секунду. Я неприметно перенес тяжесть тела на другую ногу, стараясь уклониться от ее глаз. Здесь не следовало устанавливать с нею никакого контакта, по крайней мере сейчас. Я находился в своей больнице, стоял перед сотрудницей, которой я был известен своими персональными заслугами и которая наверняка кое-что уже сообразила насчет моей личной жизни. Нужно было срочно увозить Италию отсюда, да, нужно было, чтобы она исчезла, — потом, на досуге, можно будет все обмозговать. Мы шли к лифту, ягодицы докторши колыхались под халатом. Кто поручится мне, что эта женщина умеет держать язык за зубами? В ее походке явно было что-то безответственное. Возможно, прямо завтра новость уже обойдет всю больницу, мне некуда будет деваться от ехидных взглядов, упирающихся в мою спину, начнутся пересуды, которые я не смогу прекратить. В кабине Италия стояла позади меня, и теперь я чувствовал к ней глухую ярость. Она ничего мне не сказала, она все скрывала, она предоставила посторонней тетке объявить мне, чем тут пахнет, — и это в больнице, где я работаю. А теперь она наслаждается моим изумлением. У меня было искушение поколотить ее, влепить оплеуху, так, чтобы вся моя пятерня отпечаталась на ее физиономии.
Мы вернулись на первый этаж, нужно было оформлять госпитализацию. Я повернулся к Италии и посмотрел на нее взглядом, который должен был показаться ей ужасным.
— Ну-с, что вы намерены предпринять, уважаемая синьора?
— Я хочу домой, — пробормотала она.
— Ну что же, тогда вам придется подписать отказ от госпитализации. — Я повернулся к фельдшеру. — Дай-ка сюда бланк.
Я вытащил ручку из внутреннего кармана пиджака и сам вписал все, что надо, потом вложил бланк в обгрызанные пальцы Италии, протянул ей ручку. Скользнул глазами по ее лицу — она опять была очень бледна. Я замешкался с ручкой, я уже не был уверен, что поступаю правильно, я ведь все-таки был врачом, рисковать нельзя. А если у нее начнется серьезное кровотечение? Нельзя отпускать ее вот так, на раз-два. Позже у меня найдется способ объяснить ей, кто она такая, сейчас важно только одно — ей надо остаться здесь: если что, здесь ей помогут. Я порвал бланк: «Давайте все-таки ее положим».
Она возражала, но совсем слабо: «Зачем это?.. Не надо… Я пойду… У меня все прошло…»
Докторша шагнула к столу и пришла мне на помощь.
— Синьора, профессор прав, эту ночь вам лучше провести здесь.
Мы быстренько вписали предварительный диагноз, потом поднялись в гинекологию. Дверцы лифта распахнулись, мы приехали. В коридоре царил ночной покой и обычный запах лекарств и больничного супа. Я, Анджела, люблю ночную больницу, мне в ней мил еле уловимый запах женщины, смывшей на ночь косметику, совсем домашняя такая отдушка человеческого пота… Италия — та нет, она выглядела испуганной, шла, чуть не цепляясь за стенку, купальное полотенце с морскими звездами так и было обмотано у нее вокруг бедер, делая ее похожей на жертву кораблекрушения. На несколько мгновений мы остались одни.
— Почему ты не сказала мне, что беременна?
— Я и сама не знала…
Она старалась затянуть полотенце потуже, голос у нее дрожал.
— Я не хочу сюда, я совсем грязная.
— Я скажу санитарам, они что-нибудь тебе подыщут.
Появилась медсестра.
— Пойдемте, я покажу вам вашу койку.
— Ступай, — прошептал я, — ступай же!
Я смотрел ей вслед, она удалялась по коридору с ночным освещением, удалялась, не оборачиваясь.
Дома я стянул с себя ботинки, не развязывая шнурков, и зашвырнул их подальше, потом улегся в постель в чем был. Провалился, словно в яму с липким битумом, и проснулся на рассвете — растерянный и уже уставший. Забрался под душ. Италия ожидала ребенка, вода журчала, находила свои дорожки, бежала по моей коже, а Италия ждала ребенка. Что же мы теперь будем делать? Я стоял голый под душем, в доме, который я делил со своей женой, и намыливал пучок волос на лобке. Тут нужно было бы неторопливо поразмыслить, а я летел, мысли у меня громоздились одна на другую, словно задники в кулисах театра.
Я прибыл в больницу задолго до начала смены, тревога меня не оставляла, предчувствовал, что в больнице я ее не застану. Действительно, ее там не было, она подписала отказ и ушла.
— Когда? — только и спросил я у медсестры.
— Несколько минут тому назад.
Я впрыгнул в машину и поехал по аллее, шедшей вдоль больничных корпусов. Обнаружил я ее на автобусной остановке, узнал с трудом — на ней был белый больничный халат. Она стояла облокотившись на стенку павильончика, в руке у нее болтался прозрачный пластиковый мешок, а в нем виднелось мое купальное полотенце.
Я затормозил, она меня не увидела. Улицы только-только начинали наполняться народом. Мне на память пришла та давешняя сцена, когда я подглядывал за ней, сидя в машине. Она была накрашена, шла по жаре, покачивая бедрами; мне понравились ее высокие каблуки, мне понравилась ее вульгарность. Сколько же прошло времени? Теперь на ней белый, слишком просторный халат — она за минувшее лето еще больше похудела. В эту минуту я заметил, насколько она переменилась. Она отказалась от всякой косметики, возможно из-за меня. Клоун, только без грима. И тем не менее для меня она стала еще прекраснее и еще желаннее. Сейчас я и вокруг ничего не видел, видел только ее, облокотившуюся на эту стену, видел как бы в перекрестье некоего несуществующего прицела. Мною вдруг овладел страх, совершенно абсурдный. А что, если кто-нибудь и вправду станет выцеливать ее из винтовки? Он выстрелит, и пуля войдет ей прямо в грудь, и она рухнет на землю, и от нее останется только кровавый след на стене, в том месте, куда сейчас направлен мой взгляд… Мне захотелось крикнуть ей, чтобы она ушла с этого места, что сейчас кто-то нажмет на спусковой крючок — какой-нибудь киллер, расположившийся за моей спиной, скажем, прямо на крыше больницы. Это у нее было такое лицо — лицо человека, в которого вот-вот выстрелят, и он это знает, просто у него нет сил шагнуть в сторону и уклониться… Впрочем, нет, она движется, она отходит от стены, с нею ничего не случилось. Появилась задняя стенка автобуса, автобус прикрывает ее от выстрела. Я не успеваю ее остановить, она села в автобус. Я трогаюсь и пристраиваюсь вплотную к автобусу, прямо к его выхлопной трубе, рыгающей ядовитым дымом. Автобус доехал до следующей остановки, я выскакиваю из машины прямо посреди шоссе и тоже в него забираюсь. Я ищу среди пассажиров Италию, хочу, чтобы мы вдвоем вышли, но добираюсь до нее слишком поздно — дверь уже захлопнулась. Италия глубоко утонула в сиденье, прижалась головой к стеклу. Мою машину могут убрать, угнать — ну и черт с ней.
— Привет, Крапива!
Она вздрагивает, оборачивается, переводит дыхание.
— Привет…
— Далеко собралась?
— На вокзал.
— Решила уехать?
— Да нет… хотела посмотреть расписание поездов.
И мы замолкаем, глядим, как улицы мало-помалу начинают наполняться машинами и людьми. Вот спешит куда-то мамаша с двумя детишками, Италия пристально ее рассматривает. Я кладу ладонь ей на живот, свою крупную и уверенную ладонь. Живот реагирует звуками, он протестует.
— Как ты себя чувствуешь?
— Хорошо. — И она отводит мою ладонь, стесняясь своего урчащего живота.
— Сколько у тебя уже?
— Совсем мало, месяца два или меньше.
— И когда это произошло?
— Я не знаю.
Глаза у нее огромные и спокойные.
— Только ты ни о чем не беспокойся, я уже все решила.
Я качаю головой, но при этом я действительно ничего не говорю. А она наверняка ждет, чтобы я что-нибудь сказал, снова смотрит сквозь стекло на улицы, колеблющиеся за окном.
— Прошу тебя только об одном: про это больше говорить не надо, — предупреждает она. — История не больно-то приятная.
Мы выходим из автобуса и идем рядом, не касаясь друг друга. Италия кутается в халат санитарки, и мы с ней вдвоем так слабы… В витрине одного из магазинов стоит девушка, она снимает объявление о летних скидках, собираясь выставить осенние модели, она передвигается за стеклом витрины по ковру из осенних листьев и каштанов, из пластика разумеется. Италия останавливается и смотрит, как продавщица натягивает платье на манекен с растрепанной прической.
— В этом году мода на зеленое…
Мы двигаемся к остановке такси, там целых три машины, ожидающие клиентов. Мы быстренько перебегаем через улицу, светофор вот-вот переключится на красный. Я помогаю Италии забраться на сиденье, потом наклоняюсь и вкладываю ей в руку деньги на проезд.
— Спасибо, — шепчет она.
— Ты только не переживай, — говорю я совсем тихонько, мне не хочется, чтобы таксист услышал, — я все беру на себя, можешь не сомневаться.
Она делает губами движение наподобие улыбки, но получается вымученная гримаса. Ей хочется остаться одной, и, может быть, она мне больше не верит. Я протягиваю руку, провожу по ее лицу, я хочу избавить ее от этого печального, затравленного взгляда… Потом захлопываю дверцу, и такси отъезжает.
Я остаюсь в одиночестве, делаю несколько шагов — вот только куда же мне идти? Нужно собраться с мыслями, нужно разыскать машину, брошенную посреди дороги. В больницу к началу плановых операций я уже опоздал, ну что же, делать нечего. Италия до последнего мгновения ждала, что я скажу ей не это, а что-то другое. В глубине ее глаз брезжила какая-то надежда, что-то вроде метелки, забытой в уголке хорошо прибранной комнаты, а я притворился, что ничего не замечаю. У меня даже не хватило смелости изобразить безжалостность и силой навязать ей нужное мне решение. Я дал ей, видите ли, выбрать, сделал так, что вся вина оказалась на ней. А взамен я оплатил ее такси.
Твоя мать вернулась в город. Нет больше никаких следов моего холостяцкого бивуака, столик, куда я водружал ноги, погружаясь в чтение, снова стоит на прежнем месте, довольно далеко от кресла, в центре ковра, в окружении целой компании диванчиков. На низком этом столике из инкрустированного дерева разместились бокалы с розовыми ножками, корзиночка со сдобными сухариками и плоская ваза со сливами, обернутыми в тонкие ломтики бекона. Эльза пригласила наших друзей на ужин. Я задержался в клинике допоздна, оперировать пришлось, преодолевая всякую бестолковщину, — в операционной не хватало людей: с сентября, видите ли, снова начались забастовки. Бросая ключи в чашку из черного дерева возле входной двери, я уже слышал голоса сидящих в гостиной. Я шмыгнул в ванную для прислуги и ополоснул лицо, прежде чем предстать перед гостями. Привет… привет… привет. Похлопывания по плечу, чмоканье. Аромат духов, щекотание от прядей волос, запах вина и сигарет.
Я стою опершись о книжный шкаф. Передо мною Манлио. Говорит он обо всем на свете: о лодках, о своей Мартине, которая опять угодила в клинику для алкоголиков, о каком-то шве на брюшине, который был гладок, как попка младенца, а потом вдруг воспалился и пошел ступеньками. У него в руке сигара, и рука эта разгуливает чересчур близко к моему лицу.
— А ты-то, ты как поживаешь?
— Сигара, Манлио…
— А, ну да, извини… — И он чуть-чуть отводит руку.
— У меня к тебе есть разговор.
Он смотрит на меня, выпускает облако вонючего дыма.
— У тебя физиономия прямо как у зомби, что это с тобой?
— Пойдем, там макароны подали…
За столом я никого не слушаю, я просто ем — поглядываю в тарелку, втыкаю вилку, выпиваю бокал вина, потом подаюсь к миске и накладываю себе еще. Жрать хочу как зверь. Над столом плывет гул голосов. На скатерть падает овод, я сгребаю его в кулак. Твоя мать на меня смотрит. На ней зеленая кофточка, испещренная прозрачными полосами-вставками, на мочках ушей два маленьких изумруда. Волосы подобраны, одна-единственная свободная прядь свешивается на лицо — Эльза красива необыкновенно. Я думаю о босой девушке, что хлопотала в витрине, и об Италии, которая сказала: «В этом году мода на зеленое».
— Ты что, десерт есть не будешь?
Я поднялся из-за стола:
— Прошу прощения, мне нужно срочно позвонить.
Иду к себе в комнату, набираю номер. Вызов пошел, но никто не снимает трубку.
Я растягиваюсь на кровати. Эльза входит:
— Кому это ты звонишь?
— Так, никому, там занято.
Она тем временем протиснулась в нашу супружескую ванную и справляет малую нужду, в зеркале шкафа я вижу ее отражение, юбку, подобранную до самых ягодиц.
— Очередной пациент?
— Вот именно, пациент.
Она тянет за цепочку бака, гасит свет и выходит.
— Какой-нибудь «престижный» рак? — улыбается она.
Да, не так-то легко ей жить с человеком, занятым столь невеселой работой. Она в конце концов усвоила мой докторский жаргон и ерничает вместе со мной.
Я адресую ей ответную улыбку.
— И все же в башмаках на кровать не ложатся, — говорит она и выходит из комнаты.
— Алло, я слушаю…
— Где ты была?
— Дома.
— Я сто раз тебе звонил.
— Я, наверное, просто не слышала.
У нее тяжелое дыхание на фоне какого-то гула.
— Что это у тебя гудит?
— Это пылесос, подожди, я выключу.
Голос отдаляется, потом возвращается обратно, гула уже нет.
— Ты что, затеяла уборку на ночь глядя?
— Да, захотелось отвлечься.
— Я, понимаешь ли, просто хотел послать тебе поцелуй.
Мы с Манлио вышли на воздух, я утянул-таки его на террасу.
— Есть у меня одна пациентка, я два года назад оперировал ей грудь. Ей сейчас рожать рискованно, надо бы прервать беременность.
— У нее, случайно, срок не пропущен?
— Со сроком все нормально.
— Так чего же ты не укладываешь ее к себе в клинику?
Внизу грузовик из службы городской очистки как раз зацепил бункер с мусором. Манлио поднял воротник пиджака, скорее всего, он все понял, потому что тут же принимается что-то насвистывать.
Вечеринка наша кончается посиделками на диванах, потом диваны пустеют, остаются только вмятины от тел, сплющенные подушки, бокалы и рюмки в самых невероятных местах, пепельницы, переполненные окурками. Эльза уже сняла туфли на каблуках:
— Славный получился вечерок.
— Ну да.
Я поднимаюсь и тянусь к пепельнице.
— Ничего не трогай, завтра Джанна все уберет.
— Я просто выброшу окурки, уж больно они воняют.
Она идет к себе в комнату, снимает косметику, надевает ночную рубашку. Я продолжаю сидеть перед телевизором в окружении целого кладбища грязных бокалов… Когда я вхожу в спальню, то укладываюсь строго на свою половину. Двумя-тремя движениями нахожу удобную позу, вытягиваюсь и замираю на боку. Твоя мать забрасывает на меня ногу, потом ее горячие губы щекочут мое ухо. Я цепенею, знаю, что у меня ничего не получится, сегодня мне не до этого. Она ищет мой рот, находит его, но я так и не раскрываю губ ей в ответ. С тяжелым вздохом она падает обратно на простыню.
— Знаешь, — говорит она, — а что, если мы теперь будем заниматься любовью как-нибудь иначе?..
Я поворачиваюсь к ней — она смотрит на потолок, и лицо у нее какое-то странное.