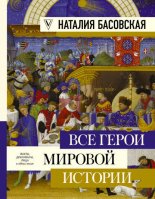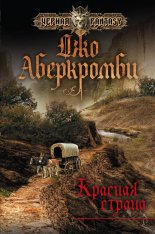Американха Адичи Чимаманда

— Мне нравится Хиллари Клинтон, — сказала Ифемелу. — А про этого Обаму я мало что знаю.
Блейн вернулся в комнату.
— Что я пропустил?
— Шэн в порядке? — спросила Ифемелу. Блейн кивнул.
— А неважно, кто что думает об Обаме. Настоящий вопрос в том, готовы ли белые к черному президенту, — сказал Нэйтен.
— Я готова к черному президенту. А вот нация — не знаю, — сказала Пи.
— Ну серьезно, ты с моей мамой потолковала? — спросила у нее Пола. — Она говорит один в один то же самое. Если ты готова к черному президенту, тогда кто именно в этой смутной стране не готов? Люди так говорят, когда не уверены, что сами готовы. Да и вообще мысль о готовности несуразна.
Ифемелу позаимствовала эти слова много месяцев спустя, в посте, написанном на последнем лихорадочном этапе президентской предвыборной кампании: «Сама мысль о готовности — несуразна». «Кто-нибудь замечает, до чего абсурдно спрашивать людей, готовы ли они к черному президенту? Вы готовы к Микки-Маусу в президентах? А к лягушонку Кермиту? А к оленю Рудольфу, Красный нос?»
— У моей семьи безукоризненная репутация либералов, мы отметили галочкой все правильные ответы, — сказала Пола, иронически скривив губы книзу, крутя за ножку пустой бокал. — Но мои родители вечно торопились доложить друзьям, что Блейн учился в Йеле. Словно это значит, будто он один из немногих приличных.
— Ты слишком к ним сурова, Поли, — сказал Блейн.
— Нет, ну правда, тебе так не казалось? — спросила она. — Помнишь тот ужасный День благодарения в доме у родителей?
— В смысле, как я попросил «мак» с сыром?
Пола рассмеялась:
— Нет, я не об этом. — Но о чем — не сказала, и воспоминание так и не обнародовали, оно осталось в их общей на двоих личной жизни.
Вернувшись домой к Блейну, Ифемелу сказала ему:
— Я ревновала.
То и была ревность — приступ тягостности, непокой в желудке. Имелась у Полы эта черта настоящего идеолога: она могла, воображала Ифемелу, легко соскользнуть в анархию, стоять во главе протестующих, вопреки дубинкам полицейских и насмешкам неверующих. Сознавать такое о Поле означало чувствовать себя ущербной по сравнению с ней.
— Никакого тут повода для ревности, Ифем, — сказал Блейн.
— Жареная курица, которую ешь ты, — не та жареная курица, которую ем я, это жареная курица, которую ест Пола.
— Что?
— Для вас с Полой жареная курица — в кляре. Для меня — нет. Я просто подумала, сколько у вас с ней общего.
— Жареная курица у нас общая? Ты понимаешь, насколько перегружена тут метафора жареной курицы? — Блейн смеялся, мягко, любовно. — Твоя ревность, в общем, милая, но совершенно точно ничего здесь не происходит.
Она знала, что ничего не происходит. Блейн не стал бы ей изменять. Он же одна сплошная жила праведности. Верность давалась ему легко: он не оглядывался посмотреть на красоток на улице, потому что ему это и в голову не приходило. Но она ревновала к эмоциональным следам, существовавшим между ним и Полой, и к мыслям, что Пола была как он сам — хорошая, как он сам.
СТРАНСТВИЯ В ШКУРЕ ЧЕРНОГОДруг одного друга, крутой ЧА с кучей денег, сочиняет книгу «Поездки в шкуре черного». Не просто черного, пишет он, а опознаваемого черного, потому что черные бывают всякие, и, без обид, он не имеет в виду черных ребят, выглядящих как пуэрториканцы, или брзильцы, или еще кто-то, он имеет в виду опознаваемо черных. Потому что мир обращается с тобой особо. И вот что он рассказывает: «Замысел этой книги возник у меня в Египте. Оказываюсь я в Каире, и некий араб-египтянин зовет меня черным варваром. Я такой — эй, тут вообще-то Африка! Ну и задумался о других частях света, каково будет путешествовать там, если ты черный. Я черный дальше ехать некуда. Белые на Юге в наши дни глянут на меня и подумают, вот, дескать, идет здоровенный черный хряк. В путеводителях вам доложат, чего ожидать, если вы гей или женщина. Черт, да то же самое нужно писать и для тех, кто отчетливо черный. Объяснить путешествующим черным, каков расклад. Никто палить по вам не будет, но отлично было б знать заранее, что на вас будут пялиться. В Шварцвальде в Германии пялятся довольно злобно. В Токио и Стамбуле все спокойные и безразличные. В Шанхае пялились мощно, в Дели — гнусно. Я думал: "Ха, мы разве не на одной доске в этом деле? Ну, цветные то есть?" Я читал, что Бразилия — расовая Мекка, еду я в Рио, и ни в приличных ресторанах, ни в приличных гостиницах никто на меня не похож. Я встаю в аэропорту в очередь на посадку в первом классе, и люди ведут себя странно. Вроде как по-хорошему странно — типа ты ошибся, ты не похож на тех, кто летает первым классом. Еду в Мексику — и на меня пялятся. Не враждебно совсем, но понимаешь, что ты как-то выделяешься, типа ты им нравишься, но все равно Кинг-Конг». И тут вступает мой профессор Крепыш: «Латинская Америка в целом в очень сложных отношениях с чернокожестью, которую затеняет вот эта байка "мы тут все метисы", которую они себе рассказывают. Мексика еще ладно — по сравнению с Гватемалой и Перу, где превосходство белых куда откровеннее, но в тех странах и гораздо более заметное черное население». Другой мой друг говорит так: «С местными черными всегда обращаются хуже, чем с не местными, повсюду. Моя подруга, родившаяся во Франции в тоголезской семье, когда отправляется по магазинам, делает вид, что она англофон, потому что продавцы любезнее к черным, которые не говорят по-французски. Так же и с черными американцами — в африканских странах их очень уважают». Соображения? Приглашаю излагать и ваши байки странствий.
Глава 37
Ифемелу казалось, что она отвернулась лишь на миг, а когда глянула вновь, Дике преобразился: ее малыш-кузен испарился, а на его месте возник мальчик, совсем не похожий на мальчика, — шесть футов гладких мышц, играет в баскетбол за старшую школу Уиллоу, встречается с гибкой блондинкой по имени Пейдж, облаченной в крошечные юбочки и кеды-«конверсы». Как-то раз Ифемелу спросила:
— Как дела с Пейдж?
Дике ответил:
— Секса пока не было, если ты об этом.
Вечерами к нему в комнату сбредалось шестеро-семеро его друзей, все белые, за исключением Мина, высокого парня-китайца, чьи родители преподавали в университете. Компания играла в компьютерные игры и смотрела ролики на Ю-Тьюбе, они подкалывали друг дружку и хорохорились, опоясанные сверкающим кольцом беспечной юности, а в середке был Дике. Они все смеялись над его шутками, искали его согласия и тонко, бессловесно позволяли ему принимать решения за всех: заказывать пиццу, идти в общинный клуб играть в пинг-понг. С ними Дике изменился: в голосе и походке появилась удаль, он раздался в плечах, будто перешел на верхнюю передачу, а речь пересыпал «эт не» и «да чё».
— Ты почему с друзьями так разговариваешь, Дике? — спросила Ифемелу.
— Йо, куз, ты чё ваще? — отозвался он с нарочитой гримасой, от которой она расхохоталась.
Ифемелу вообразила его в колледже: прекрасный из него выйдет наставник первокурсникам — будет водить стайку абитуриентов и их родителей по студгородку, рассказывать всякое замечательное, но непременно станет добавлять что-нибудь несимпатичное ему лично, и все время будет смешным, умным и ярким, и девчонки повлюбляются в него с первого взгляда, пацаны обзавидуются его куражу, а родители захотят, чтобы их дети были как он.
На Шэн была блестящая золотая маечка, груди буйны — колыхались при каждом движении. Она флиртовала со всеми — то к руке прикоснется, то обнимет слишком крепко, то замрет под поцелуем в щеку. Ее распирающие от чрезмерности комплименты казались неискренними, но все друзья улыбались и расцветали. Неважно, что она сказала, — важно, что сказала это Шэн. Впервые оказавшись на салоне у Шэн, Ифемелу нервничала. А не стоило, это лишь сборище друзей, но она нервничала все равно. Сломала себе всю голову, что бы надеть, перемерила и отмела девять ансамблей одежды и в конце концов остановилась на сине-зеленом платье, в котором талия казалась тонюсенькой.
— Эй! — воскликнула Шэн, когда прибыли Блейн с Ифемелу, обняла обоих по очереди. — Грейс приедет? — спросила она у Блейна.
— Да. На поезде, попозже.
— Отлично. Я ее сто лет не видела. — Шэн заговорила тише и обратилась к Ифемелу: — Я слыхала, Грейс ворует у своих студентов исследования.
— Что?
— Грейс. Я слыхала, она ворует у своих студентов исследования. Ты знала?
— Нет, — ответила Ифемелу. Ей показалось странным, что Шэн говорит такое о подруге Блейна, однако почувствовала себя особенной — Шэн впустила ее в сокровенный грот сплетен. А затем, внезапно устыдившись, что не осмелилась вступиться за Грейс, которая ей нравилась, Ифемелу добавила: — Совсем не думаю, что это правда.
Но внимание Шэн уже ускользнуло прочь.
— Хочу познакомить тебя с самым сексуальным мужчиной в Нью-Йорке — с Омаром, — сказала Шэн, представляя Ифемелу человеку ростом с баскетболиста, линия волос слишком безупречна: отчетливая кривая вдоль лба, острые углы у ушей. Когда Ифемелу подалась вперед, чтобы пожать руку, он слегка поклонился, прижав ладонь к груди, и улыбнулся. — Омар не прикасается к женщинам, которые ему не родственницы, — сказала Шэн. — Что очень сексуально, а? — Тут она склонила голову набок и томно глянула на Омара. — А это красавица и совершенная оригиналка Мэрибелл и ее подруга Джоан, такая же красавица. Я из-за них прямо расстраиваюсь!
Мэрибелл и Джоан хихикали — мелковатые белые женщины в громадных очках с темной оправой. На обеих были короткие платьица, одно — красное в горошек, другое — отделанное кружевами, оба — слегка потускневшие, слегка не очень сидящие находки из винтажных магазинов. В некотором смысле карнавальные костюмы. Они поставили галочки в эдакой просвещенной образованной среднеклассовости: любовь к платьям скорее интересным, чем красивым, любовь к эклектике, любовь к тому, что полагается любить. Ифемелу представила их в путешествии: они собирают все необычное и наполняют этим дом — непритязательными доказательствами собственной притязательности.
— А вот и Билл! — воскликнула Шэн, обнимая мускулистого темного человека в федоре. — Билл — писатель, но, в отличие от всех нас, у него прорва денег. — Шэн едва не ворковала. — У Билла есть великолепный замысел путеводителя под названием «Странствия в шкуре черного».
— Я бы с удовольствием об этом послушала, — сказала Ашанти.
— Кстати, Ашанти, девочка моя, восхищаюсь твоей прической, — сказала Шэн.
— Спасибо! — отозвалась Ашанти.
Она являла собой грезу, облаченную в каури: ракушки гремели у нее на запястьях, унизывали ее волнистые дреды, обхватывали шею. Она часто повторяла слова «родина» и «религия йоруба», поглядывала на Ифемелу словно бы в поисках подтверждения, и Ифемелу неуютно было от этой пародии на Африку, а следом — стыдно за то, что неуютно.
— Ты в итоге добилась желанной обложки? — спросила Ашанти у Шэн.
— «Желанной» — сильно сказано, — ответила Шэн. — Так, слушайте все, эта книга — мемуары, ага? Она про уйму всякого, про детство в полностью белом городе, про то, как я была единственным черным ребенком в садике, про смерть мамы, про всякое такое. Мой редактор читает рукопись и говорит: «Я понимаю, раса — это у нас тут важно, но необходимо, чтобы книга оказалась выше расы, чтобы она была не только про это». И я такая думаю, а чего это мне делаться выше расы? Понимаете, будто раса — напиток, который надо подавать уеренно, смешанным с другими жидкостями, иначе белая публика не проглотит.
— Забавно, — сказал Блейн.
— Он все помечал мне диалоги в рукописи и черкал на полях: «Люди правда такое говорят?» И я такая: эй, скольких черных ты знаешь? В смысле, знаешь на равных, как друзей. Я не про секретаршу в конторе и не про одну черную пару, чей ребенок ходит с твоим ребенком в школу, и ты с ними здороваешься. Я про знаешь-знаешь прямо. Ни одного. И ты мне еще будешь рассказывать, как разговаривают черные?
— Он не виноват. Вокруг не так-то много черных из среднего класса, — сказал Билл. — Многие белые либералы ищут черных друзей. Почти так же трудно, как найти доноршу яйцеклетки — высокую белокурую восемнадцатилетку из Гарварда.
Все рассмеялись.
— Я написала сцену о том, что случилось в магистратуре, — об одной знакомой гамбийке. Она обожала есть кондитерский шоколад. Всегда носила в сумке упаковку. Короче, она жила в Лондоне и влюбилась в белого англичанина, и тот собирался бросить ради нее жену. Сидели мы в баре, и она рассказала нам нескольким обо всем этом — мне и еще одной девчонке и одному парню, Питеру. Коротышке из Висконсина. И знаете, что ей сказал Питер? Он сказал: «Его жене должно быть еще хуже — оттого что ты черная». Произнес так, будто это очевидно. Не то, что жене будет обидно из-за другой женщины, а потому что другая женщина — черная. Я это вписываю в книгу, а мой редактор хочет поменять эту сцену, потому что она не изящная. Можно подумать, жизнь всегда, бля, изящная. Дальше пишу о том, как моя мама обижалась на работе, поскольку чувствовала, что достигла потолка и выше ее не пустят, раз она черная, и мой редактор говорит: «Можно тут больше оттенков? Были ли у вашей мамы плохие отношения с кем-то на работе? Или, может, ей уже диагностировали рак?» Он считает, что все это нужно усложнить, что дело не только в расе. А я ему говорю — но дело как раз в расе. Она обижалась, потому что считала: если б все остальное было такое же, как у нее, — кроме расы — ее бы вице-президентом сделали. И она много об этом рассуждала — пока не померла. Но почему-то в жизни моей мамы вдруг нет оттенков, оказывается. «Оттенок» означает «пусть всем будет уютно, чтобы всяк волен был считать себя личностью, а все оказались там, где оказались, благодаря личным достижениям».
— Может, стоит сделать из этого роман, — сказала Мэрибелл.
— Ты смеешься? — переспросила Шэн, слегка пьяно, слегка театрально, йогически усаживаясь на пол. — В этой стране нельзя написать честный роман о расе. Если пишешь о людях, по-настоящему задетых расовыми трудностями, сочтут слишком очевидным. У черных писателей, занятых художкой в этой стране, у всех троих — а не у десятка тысяч, которые пишут чепуховые книжки про гетто, в ярких обложках, — выбор такой: творить либо насыщенное, либо напыщенное. Если получается ни то ни другое, никто не понимает, что с тобой делать. Так что если собираешься писать на расовые темы, нужно лепить такую лирику и утонченность, что читатель, который не видит между строк, даже не поймет, что тут расовая тема. Такую, знаете, прустовскую медитацию, водянистую и расплывчатую, и ты под конец сам делаешься водянистым и расплывчатым.
— Или найти белого писателя. Белые писатели могут сочинять на расовые темы без обиняков и делать из себя активистов, потому что их гнев никому не угрожает, — сказала Грейс.
— А вот эта недавняя книга — «Мемуары монаха»? — спросила Мэрибелл.
— Трусливая, бесчестная книга. Ты читала ее? — спросила Шэн.
— Рецензию на нее читала, — сказала Мэрибелл.
— В этом-то и беда. Ты больше читаешь о книгах, чем сами книги.
Мэрибелл вспыхнула. Ифемелу подумалось, что Мэрибелл молча готова была принять такое только от Шэн.
— К художке в этой стране мы все настроены очень идеологически. Если персонаж не узнается, значит, персонаж неубедителен, — сказала Шэн. — Невозможно читать американскую художку, даже чтоб понять, как вообще нынче живут. Читаешь американскую прозу и узнаешь о неблагополучных белых, занятых всяким таким, что для нормальных белых странно.
Все рассмеялись. Вид у Шэн сделался счастливый, как у маленькой девочки, показательно спевшей для влиятельных друзей родителей.
— Мир просто не похож на эту комнату, — сказала Грейс.
— Но может, — сказал Блейн. — Мы доказываем, что мир может быть как эта комната. Он может быть безопасным пространством, равным для всех. Нужно просто разобрать стены привилегий и угнетения.
— А вот и мой братец, дитя цветов, — сказала Шэн.
Еще смех.
— Написала б ты об этом, Ифемелу, — сказала Грейс.
— Вы знаете, кстати, почему Ифемелу ведет блог? — спросила Шэн. — Потому что она африканка. Она пишет извне. Она не чувствует по-настоящему то, о чем пишет. Ей это все тонко и занятно. Ну и вот она пишет, принимает похвалы и приглашения читать лекции. А будь она афроамериканкой, на нее бы наклеили ярлык злой и бойкотировали.
Комната на миг набрякла тишиной.
— Думаю, это справедливо, — сказала Ифемелу, недолюбливая Шэн — и себя, за то, что поддалась чарам Шэн. Что правда, то правда: раса не была вшита в ткань ее личной истории, не выгравирована у нее в душе. И все же она пожалела, что Шэн не выдала ей этого один на один, а сказала сейчас, торжествующе, перед друзьями, и оставила Ифемелу с озлобленным узлом — с горечью — в груди.
— Многое из этого сравнительно свежо. Черное и панафриканское самоопределения в начале девятнадцатого века были, вообще-то, достаточно сильны. Холодная война вынудила людей выбирать, и ты либо становился интернационалистом, что для американцев, конечно, означало «коммунистом», или же делался частью американского капитализма, и афроамериканская элита совершила этот выбор, — сказал Блейн, словно бы в защиту Ифемелу, но она сочла это слишком абстрактным, слишком вялым, слишком запоздалым.
Шэн глянула на Ифемелу и улыбнулась, и в той улыбке был намек на великую жестокость. Когда через несколько месяцев Ифемелу поссорилась с Елейном, она задумалась, не подогрела ли его гнев Шэн, — гнев, который Ифемелу так до конца и не поняла.
КТО ЖЕ ОБАМА, ЕСЛИ НЕ ЧЕРНЫЙ?Тут многие — в основном нечерные — говорят, что Обама — не черный, что он мулат, дитя многих рас, черно-белый, какой угодно, но не черный. Потому что у него мать белая. Но раса — это не биология, это социология. Раса — не генотип, это фенотип. Раса имеет значение из-за расизма. А расизм абсурден, потому что он существует из-за того, как ты выглядишь. Речь не о твоей крови. Речь об оттенке твоей кожи, о форме твоего носа и о курчавости волос. У Букера Т. Уошингтона и Фредерика Даглэсса[177] были белые отцы. Вообразите, как они говорят, что они — не черные.
Вообразите Обаму, цвет кожи — жареный миндаль, волосы курчавые, сообщает переписчице: я своего рода белый. Уж конечно, скажет она. У многих черных американцев есть среди предков белый человек, потому что белым рабовладельцам нравилось куролесить в рабских бараках по ночам. Но если ты получился темным — всё. (Если вы — белокурая голубоглазая женщина и говорите: «Мой дедушка был из коренных американцев и меня тоже притесняют», когда черные толкуют о всякой своей дряни, прошу вас, ну хватит уже.) В Америке вам не приходится решать, какой вы расы. Это решено за вас. Полвека назад Бараку Обаме с его внешним видом пришлось бы сидеть на задах автобуса. Если какой-нибудь черный совершает сегодня убийство, Барака Обаму могли бы остановить и допросить на предмет совпадения с описанием подозреваемого. И каково же это описание? «Черный мужчина».
Глава 38
Блейну Бубакар не понравился, и, вероятно, это в их ссоре сыграло роль — а может, и нет, — но Блейн Бубакара невзлюбил, а у Ифемелу день начался с посещения занятий у Бубакара. Ифемелу и Блейн познакомились с Бубакаром на университетском званом ужине в его честь: сенегальский профессор с кожей оттенка песчаника, только что переехал в Штаты, преподавать в Йеле. Он обжигал умом — и самоуверенностью. Восседал во главе стола, попивал красное вино и ехидно рассуждал о французских президентах, с которыми был знаком, и о французских университетах, которые предлагали ему работу.
— Я выбрал Америку, потому что сам хочу выбирать себе хозяина, — сказал он. — А раз уж мне полагается хозяин, тогда лучше Америка, чем Франция. Но печеньки я есть не буду и в «Макдоналдс» не пойду. Варварство какое!
Ифемелу он очаровал и позабавил. Ей нравился его акцент, его английский, пропитанный волофом и французским.
— По-моему, он классный, — сказала она потом Блейну.
— Любопытно: он говорит расхожее, однако считает, что это довольно глубоко, — отметил Блейн.
— Немножко эго у него имеется — как и у всех за тем столом, — сказала Ифемелу. — Вам, йельцам, разве не положено его иметь, чтоб вас сюда на работу брали?
Блейн не посмеялся, как это обычно бывало. Ифемелу почуяла по его отклику территориальную неприязнь, чуждую его натуре, и удивилась. Изображая скверный французский акцент, он пародировал Бубакара.
— Франкёфоньне африканцы, перерифф на кофе, анлёфоньне африканцы, перерифф на чай. В этой стране добыть нястоящего кафе-о-ле нивазьможня!
Вероятно, Блейну не нравилось, как легко ее отнесло к Бубакару в тот день, после десерта, словно к человеку, который говорил на одном с ней безмолвном языке. Она подначивала Бубакара на тему африканцев-франкофонов, до чего забиты их головы французским и какими тонкокожими они стали — слишком глубоко осознают французское презрение и при этом слишком влюблены в европейскость. Бубакар смеялся — по-родственному: с американцем он бы так смеяться не стал, он бы пресек подобный разговор, осмелься на него американец. Вероятно, Блейну не нравилась эта взаимность, нечто первородно африканское, из чего его самого исключили. Но чувство Ифемелу к Бубакару было братским, без всякого влечения. Они частенько встречались за чаем в книжной лавке «Аттикус» и болтали — вернее сказать, она слушала, поскольку говорил в основном он — о западноафриканской политике, о семье и доме, и с этих встреч она всегда уходила обнадеженной.
К тому времени, когда Бубакар рассказал ей про новую стипендиальную программу по гуманитарным наукам в Принстоне, она уже начала вглядываться в прошлое. В ней поселился непокой. Проросли сомнения о блоге.
— Вам надо подать заявку. Это совершенно ваше, — говорил он.
— Я не ученый. Я даже аспирантуру не оканчивала.
— Нынешний стипендиат — джазовый музыкант, очень талантливый, но только с дипломом о школьном образовании. Им требуются люди, которые делают что-то новое, раздвигают границы. Вам необходимо участвовать, и прошу вас использовать меня как рекомендателя. Нам нужно проникать в такие места, понимаете? Только так можно изменить течение разговора.
Ее это все тронуло; она сидела напротив него в кафе и ощущала между собой и им теплое притяжение чего-то общего.
Бубакар часто приглашал ее к себе на занятия — на семинары по современным африканским вопросам.
— Может, обнаружите что-нибудь интересное, о чем писать в блог, — приговаривал он.
И вот так, в день, когда она пришла к Бубакару на занятие, началась история их размолвки с Елейном. Она сидела на задних рядах, у окна. Снаружи с величественных старых деревьев облетали листья; спешили по тротуару, замотав шеи шарфами, люди с картонными стаканчиками, женщины — в особенности азиатки — хорошенькие, в узких юбках и сапогах на каблуке. У всех студентов Бубакара были открыты ноутбуки, экраны сияли страницами почтовых браузеров, Гугл-поиска, фотографиями знаменитостей. Время от времени они открывали файл «Ворда» и записывали слово-другое Бубакара. Куртки висели на спинках стульев, а язык тел их, ссутуленных, слегка нетерпеливых, говорил: мы уже знаем ответы. После занятий они отправлялись в библиотечное кафе и покупали североафриканский сэндвич с жу[178] или индийский с карри, по дороге на следующее занятие группа из студактива вручала им презервативы и леденцы на палочке, а по вечерам они посещали чаепития в доме у декана, где какой-нибудь латиноамериканский президент или нобелевский лауреат отвечал на их вопросы, словно в этом был какой-то смысл.
— Ваши студенты все копались в интернете, — сказала она Бубакару, пока они шли к нему в кабинет.
— Они не сомневаются в своем здесь присутствии, студенты эти. Они считают, что должны здесь быть, что они заслужили это и они за это платят. О фон,[179] они нас всех купили. В этом суть американского величия, такая вот спесь, — сказал Бубакар, на голове черный фетровый берет, руки — глубоко в карманах куртки. — Вот поэтому они и не понимают, что должны быть благодарны за то, что я перед ними стою.
Не успели они войти к нему в кабинет, как раздался стук в полуоткрытую дверь.
— Заходите, — сказал Бубакар.
Появился Кавана. Ифемелу несколько раз сталкивалась с ним — доцент кафедры истории, живший ребенком в Конго. Он был кудряв, зловреден, и, казалось, ему больше подошло бы работать военным репортером в далеких горячих точках, чем преподавать историю аспирантам. Он встал в дверях и сказал Бубакару, что отправляется в творческий отпуск, и факультет заказал на завтра прощальный обед в его честь, и ему донесли, что будут причудливые сэндвичи со всяким вроде ростков люцерны.
— Станет скучно — загляну, — отозвался Бубакар.
— Вам надо прийти, — сказал Кавана Ифемелу. — Правда.
— Я приду, — сказала она. — Бесплатный обед — всегда хорошая затея.
Она выходила из кабинета Бубакара, и тут прилетело сообщение от Блейна: «Ты слышала про мистера Уайта из библиотеки?»
Первая мысль — мистер Уайт умер; никакой великой печали она не ощутила, и за это ей стало стыдно. Мистер Уайт был охранником в библиотеке, он сидел у выхода и проверял задний клапан каждой книжки, красноглазый мужчина с такой темной кожей, что проступал черничный оттенок. Ифемелу так привыкла к нему сидящему, к лицу и торсу, что, впервые увидев, как он ходит, огорчилась: плечи ссутулены, будто нагружены бременем потерь. Блейн подружился с ним много лет назад и иногда в свой перерыв приходил поговорить.
— Он — учебник истории, — говорил Блейн Ифемелу. Она несколько раз общалась с мистером Уайтом.
— У нее есть сестра? — то и дело уточнял мистер Уайт у Блейна. Или же говорил: — Уставший вы на вид, дружище. Кто-то спать не давал допоздна?
Ифемелу это казалось непристойным. Когда бы мистер Уайт ни жал ей руку, он стискивал ей пальцы, и в этом жесте был один сплошной намек; Ифемелу высвобождала руку и избегала потом взгляда мистера Уайта, пока они с Елейном оттуда не уходили. Было в этом рукопожатии некое присвоение, ухмылка, и за это в Ифемелу всегда гнездилось маленькое неприятие, однако Блейну она никогда об этом не сообщала, поскольку неприязни этой очень стеснялась. Мистер Уайт все же старый черный, битый жизнью, и Ифемелу жалела, что не может не обращать внимания на его вольности.
— Забавно: я никогда не слышала, как ты говоришь на эбониксе, — сказала она Блейну, когда впервые стала свидетелем их разговора с мистером Уайтом. Синтаксис поменялся, интонации стали ритмичнее.
— Видимо, я слишком привык к своему голосу «на нас смотрят белые люди», — отозвался он. — И, знаешь, черные помладше уже не переключают регистры. Дети среднего класса не владеют эбониксом, а дети из гетто говорят только на нем, и у них нет той беглости, какая есть у моего поколения.
— Напишу об этом в блог.
— Я знал, что ты так скажешь.
Она отправила ему ответную эсэмэску: «Нет, что случилось? Мистер Уайт окей? Ты закончил? Хочешь сэндвич?»
Блейн позвонил и попросил ее подождать его на углу Уитни, и вскоре она увидела, как он приближается — стремительная сухопарая фигура в сером свитере.
— Привет, — сказал он и поцеловал ее.
— Приятно пахнешь, — сказала она, и он поцеловал ее еще раз.
— Пережила занятие у Бубакара? Даже без приличных круассанов и пан-о-шоколя?[180]
— Прекрати. Что случилось с мистером Уайтом?
Они шли рука об руку к лавке бейглов, и он рассказал ей, что друг мистера Уайта, черный, пришел вчера вечером и они вдвоем стояли у библиотеки. Мистер Уайт дал этому человеку ключи от своей машины, потому что друг пришел ее одолжить, — и друг отдал мистеру Уайту какие-то деньги, одолженные ранее. Некий белый сотрудник библиотеки, наблюдавший их, решил, что эти двое черных торгуют наркотиками, и вызвал администратора. Администратор вызвал полицию. Полиция приехала и забрала мистера Уайта на допрос.
— О господи, — сказала Ифемелу. — Он в порядке?
— Да. Он вернулся на свое место. — Блейн помолчал. — Думаю, он к такому был готов.
— Это прямо трагедия, — сказала Ифемелу и осознала, что использует слова Блейна: иногда она слышала у него в тоне такие отголоски. Настоящая трагедия Эмметта Тилла,[181] сказал он ей как-то раз, не в убийстве черного ребенка за свист в сторону белой женщины, а в том, что некоторые черные подумали: а чего он свистел?
— Я с ним немного потолковал. Он просто отмахнулся от всей этой истории, сказал, чего тут такого, и предложил поговорить о его дочери, за которую он действительно волнуется. Она собирается бросить школу. Ну и я займусь ею, поучу. В понедельник встречаемся.
— Блейн, это уже седьмой ребенок у тебя на поруках, — сказала она. — Ты собираешься лично обучать все гетто Нью-Хейвена?
Было ветрено, Блейн щурился, машины катились мимо по Уитни-авеню, он повернулся к ней, глянул сузившимися глазами.
— Хотелось бы, — сказал он тихо.
— Мне просто хочется чаще тебя видеть, — проговорила она и обхватила его за талию.
— Ответ университета — чушь собачья. Простая ошибка, ничего расового? Да ладно? Думаю организовать завтра митинг, собрать людей, сказать, что так не пойдет. Не в нашем огороде.
Он уже все решил, она видела это, а не просто думал. Уселся за столик у двери, а она пошла к стойке — без запинки заказала на его долю, потому что очень привыкла к нему, к тому, что он любит. Когда вернулась с пластиковым подносом — ее сэндвич с индейкой и его вегетарианский рап, а рядом два пакетика несоленой картошки, — голову он склонял к телефонной трубке. К вечеру он уже позвонил, разослал письма и эсэмэски, новости стали расползаться, и телефон у него звякал, звонил и пищал — ответами от людей, сообщавших, что они в деле. Один студент звонил уточнить, что можно написать на транспарантах, другой выходил на связь с местными телестудиями.
Наутро, прежде чем отправиться на занятия, Блейн сказал:
— Преподаю встык, встречаемся в библиотеке, да? Пришли эсэмэску, когда выйдешь.
Они это не обсуждали, он попросту счел по умолчанию, что она явится, и она сказала: «Ладно».
Но не явилась. И не забыла. Блейн мог оказаться более снисходительным, если б она просто забыла, если б так увлеченно читала или писала в блог, что митинг выскочил у нее из головы. Но она не забыла. Она лишь предпочла пойти на прощальный обед к Каване, а не стоять перед университетской библиотекой с транспарантом. Блейн вряд ли обидится, сказала она себе. Если и было ей неуютно, она этого не осознавала, пока не уселась в классе с Каваной, Бубакаром и другими преподавателями, попивая клюквенный сок из бутылки, слушая, как какая-то молодая женщина рассказывает о грядущем рассмотрении ее постоянной профессорской ставки, и тут эсэмэски от Блейна захлестнули ее телефон: «Ты где?», «Все в порядке?», «Отличная явка, ищу тебя», «Шэн меня поразила — приехала!», «Ты в порядке?» Ифемелу ушла рано, вернулась домой и, улегшись в постель, отправила Блейну сообщение — очень извинялась, дескать, прилегла и незаметно отключилась. «Окей. Еду домой».
Он вошел и сжал ее в объятиях — с силой и воодушевлением, ворвавшимися в дом вместе с ним.
— Тебя не хватало. Я так хотел, чтобы ты там была. Я очень обрадовался, что Шэн приехала, — сказал он с некоторым пылом, будто это его личная победа. — Получилась такая мини-Америка. Черные ребята, белые, азиаты, латиноамериканцы. Дочь мистера Уайта тоже пришла, фотографировала транспаранты с его лицом, и у меня было такое чувство, что мы наконец вернули ему настоящее достоинство.
— Как прекрасно, — сказала она.
— Шэн передавала приветы. Садится сейчас в поезд домой.
Блейн мог легко все узнать — может, случайно упомянул кто-то из тех, кто был на обеде, — но Ифемелу так и не поняла, откуда все же он узнал. Он вернулся на следующий день, глянул на нее — в глазах пылало серебро — и сказал:
— Ты соврала.
Сказано это было с таким ужасом, от которого она оторопела, будто он никогда не допускал и мысли, что она может соврать. Захотелось сказать: «Блейн, люди врут». Но она выговорила: «Извини».
— Зачем? — Он смотрел на нее, словно она украла его невинность, и на миг она его возненавидела — этого человека, доедавшего за ней огрызки яблок и превращавшего даже это в некий нравственный поступок.
— Не знаю зачем, Блейн. Просто не захотелось. Я не думала, что ты так обидишься.
— Тебе просто не захотелось?
— Прости меня. Надо было сказать тебе об обеде.
— С чего вдруг этот обед такой важный? Ты с этим коллегой Бубакара едва знакома! — произнес он ошарашенно. — К блогу все не сводится, знаешь ли, нужно жить тем же, во что веришь. Этот блог — игра, которую ты на самом деле всерьез не воспринимаешь, все равно что выбирать занятный факультатив, чтобы добрать баллов. — В его тоне она услышала тонкое обвинение — не просто в своей лености, недостатке рвения и приверженности, но и в африканскости своей: в Ифемелу недостаточно ярости, потому что она африканка, а не афроамериканка.
— Это несправедливо — так рассуждать, — сказала она. Но он уже отвернулся от нее, ледяной, безмолвный. — Почему ты не поговоришь со мной? — спросила она. — Я не понимаю, почему это так важно.
— Как можно этого не понимать? Это же принцип, — сказал он и в тот миг стал ей чужим.
— Мне правда жаль, — сказала она.
Он ушел в ванную и запер дверь.
Его бессловесная ярость испепелила ее. Как мог принцип, абстракция, плавающая в воздухе, так накрепко вклиниться между ними и превратить Блейна в кого-то другого? Лучше б какой-нибудь неприличный порыв — ревность или обида брошенного.
Она позвонила Араминте.
— Я себя ощущаю растяпой-женой, которая звонит невестке и просит растолковать своего мужа, — сказала она.
— В старших классах, помню, было какое-то благотворительное мероприятие, выставили столы с печеньем и всяким таким, и полагалось класть в банку денежку и брать печенье, ну и понимаешь, я такая протестная вся из себя — беру печенье, а деньгу не кладу, и Блейн тогда на меня взбесился. Помню, думала: «Да ладно, это ж печенье». Но для него дело в принципе, наверное. Он иногда бывает до нелепого высоконравствен. Денек-другой погоди, остынет.
Но прошел день, другой, а Блейн оставался в узилище стылого молчания. На третий день без единого слова между ними Ифемелу собрала сумку и уехала. В Балтимор она вернуться не могла — квартиру там она сдала, а мебель упрятала на склад — и потому двинулась в Уиллоу.
ЧТО УЧЕНЫЕ ПОНИМАЮТ ПОД ПРИВИЛЕГИЕЙ БЕЛЫХ,ИЛИДА, ПЛОХО БЫТЬ БЕДНЫМ И БЕЛЫМ, НО ВЫ ПОПРОБУЙТЕ БЫТЬ БЕДНЫМ И НЕБЕЛЫМНу и вот, этот парень говорит профессору Крепышу: «Привилегия белых? Чепуха. Какие такие у меня привилегии? Я вырос, бля, нищим в Западной Вирджинии. Я вахлак с Аппалачей. У меня семья на пособии по безработице». Все так. Но привилегия — она всегда относительно чего-то. Вообразите теперь кого-нибудь наподобие этого парня, такого же нищего и в такой же жопе, и перекрасьте его в черный. Если и того и другого, скажем, поймают с наркотиками, белого парня с большей вероятностью отправят лечиться, а черного — в тюрьму. Всё один к одному — кроме расы. Проверьте статистику. Вахлак с Аппалачей — в жопе, и это не круто, но будь он черным — жопа оказалась бы поглубже. А еще он сказал профессору Крепышу: «Чего мы ообще разговариваем о расе? Нельзя разве быть просто людьми?» И профессор Крепыш ответил: «Именно в этом и состоит привилегия белых — вы можете так говорить. Для вас расовый вопрос, вообще-то, не существует, потому что он для вас никогда не был преградой. У черных все иначе. Черному на улице Нью-Йорка не хочется думать о расовых вопросах, когда он едет на своем «мерседесе» без превышения скорости, — пока полицейский не прижмет его к обочине. У вахлака с Аппалачей нет классовых льгот, зато расовые есть будь здоров какие». Что скажете? Взвесьте это, читатели, и поделитесь собственным опытом, особенно если вы нечерный.
P. S. Профессор Крепыш только что предложил обнародовать это — тест на Привилегию белых, права принадлежат крутой тетке по имени Пегги Макинтош.[182] Если отвечаете в основном «нет» — поздравляем, у вас есть привилегия белого. В чем смысл, спросите вы? Серьезно? Понятия не имею. Думаю, просто здорово это знать. Сможете время от времени радоваться втихаря, это поддержит вас в минуту кручины — типа такого. Итак:
Когда вам хочется вступить в престижный общественный клуб, вы раздумываете, не затруднит ли вам вступление ваша раса?
Когда совершаете покупки один в приличном магазине, вас тревожит, что вас будут пасти или станут обижать?
Когда включаете массовое телевидение или открываете массовую газету, ожидаете ли увидеть там в основном людей другой расы?
Тревожитесь ли, что у ваших детей не будет учебников и методических материалов о людях их расы?
Обращаясь за банковским займом, тревожитесь ли, что из-за вашей расы вас могут счесть финансово ненадежным?
Если выражаетесь непристойно или одеваетесь неопрятно, как думаете, люди вокруг скажут, что это из-за скверных нравов, или нищеты, или необразованности вашей расы?
Если ведете себя достойно, ожидаете ли, что окружающие начислят за это очки вашей же расе? Или же что вас воспримут «отличным» от большинства представителей вашей расы?
Если вы критикуете правительство, тревожитесь ли вы, что вас сочтут культурным аутсайдером? Или что вас попросят «убраться в X», где «X» — где-то за пределами Америки?
Если вас плохо обслуживают в приличном магазине и вы просите пригласить «начальство», ожидаете ли вы, что этот человек окажется представителем расы, отличной от вашей?
Если постовой велит вам остановиться, вы задумаетесь, не из-за вашей ли расы?
Если вас берет на работу наниматель, практикующий позитивную дискриминацию, тревожитесь ли вы, что ваши коллеги сочтут вас неквалифицированным и нанятым исключительно из-за вашей расы?
Если желаете переехать в приличный район, тревожитесь ли вы, что вам там будут не рады из-за вашей расы?
Если вам нужна юридическая или медицинская помощь, тревожитесь ли вы, что ваша раса сработает против вас?
Когда одеваетесь в «телесное» белье или клеите себе пластырь,[183] знаете ли вы заранее, что по цвету они не совпадут с вашей кожей?
Глава 39
Тетя Уджу записалась на йогу. Она стояла на четвереньках, круто выгнув спину, на синем коврике в цоколе, а Ифемелу лежала на диване, ела шоколадный батончик и наблюдала за тетей.
— Сколько этих штук ты уже съела? И с каких пор ты ешь обычный шоколад? Я думала, вы с Елейном питаетесь только экологическим, по Справедливой торговле.[184]
— Накупила на вокзале.
— Накупила? Сколько?
— Десять.
— А, а! Десять!
Ифемелу пожала плечами. Она уже съела их все, но тете Уджу этого не сказала. Это доставляло ей удовольствие — покупать шоколадные батончики в газетном киоске, дешевые, с сахаром, всякой химией и прочими генетически модифицированными ужасами.
— О, так, значит, потому что вы с Елейном ругаетесь, ты теперь ешь шоколад, который ему не нравится? — Тетя Уджу рассмеялась.
Дике спустился и поглядел на мать — руки вверх, «поза воина».
— Мам, ну ты и нелепая.
— Тебе твой друг давеча не говорил разве, что твоя мать смачная? То-то.
Дике покачал головой.
— Куз, мне надо тебе кое-что показать на Ю-Тьюбе, смешной ролик.
Ифемелу встала.
— Тебе Дике рассказывал, какое у них компьютерное ЧП случилось в школе? — спросила тетя Уджу.
— Нет, какое? — заинтересовалась Ифемелу.
— Директор позвонила мне в понедельник и сказала, что Дике в субботу взломал школьную компьютерную сеть. Мальчик, который был всю субботу при мне. Мы ездили в Хартфорд к Озависе. Весь день там пробыли, мальчик и близко к компьютеру не подходил. Когда я спросила, с чего они взяли, что это он, они сказали, что у них есть сведения. Вообрази — не успел проснуться, как сразу давай винить моего сына. Мальчик и в компьютерах-то не очень. Я думала, это все осталось позади, в том захолустном городке. Квеку считает, что нужно подать официальную жалобу, но, по-моему, это зряшная трата времени. Теперь вот говорят, что больше его не подозревают.
— Я даже не умею взламывать, — сказал Дике язвительно.
— Зачем они разводят подобную дрянь? — спросила Ифемелу.
— Сначала надо обвинить черных детей, — сказал Дике и рассмеялся.
Потом он рассказал, что его друзья теперь говорят, дескать, эй, Дике, травки не найдется? — и как это смешно. Рассказал ей о пасторе в церкви, белой женщине, которая здоровалась со всеми детьми, а когда очередь доходила до него, она такая: «Чё как, братан?»
— У меня такое ощущение, что у меня вместо ушей ботва, типа брокколи такие из головы торчат, — сказал он со смехом. — Так понятно же, что это я взломал школьную сеть.
— Эти люди у тебя в школе — дураки, — сказала Ифемелу.
— Смешно ты это сказала, куз, — «дураки». — Он примолк, а затем повторил за ней: «Эти люди у тебя в школе — дураки». Нигерийский акцент ему дался хорошо. Она рассказала ему историю о нигерийском пасторе, который, читая проповедь в одной церкви в Штатах, сказал что-то о сучках, но из-за акцента прихожане решили, что он сказал «сучки», и подали жалобу епископу. Дике валялся от хохота. Так родилась одна из их постоянных шуточек. «Эй, куз, пусть у меня каникулы пройдут без сучки и задоринки», — говорил он.
Блейн не принимал от нее звонков девять дней подряд. Наконец ответил, голос приглушенный.
— Можно я приеду в эти выходные, приготовим вместе кокосовый рис? Готовить буду я, — сказала она. Прежде чем он произнес «ладно», она уловила, как он вдыхает, и подумала, не поразило ли его, что она осмелилась предложить кокосовый рис.
Ифемелу наблюдала, как Блейн режет лук, наблюдала за его длинными пальцами и вспоминала его тело поверх своего, как водила пальцами по его ключицам, по еще более темной коже у него под пупком. Он вскинул взгляд и спросил, правильные ли кусочки лука у него выходят, она сказала: «С луком все в порядке» — и подумала, откуда он всегда знает, какого размера лук должен получаться, всегда режет так точно, он сам всегда пропаривал рис, хотя сегодня делать это собиралась она. Блейн расколол кокос на мойке и слил жидкость, после чего начал ножом отколупывать от кожуры белую мякоть. Когда Ифемелу вытряхивала рис в кипящую воду, руки у нее дрожали, и она, глядя, как набухают тонкие зернышки басмати, задумалась, удается ли она им, эта их примирительная трапеза. Проверила курицу в духовке. Открыла горшок — дух пряностей повалил наружу: имбирь, карри, лаврушка; она сообщила ему без всякой надобности, что получается хорошо.
— Я не перегибал со специями — в отличие от тебя, — сказал он.
Ифемелу на миг рассердилась и захотела сказать, что это несправедливо с его стороны — вот так выдавать прощение, но вместо этого переспросила, не надо ли, на его взгляд, подлить воды. Он продолжал точить кокос, молча. Она понаблюдала, как кокос превращается в белую пыль; ее печалило, что целым этот кокос уже никогда не будет, она потянулась к Блейну, обняла его сзади, обвила руками грудь, ощутила сквозь толстовку его тепло, но он выпростался и сказал, что нужно доделать, пока рис не размягчился совсем. Она прошла гостиную и поглядела в окно, на колокольню, высокую, царственную, возвышавшуюся над студгородком Йеля, и заметила первые снежные вихри, крутившиеся в поздневечернем воздухе, словно их метали сверху, и вспомнила свою первую зиму с Елейном, когда все казалось полированным и бесконечно новым.