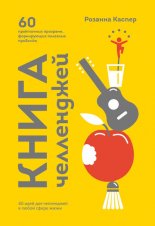По велению Чингисхана Лугинов Николай

Передние в этой огромной толпе слишком поздно поняли, какая гибельная опасность их встречает. Они встали прямо перед остриями копий и попытались податься назад, но бежавшие вслед за ними не видели этой опасности и продолжали напирать сзади. Отчаянные вопли заколотых копьями уже тонули в диком гвалте. В жажде спасения стремясь прорваться сквозь ворота, бегущие почти обезумели: они затаптывали ещё живых упавших людей, они уже карабкались по горам человеческого мяса! И тут ворота захлопнулись, и оставшиеся в живых метнулись прочь от них, как от чумы…
Начальная часть сражения принесла легкую удачу, какой Боорчу и не ждал. Он возрадовался… Дал приказ тойонам отвести пять из восьми мэгэнов к югу от основного поля битвы. Три оставшиеся «чёрных» мэгэна должны были задержать противника, несколько раз превосходящего числом, чтобы обеспечить отход. Он не был уверен, получится ли на этот раз, но его воодушевил первый успех.
Больше всего он опасался верховых джирдженов, этой отборной вражеской конницы. Вылетят из крепости, закружат коршунами вокруг его пехоты – расклюют до костей. А ему нечего ставить против них. Если бы подставил плечо Сюбетей, но у того уже приказ – немедленно отступать и в бой более не ввязываться.
Пользуясь суматохой в стане врага, следствием позорного поражения в первый день битвы, Боорчу вновь перераспределил силы своего «чёрного» воинства. Половину отправил в северном направлении, в запас. Другую – разделил на три части и рассредоточил их. И, когда битва разгорелась вновь, и противник пошёл на них мощным строем, он, так же, как в начале, предыдущим днём, велел нападать на него молниеносно и малыми отрядами, а затем, ускользнув от ответного удара, отходить…
И в первое время этот прием удавался превосходно: китайское войско, постоянно сдерживаемое этими натисками и налётами, продвинулось от крепости всего на верст пять. Но потом враг стал действовать иначе. Перед головным войском китайцы выставили лучников и увеличили число тяжеловооружённых воинов с копьями. Это им помогло: они стали двигаться быстрее, налёты мелких отрядов Боорчу их уже не задерживали, и за день войско стало проходить уже, по китайским меркам, двадцать ли, значит – десять верст.
Боорчу встревожился, что не сможет исполнить повеление ставки – оказать врагу отпор и нанести ощутимый урон. Ему пришлось взять несколько мэгэнов из тех, что были посланы в запас и ввести в бой. К тому же воевать начала конница джирдженов, и «чёрным» теперь уже дня два приходилось больше обороняться, чем нападать.
…Основная часть «чёрного» войска Боорчу состояла из обитателей Китая, бежавших за пределы Великой Стены. А из них большинство происходило из народа хань – главного народа страны, из собственно китайцев. Этим людям в прошлом было не до воинского дела, которое является делом жизни для каждого настоящего ратника. Но зато сущностью их натур являлись исполнительность, старательность, стремление в точности выполнить приказ. Благодаря таким качествам они за несколько месяцев боевой подготовки становились весьма неплохими воинами. Да, ростом почти все не вышли, но зато обладали исключительными выдержкой и выносливостью. Отвагой и упорством – не в меньшей мере. Вот только слишком робели при натиске верховых ратников противника. А, может, то сказывалось извечное, из глубины веков идущее убеждение пеших в том, что конные – сильнее? Как только, гремя доспехами и оружием, показывалась конница, «чёрные» останавливались как вкопанные, стояли недвижно, подняв копья.
А на деле-то пеший нукер в кольчуге и с копьём вполне способен сразиться с конником. И в строю, и в движении. Вдобавок он может и арканом врага достать и спешить, наземь сбросить… Вот какими размышлениями был занят Боорчу.
Обидно, думалось ему, что не могут этого понять нукеры. В крови у них, что ли, страх перед конником? А ведь если духом пал, оробел – считай, что уже побеждён, и никакие силы тебе не помогут, и руки-ноги твои незримыми веревками будут спутаны. В сражении же, особенно в быстротекущем, очень многое зависит от удали и воли, от способности действовать ловко и споро… А этому и многому другому еще учится и учиться…
На четвёртый день «чёрные» устроили в надёжном месте искусную засаду, и удалось напасть на врага сбоку, да так неожиданно для него, что его впятеро превосходящее числом войско отступило с немалыми потерями. И опьянила «чёрных» победа! – они захватили обоз в тридцать повозок, который вёз большой запас чарпы, то есть крупы, и прочего довольствия. Двинулись в путь с этим обозом, но не тут-то было! Их нагнали джирдженьские конники и нанесли такой мощный удар, что от одного мэгэна осталось всего четыре сюна. От тысячи – четыреста воинов всего! Оставшимся пришлось этот обоз спрятать в горном ущелье…
А на следующий день ещё один мэгэн сам попал в окружение. Поначалу дело шло в его пользу, он даже заставил отступить нападавшую на него пехоту. Но опять-таки с тыла ударила конница противника, окружила плотным кольцом… Боорчу оставалось лишь одно: с двумя самими надёжными мэгэнами, которых он держал возле себя, вступить в бой; но они сумели отбить лишь половину окружённого мэгэна. Когда завечерело, отступили к одинокой гряде каменных холмов, поросших лесом.
Долго они считали потери, приводили в порядок свои потрёпанные ряды. И всё-таки – сумели оказать врагу достойный отпор. Заставили захлебнуться его наступление! Приказ ставки был выполнен… Со следующего дня им уже не надо было вступать в битву с врагами. Не надо было больше ни уклоняться от лобовых столкновений, ни совершать молниеносные налёты, ни… Своё дело войско Боорчу сделало.
Но тут-то оно и попало в клещи противника. Проснувшись утром, люди увидели, что огромное вражеское войско со всех сторон окружило горную долину, в которой они остановились на привал.
Положим, что можно прорвать это кольцо, но разве пешим ходом уйдёшь от преследования конницы? А она, верховые отряды джирдженов, запирала собой самые удобные для прорыва места… Боорчу созвал тойонов своего «чёрного» войска:
– Видите сами, на сей раз враг прихватил нас так, что с крючка не сорваться. Сам я никакого пути для прорыва не нахожу, говорю вам это прямо. Теперь хочу выслушать вас.
Тойон, которого звали Чан-Дэйху, шагнул вперёд. Всего лишь тридцатилетний, он, однако, был по возрасту старше всех других военачальников, подчинённых Боорчу. Он и молвил:
– Боорчу-тойон! Решение у нас – одно-единое…
– И каково же оно?
– Если нет никакого иного выхода, мы все готовы сражаться до конца и, говоря вашими словами, пасть на поле боя, сотворив своё изголовье из трупов врага.
– Хэ… Хэ… – Боорчу откашлялся, хмыкнул. – Это уж чересчур… все готовы… Что ж это получается: мы дадим истребить столько молодых воинов, которые ещё и не жили по-настоящему, так что ли?
– Но у нас и впрямь другого пути нет. Если мы попадём живыми в лапы джирдженов, они начнут следствие – из какого рода, из какой семьи происходит каждый из нас. И тогда мы будем расплачиваться не только собственными головами, но и жизнью всех наших родных и близких. Прольётся десятикратно больше крови…
– Но как же так?! Правят Китаем джирджены Алтан-Хана, но ведь почти все части войска, особенно пешие, состоят из ваших же соплеменников, из людей народа хань. Неужели ханьцы не защитят родную кровь, не попытаются вас спасти?
– К несчастью, нет… За каждым военачальником-ханьцем, даже самого невысокого звания и чина, зорко присматривает тот или иной начальствующий джирджень. Эти-то «надсмотрщики» и принимают решения – ханьцы по-настоящему лишь оглашают их.
– А у других что на уме? – Боорчу повернулся в сторону молчащих молодых тойонов. Те выкрикнули чуть не хором:
– Боорчу-тойон! Мы все едины в своей решимости!
– Так как же мы поступим?
– Могу ли я сказать своё слово? – тихо спросил один из молодых тойонов.
– Говори!
– Надо решить, как собрать силы воедино, в один кулак, чтобы прорыв был успешным. А прорываться надо: да, многие падут, но какая-то часть всё же вырвется за кольцо осады. А если примем бой здесь, на месте, нас просто перебьют всех до единого.
– Я поддерживаю это решение! – твёрдо сказал Чан-Дэйху.
– Ну, что ж, тогда… Если вы столь тверды в своей решимости, значит – действительно другого пути к спасению нет, – подытожил Боорчу, окинув всех тойонов тяжёлым, испытующим взором, – Тогда отберите надежных разведчиков, чтоб они выискали все прорехи, все слабые места в кольце окружения… А потом уж определимся, куда ударить. Я сказал!
– Ты сказал! Мы услышали! – и тойоны преклонили колени перед своим предводителем.
– Боорчу-тойон… – еле выдавил из себя Чан-Дэйху, оставшись с Боорчу после ухода молодых своих товарищей.
– Слушаю тебя…
– Если бы ты мне доверил!.. Словом, я готов возглавить отряд, который здесь останется.
– Что!? Чем вызваны эти твои слова? – Боорчу, все мысли которого были отданы предстоящему сражению, не понял, почему этот скромный, осторожно выговаривающий каждое слово человек вдруг заявляет о своей готовности принять на себя столь незавидное бремя.
– Понимаю… у меня в вашем иле должность маленькая, полного доверия к себе я ещё не заслужил, но вот стою перед вами и не могу не сказать…
– Слушай, Чан-Дэйху, положение у нас сейчас настолько тяжкое, что нечего нам чиниться, делиться по должностям. Так что говори прямо то, что на уме.
– Настал час, когда решится, погибнем мы или останемся в живых. И такому великому воителю, как ты, негоже встревать в эту кровавую кашу. Мне думается, тебе, взяв сюн конников, следует отправиться в южную сторону. После прорыва… А я, если доверите, принял бы на себя начало над остающимися здесь войсками.
– Ах, вот оно что! – Боорчу оглушительно захохотал и сжал своими могучими ручищами далеко не богатырские плечи китайца. – Действительно, хан удостоил меня большими почестями и чинами. Назначил меня главой левого крыла своего воинства. Но разве это означает, что Боорчу должен беречь себя, шкуру свою спасать, если воинам грозит смертельная опасность? Никогда! Честь превыше всего. А страшнее всего – бесчестье. А что бесчестней, чем бросить своих воинов в пасть гибели, а самому спастись?! Нет, пусть мою судьбу решит Всевышний… Я сказал!
– Ты сказал! Я услышал!
А воины Боорчу поднялись ещё до первых лучей и с первыми проблесками зари уже построились там, откуда намеревались пойти на прорыв. Оставив все лишнее снаряжение, решили прорываться налегке.
Думалось: если всё пойдёт по их замыслу, если им удастся прорваться, за ними тут же учинят погоню. И тогда мэгэн под началом Чан-Дэйху встанет у преследователей на пути и пожертвует собой, чтобы остальные могли оторваться от погони. Всё прочее – в воле Всевышнего.
…Спустились по глубокому оврагу, с обеих сторон закрытому высокими горными грядами. По его дну текла речка. По этому оврагу, туда, где он расширялся и выходил на поверхность, двигались три мэгэна. По китайским меркам – совсем малое войско.
Подкрались с трёх сторон, ударили внезапно, пока противник не опомнился и не выдвинул боевой строй. Сражение было жарким и кратким, словно горение охапки сухого хвороста. Перебили половину вражеского засадного отряда, а уцелевшую половину загнали в речку с обрывистыми берегами, но те не сдавались, ощетинились копьями. Победители хотели их забросать-забить камнями, но Боорчу счёл это безрассудством:
– Надо переговорить с ними. Пообещаем, что если сдадутся добровольно, никого не будем убивать.
Оказалось – большинство с обеих сторон принадлежало к народу хань, к собственно китайцам, так что разговаривать им было несложно. Но другим, спешившимся и стоявшим в стороне, казалось, что переговоры затягиваются. Боорчу не понимал ни единого слова, всё сливалось в сплошное: «хао-мяо, сунь-дунь, май-лай». Выяснилось: противники внизу твердили, что не сдадутся, что им легче погибнуть в бою. Похоже, не верили обещаниям… «Чёрные» переговорщики в который раз уверяли своих врагов-сородичей, что все они немедля будут отпущены после того, как сдадутся. И тогда уже меж окружёнными разгорелся спор – сдаваться или нет…
– Боорчу-тойон, зачем мы возимся с ними, не проще ли перебить их всех? – вскипел Си-Хуан.
– Нет! – жёстко возразил Боорчу. – От слишком простых решений чаще всего бывают слишком большие беды. А если мы отпустим пленных – потом окажемся в выигрыше. Ведь у них принято казнить воина без суда, если он потерял копьё. Так что они к своим не побегут, станут беглецами, будут прятаться. А жизнь каждому дорога, и весть о том, что мы не убиваем сдавшихся, а на волю их отпускаем, тотчас полетит быстрее птицы – и сколько же их воинов клюнут на неё!
Си-Хуан в потрясении почесал затылок. Ну надо же! У их предводителя, как и у них всех, жизнь висит на волоске, но он способен думать о будущем, да ещё с такой дальновидностью и уверенностью!..
Наконец, с окружёнными договорились. Китайцы сложили оружие.
…За ними не наблюдалось даже и признаков погони. Но они шли стремительно, без привалов, и вскоре достигли подножия гор, синевших вдали. Впереди открывалась широкая степь. Случись что, негде схорониться. Пока стоял день, надо было успеть уйти подальше.
– А всё ж удалось прорваться, уйти живыми! – радовались тойоны.
Остановились ранним вечером, чтобы засветло приготовить еду: опасались, что костры в темноте будут видны издалека. Одетые кое-как, ушедшие от врага налегке, воины улеглись и мгновенно заснули.
И только Боорчу никак не мог заснуть. Он долго смотрел в звёздное небо, и душу его томили какие-то тёмные предчувствия. Казалось бы, можно и не тревожиться особо: ведь из такого окружения вырвались! Пехоте их теперь не нагнать, разве что конное войско на это способно. Но, скорее всего, не решатся китайцы выходить далеко в засушливую степь. Если только не получат верховный приказ – догнать и уничтожить врага во что бы то ни стало.
Тут он заметил, что лежавший неподалёку Си-Хуан тоже крутится без сна, и спросил его:
– Ты почему предлагал их всех перебить?
Си-Хуан не отвечал долго, а потом нежданно отрезал:
– Потому что мёртвые молчат!
– Ого!
– Я думал: среди них могут оказаться доносчики, глаза и уши джирдженов. Теперь вижу, что ошибался…
– Ещё неизвестно… Правда выяснится позже, когда всё пройдёт.
– Что вы говорите? Мы ведь оторвались от них!
Боорчу ничего не ответил, лежал, молчал. Потом поднялся, сел и сказал:
– Обойди караулы. Может, поставить караульных в более надёжных местах?
– Ты сказал…
Заснуть, и то ненадолго, Боорчу удалось лишь к полуночи. И ему приснилось…
Он на речном берегу в степи Быйаннах, где впервые некогда встретился с Тэмучином. И он, одетый точно так же, как тогда, доит кобылу: молоко бьёт струёй в берестяной подойник… А по другому речному берегу проходит конный сюн в сверкающих боевых доспехах. А впереди – воин с лицом Тэмучина, даже с тою же рыжеватой бородкой, что у него. Боорчу зовёт его, крича изо всех сил, но воины не видят его, хоть и оборачиваются в его сторону. Вот они мчатся лёгкой рысью – как мчались они и тогда, – мчатся мимо него. Промчались – и пропали среди редких зарослей тальника…
Проснувшись, Боорчу сразу понял: этот сон – не к добру. Скорей всего, к какой-то близкой беде… Упредить её! Скорее добраться до надёжного убежища – вот оно, всего лишь в трёх кес отсюда, овражистое речное предгорье…
В путь вышли ещё до рассвета. Когда солнце поднялось, они уже одолели немалый отрезок пути. Вот и завиднелись горы, к чьим подножьям они стремились. Но всё равно, для пешего хода и недальняя дорога далека. Конница уже давно достигла бы цели.
К полудню иссяк запас воды, люда устали, ход их совсем замедлился. И потому единственный верховой сюн выслали вперёд, за водой. Предгорья, манившие своей яркой зеленью, казались совсем близкими – рукой подать! Но чем дольше люди шли, тем почему-то дальше становились… Вдруг в задних рядах раздались крики. Оглянувшись, увидели: в небо, словно тёмные тучи, вздымаются густые клубы пыли. Будто бы смерч их поднял. Но их поднял не смерч…
– Джирджены! Нучи!
– Так мы и знали, не могли они нас вот так запросто отпустить!
– Прямо по следу нашему скачут!
– Вот напасть-то!..
В лютой досаде Боорчу скрипнул зубами. Повернувшись к Си-Хуану, крикнул:
– Вот видишь, теперь ясно: это я был неправ, а ты как в воду глядел, опасаясь погони… Но делать нечего – выстраивай воинов для боя. Даже если нагонят, нападут, окружат, всё равно будем пробиваться! Были б мы уже у подножья – дали бы им отпор настоящий, ведь совсем немного осталось идти… Запомни: что бы ни случилось – не останавливаемся, движемся туда, хоть на четвереньках! Кто дойдёт – спасётся. Объяви это воинам. Давай, Си-Хуан! Я сказал! Ты услышал!
– Ты сказал! Я услышал!
И вскоре джирджены нагнали их…
Они начали окружать, поднимая столбы и клубы пыли. В черной мутной пелене скрылось солнце. Опытным глазом Боорчу определил: джирдженов было примерно шесть мэгэнов. Сначала они не приближались вплотную. Было заметно: их лошади устали от бешеной скачки, потные лошадиные тела покрылись слоями пыли, отчего все они стали одной темно-серой масти… Си-Хуан – вот молодец, подумал Боорчу – построил воинов сжатыми рядами и продолжал двигать их вперёд.
Но вот – началось!
С устрашающим боевым кличем джирджены налетели на «черных» в нескольких местах. И стремительно шедшие вперёд ряды замедлили шаг, а потом почти остановились… Это срабатывала вековая их привычка повиноваться джирдженам.
– Не останавливаться! Вперёд, только вперёд! – раздался громовой глас Боорчу, и тут же толмачи, державшиеся рядом с ним, прокричали эти слова на ханьском языке. – Не вступайте в бой, дайте им дорогу в глубь строя, а сами – вперёд! Тогда они сами подадутся назад!
Как же исполнительны ханьцы! Тут же расступились, впустили несколько десятков конников разными путями в гущу своих рядов. Джирджены опомнились, спохватились, начали поворачивать – но их тут же встретил лес копий и пик…
Китайцы же, ханьцы, видя это, не только пришли в себя, но и воодушевились. Вновь споро двинулись вперёд. И до поры, до времени джирджены не налетали на них. Но потом одновременно и со всех сторон стали наступать ровными рядами. Враг нападал всё сильней.
И пошла такая сеча, когда никто и никуда не мог убежать, было невозможно даже увернуться от удара. Оставалось лишь одно – пробивать себе дорогу, рубиться лицом к лицу. Непрестанно сечь и колоть живое мясо.
В рёве и вое тонули даже донельзя громко выкрикиваемые слова приказов.
Много всяких ужасов повидал в битвах Боорчу, но и он с трудом мог бы припомнить что-либо подобное… Нет, так нельзя! Если всё время стоять, их всех тут перерубят, числом возьмут. Надо сдвинуться с места.
Своим богатырским голосом Боорчу издал что-то среднее меж оглушительным воем и рычанием – и ринулся на северную сторону строя. И среди безумия воплей и стонов войско услыхало этот жуткий глас, – и словно вздрогнуло, стряхнув с себя смертный ужас. И все рванулись на этот клич, и ринулись за ним.
И в это самое время натиск верховых джирдженов стал слабеть, ряды их поредели, а потом начали рассыпаться. Чтоб не ослабел напор «чёрных», не иссяк их общий порыв в движении вперёд, Боорчу ещё несколько раз подхлестнул их громовым голосом. Его приказа уже никто не переводил, но все его понимали и подчинялись.
Тут и стала ясна причина ослабления джирдженьских рядов. Это примчался мэгэн монгольской конницы и, следуя своим правилам боя, начал осыпать их стрелами ещё издалека.
Джирджены, обступившие войско Боорчу спереди и справа, при виде конницы противника кинулись поначалу наутёк. Но монголы на свежих своих конях, которых меняли на ходу, не давали им уходить на загнанных измученных лошадях. И пошла рубка с успехом лишь одной стороны.
Но джирджены, которым уже нечего было терять, и на сей раз показали свой упрямый норов. Наступавшие с тыла и сбоку, даже видя гибель своих, все равно рубились с пешими «чёрными» – не отступали, не удирали в панике, как другие.
В малое время монголы истребили первые два мэгэна врага и, перестроившись, обрушились на других.
Только теперь Боорчу немного перевел дух… Оглянулся и понял: за столь краткий бой он потерял половину своего войска. И в эти бездыханные молодые тела уже не вдохнёшь жизнь, сколь ни старайся… Весь степной окоём сплошь покрывали эти распростертые тела. А как же он оберегал их! Как стремился спасти каждого! И в его сердце родился и застыл безмолвный, но жуткий, тоскливый вопль…
Тут вдруг что-то ударило его по затылку, потом боль пронзила спину и ушла под лопатки.
– О-о-о! Вот незадача!.. – простонал он. – Не вовремя.
…Воины почему-то поддерживали его под обе руки. Что-то быстро говорили, но что?
Он оглянулся, пытаясь понять, что же произошло, и увидел: из его спины торчит оперённый хвост стрелы. Какая неуклюжая, грубо выделанная, толстая стрела – ни один монгол до такой не опустится! А какой же это птицы перья? Неужели из крыла беркута?..
Во всем его теле поселилась тяжесть, закружилась голова, мысли стали разбегаться. А земля, по которой он всегда ступал уверенно и твёрдо, закачалась и стала уходить из-под ног. Потом он медленно то ли поплыл, то ли ушёл в полёт…
Шесть мэгэнов утомленных битвой джирдженов на загнанных, в мыле лошадях не смогли дать отпор всего лишь одному мэгэну монголов Сюбетея и погибли. Бежать удалось всего лишь немногим из двух мэгэнов, оставивших на поле боя раненых, убитых и сдавшихся в плен.
Глава тринадцатая
Люди и Боги
«Конфуций считал, что жизнь общества должна регулироваться законами, не созданными кем-либо, а некими правилами (Ли) – нормами обычного права, основанными семьей с абсолютной властью отца, общной с ее идеалом – сплоченностью всех ее членов. Конфуций пошел гораздо дальше: он постарался найти глубинную основу правопорядка… и нашел ее в природе самого человека, вернее, в главном (Жень), что есть в этой природе. Сущность этого начала он видел «в любви к людям» (ай Жень), применением которой он считал «прямодушие и отзывчивость» в отношениях людей друг с другом. Ему принадлежит высказывание: «Не делай другому того, чего не желаешь себе».
Н.И.Конрад, «Избранные труды» (ХХ в.)
Кехсэй-Сабарах, проведя всё лето в хлопотах, отобрал шесть мэгэнов войска. Для них подготовили верховых коней, оружие, доспехи и одежду.
…Холода приходят в горы раньше, чем в степь. И потому на осеннюю облаву, устроенную тогда, когда пожелтели травы и листва, поставили всех воинов, чтобы заодно обучить их строю. Однако племена в этом краю охоту с войной не смешивали: у них не только не было обычая идти на охоту боевым строем в полном вооружении – они считали такое грехом.
– Да неужто мы будем подражать диким монголам, у которых и человеческих-то порядков нет в жизни?
– И то правда! Разве уважающие себя люди станут охотиться на тварей бессловесных, на детей природы с тем же оружием, каким людей умерщвляют?!
Поначалу Кехсэй-Сабарах делал вид, что не слышит этих толков. Но когда ропот начал крепчать, он прикрикнул:
– А вы хотели бы учиться войне прямо на войне? Во сколько ваших трупов такая учёба обойдётся, подумали? Да в бою ни один новобранец не поймет не только как правильно исполнять приказы, но и как их расслышать! А если приказ вовремя не исполнен, тут же распадётся строй, и самое крепкое войско станет бараньим стадом. Ясно?!
Тойоны притихли, не решились ему перечить, но он видел: им все эти его нововведения крайне не по нутру. А всё, что делается без желания, лишь по чужой воле, получается коряво… До чего же обидно, что столько идёт не по его замышлению, не так, как хотелось бы!
– Вот наказание мне на голову! – скрежеща зубами, бормотал про себя старый воитель в досаде на неумёх, вдобавок не понимающих его и противящихся его воле. – И за какие грехи мне достались эти олухи, чьи вожди выжили из ума?..
…Во времена расцвета Найманского ила людей из этих племён-народцев никто и не думал допускать до настоящего военного дела, готовить их к нему. Тогда ни под каким видом не вводили в прочно устоявшуюся среду закалённых воинов «чужую масть» – тех, кто ни сам, ни предки его искусством войны не занимался и в нём ничего не смыслил… Оно и верно: ведь почти невозможно создать настоящее войско из людей, которые войны и не нюхали. Что взбредёт им в голову, когда враг начнёт пластать на части тех, кто рядом с ними в строю, когда кровь захлещет? Самое опасное – страх, сумятица… в них начало всех поражений. Чтобы такого не случилось, уже сейчас надобно выявлять нестойких духом и боязливых людей, устранять их заранее.
Конечно, пока нет сражений, в таком тонком деле сложно разбираться до совершенной уверенности в сделанном выводе. Вот и приходится на всякий случай отметать всё и вся, хоть сколь-либо вызывающее недоверие. И всегда при этом – несогласие вождей племён, бесконечные споры и раздоры с нами…
Но нет худа без добра. Стоило ужесточить отбор – переменились и вожди. Раньше – даже после долгих уговоров уступали людей скупо и нехотя. А тут сами стали их навязывать. Словно соревновались меж собой: кто выставит большее число воинов.
…Племенам, изгнанным некогда из благодатных долин, простиравшихся внизу, эти хмурые и нежаркие, даже суровые, но богатые и таёжным миром, и зверем-птицей горные места пришлись по нраву. И жили они здесь в мире и согласии… Пока не было внешних угроз, они пребывали в уверенности за своё бытие, твёрдо стояли на ногах. И никто из обездоленных и впавших в немощь не смел в те поры, не заручившись ходатайством более сильных, просить у них какой-либо помощи. Попробуй – уйдёшь ни с чем от этих сытых, равнодушных и не внемлющих мольбам голодных людей, от этих закосневших в своей сытости и в довольстве… Но за последние годы и до них докатилось снизу вверх ледяное дыхание перемен, что произошли в степи, заставило глянуть на мир иными глазами. Чтобы выжить в надвигающемся бедствии, стало необходимо искать союзников, налаживать новые отношения с другими народами.
Особенно почему-то страшились все монголов. Эта тревога стала просто клевать сердца, когда докатилась сюда весть, что те покорили и Тангутский ил, и Китайский. Вдобавок, с востока в этот край являлись всё новые и новые племена, бежавшие от страшной войны.
К тому же с запада шёл другой страх: там в последнее время вошло в силу, обрело могущество Хорезмское государство. Оно ежегодно расширяло свои владения, присоединяя к себе новые покоренные земли. В этой державе исповедуют ислам, и только ислам. И здешние народы этого боятся. Их тревожит, что мусульмане считают всех иноверцев, всех и любых последователей других верований «неверными», «кяфирами», стало быть – врагами, с которыми можно говорить только языком оружия. А здесь, в этом краю – здесь уживаются в мире разные племена и народы разных вер. Одни поклоняются Христу, другие – Будде, есть и мусульмане, есть поклоняющиеся иным богам и божкам… И это лишь для неискушённого взгляда все боги похожи один на другого: на деле же корень главных раздоров меж людьми – именно в разнице меж верованиями. Вот почему последователи Будды так обрадовались, узнав, что молодой сегун Кучулук, женившись на Кункуй-хотун, перешёл в их веру…
Но кто знает, с какой стороны нагрянет гроза, и станут ли чище после неё их селения – или, наоборот, утонут в грязи. Какой Бог этим ведает? Вот поэтому-то каждый и молит о спасении своего Бога. Встать же против беды, грозящей и с востока, и с запада, надвинувшейся уже вплотную, по-настоящему смогут только кара-китаи, объединив все другие народы.
Всё так, это видно зоркому Кехсэй-Сабараху. Но он видел и многое другое. Видел, как поистине за несколько дней рассыпался в прах некогда могущественный Найманский ил. И теперь он сомневается во всём.
Да, тем, кто бежит сюда от страшных бедствий и пребывает в крайней нужде, кто испытал на себе судьбу изгоев – тем Ил кара-китаев, богатый и цветущий, представляется столь незыблемым, что его не смогут поколебать никакие удары… Всё в нём так величественно – слов не хватает для славословий!
Но человеку, не раз получавшему суровый урок, не можется славословить. Что-то во всём этом благоденствии не даёт покоя его душе, тревожит. Что именно – трудно определить словами. Но есть нечто, шестым чувством осязаемое, есть нечто незримое во всём мироустройстве Ила, в людских взаимоотношениях и нравах, чего душа никак принять не может. Более того, есть нечто, вызывающее осуждение в душе и даже какие-то дурные предчувствия в её глубине…
Тут и чрезмерная самонадеянность, подпитываемая не просто достатком и зажиточностью, а излишней роскошью и богатством. Тут и чрезмерная гордость от собственной мощи – даже гордыня… Всё тут чрезмерно, всё нарочито! И натура людская от этого размывается и просто разрушается.
И мучится старый Кехсэй всем этим, даже себя клянёт за эти мучительные думы.
– Урод ты старый, ну, что ж ты всё время что-то плохое выискиваешь?! – бранит он себя самого. – Да неужто такой великий народ, на которого сотни лет все глядят, высоко задрав голову и преклонив колена, такой народ, который веками знался лишь с победой и славой – неужто он не имеет права на гордость, на чувство своей исключительности и очевидного превосходства?
Всё так… А думы всё равно точат и точат. Оттого ли, что кровь одна, что оба народа произошли от древней Державы киданей, и многое роднит кара-китаев с Илом найманов – многое же и напоминает время перед его разрушением… Явственно видно: упали нравы, низкой стала сама сущность человеческая. Любой разговор завершается только так: «Нет нам равных! Нам, великим и непобедимым!» Любимым развлечением стало издеваться, насмехаться над другими народами, над их низкими обычаями, поднимать на смех то, что отличало их, и что кара-китаи считали дикостью и мерзостью…
Да… все иные для них племена – уроды, все народы глупы и недоразвиты, кроме них самих. В таком духе воспитанная, молодёжь изначально уверена в своей исключительности, в своей непобедимости при любых обстоятельствах. Потому и своевольна, и невыдержанна. И нетерпелива. И, как следствие всего этого – безграмотна и диковата.
Прошло более тридцати лет с тех пор, как Сабарах впервые получил должность сегуна. С тех пор найманы не знали ни единого поражения. Потому и стали они слишком самонадеянными. Но, с другой стороны, заслуги Кехсэя всегда принижались приспешниками хана, мельтешившими вокруг владыки. Если кто-то хвалил сегуна, ему тут же они затыкали рот:
– Победу добыло всё войско! Разве в том заслуга одного лишь Кехсэя-Сабараха?!
– Кто бы ни стал предводителем, всё равно победим!
Вот такой дух царил когда-то среди найманов – такой же, как теперь среди кара-китаев… И что толку теперь старому Кехсэю запоздало раскаиваться? Что толку говорить себе: мол, надо было вовремя отойти в сторону, хотя бы в третьестепенных, малых заштатных делах, чтоб эти гордецы испытали боль и горечь поражения хоть в небольшом сражении – тогда, может быть, и такого сокрушительного бедствия не познали бы, какое произошло позже…
Одно остаётся несомненным: судьба столь великого народа не должна ломаться лишь из-за какой-то случайности. Из-за оплошности, споткнувшись, он не может рухнуть навсегда. И спасение его – тоже не воля случая. Если происходит падение – значит, переполнилась чаша его грехов. Значит, такова кара, назначенная ему Господом Нашим Иисусом Христом…
Кехсэй-Сабарах чутко улавливал все слухи, шедшие и с востока, и с запада, и со всех сторон, собирал их воедино, осмысливал. Потом рассылал своих особо доверенных соглядатаев, чтобы проверить обоснованность и правдивость этих слухов, узнать, не являются ли они плодом чьего-то воображения.
И вот итог: полностью подтвердились сведения о том, что западные сарты, туркмены, пригнали к границам земель кара-китаев множество табунов и стягивают туда большие войска. Значит, Хорезм-шах, султан Мухаммет принял решение готовить пути для наступательного похода ближайшей осенью. Пешего войска у него не счесть и глазом не охватить. А его конница, состоящая из кипчаков, живущих в северных степях, ни от кого не терпела поражений по сию пору. Вот только успешной конница в этих краях из-за сильного зноя может быть лишь поздней осенью или ранней весной.
Потому-то и старается Кехсэй-Сабарах собрать как можно больше конницы. Но снаряжение и подготовка верховых воинов требуют гораздо больше времени, чем пеших. Чтобы надёжных коней отобрать, чтобы надёжным оружием запастись, да чтоб нукеров обучить – тут ведь и не только время, тут немалые деньги нужны. А когда и где их достаточно, денег-то? Их и без войны всегда нехватка… Эх, воспользоваться бы этой всеобщей великой смутой-неразберихой, да вырваться бы на простор, на большие дороги: там уж можно бы было вволю погулять, немалые богатства заполучить!..
А то – выбивайся тут из сил, стараясь обхитрить местных князьков, чтобы они снаряжали войска собственными силами и средствами. Тут развернуться негде…
Да и угроза с запада – лишь полбеды. С востока другая туча наплывает: монголы! Слухи, что им покорился Северный Китай, полностью подтвердились. А если они там себе руки развязали, то уж ясно: их горящие жаждой покорения взоры обратятся сюда, в эту сторону.
Никогда раньше монголы впрямую не соприкасались с кара-китаями. Разве что уйгуры и харалыки, несколько лет назад отделившись от гур хана Дюлюкю, встали под власть Чингисхана. Это, конечно, не повод к вражде, однако они, опасаясь, что гур хан сможет быстро добраться до них, могут подстрекать монголов. Коли так, то совсем иной смысл обретает назначение сегуном Кучулука – найманского хана: ведь найманы искони являлись кровными врагами монголов.
Что же будет?.. Что нас ожидает?!
Тяжко вздыхает Кехсэй-Сабарах. И сны-то снятся всё больше дурные. Не дай Бог – но, кажется, вещие. И во всём ощущается дыхание близящегося решительного часа, после которого должны наступить великие перемены. Какие? То ведомо лишь Всевышнему, как и всё на свете, лишь Ему. И на всё лишь Его воля…
Особой набожностью Сабарах никогда не отличался, однако ныне он даже велел перенести походный православный храм сюда аж с берега дальнего Иртыша. Вместе со всем причтом. И теперь он видит, как страшно гневается настоятель храма, еще молодой, но очень сурового нрава человек: его привела в гнев весть о том, что Кучулук, крещённый, православный, изменил вере христианской. В чужую веру перешёл!
– Каким Иудой он оказался! – гремел голос попа. – Ведь это самый чёрный, смертный грех!
– Не гневайся так, отец Хрисанф, – попытался успокоить его Кехсэй. – Да, не выдержала душа юного человека множества тяжких ударов судьбы, надломил её груз жизненных невзгод, вот и поступил он опрометчиво. Но мы-то старше, нам надо понять его, а не клясть.
– Что значит – не выдержала душа? Он Бога своего предал, Бога! А отвернуться под бременем недоли от Господа – это грех ещё более страшный!
– Нет, говорю, не надо его проклинать. У него вся жизнь впереди. Человек может не раз ошибаться и сам свои ошибки исправлять. Может, он ещё воротится к истинной вере.
– Замолчи, несчастный! Не защищай грешника ещё более греховными словами! – в ярости прогудел священник. – Воротится он, видите ли! Да что наша вера, наша Церковь – стадо баранов какое, что ли? А он, что ли, баран, чтобы перебегать из одного стада в другое? Ничем и никогда, никаким покаянием и никаким искуплением он прощения от Господа не заслужит!
– Не может такого быть! – воскликнул Сабарах. Коленопреклоненный перед иконой, он только сейчас увидел: перед ним вовсе не Образ Господень, а разгневанный поп. Он вскочил на ноги. – Я знаю: если человек от чистого сердца своего молитву к Богу обращает, если с чистой душой молит о прощении, чистосердечно раскаивается – Господь поймёт его и простит…
– Да что ты понимаешь в делах Господних?! – возопил священнослужитель. – Как ты смеешь меня, слугу Церкви Божией, учить вере? Ты кто? – убийца, стоишь по колено в крови, грешник великий. На твоей совести столько погубленных душ, что не тебе поминать имя Божие! Видеть тебя не могу!
– Я… нет, я не убийца! Всяко меня поносили за мою долгую жизнь, но никто никогда… – Кехсэй-Сабарах от негодования захлебнулся словами, хлопнул по колену запылённой шапкой, выпрямился, преобразился, взял себя в руки. Даже голос его зазвучал по-иному, твёрдо и уверенно: – Да, я воин. За мною множество битв и побед. Во главе наших войск я защищал жизнь моего народа – да, потому и убивал вооружённых врагов. Но за всю мою воинскую жизнь я не убил ни одного безоружного человека, не погубил ни единой невинной души! А число спасённых мною людей стократ больше числа убитых врагов…
– Он ещё похваляется! Да какие там победы, если в жалком виде ваш народ пребывает? A за грехи твои пред Господом ответ будешь держать! А Он не услышит ни тебя, ни Кучулука, питомца твоего, не обратит Лик Свой к вам.
– Хо! Да ты всего лишь поп, или ты у самого Господа состоишь в советниках? Почему ты за Него решаешь, как ему поступать?
При этих словах отец Хрисанф окончательно вышел из себя. Задыхаясь от гнева, он сначала пробубнил про себя нечто нечленораздельное, а потом изрыгнул словесно свою ярость:
– Если так, то я, слуга Божий Хрисанф, предам анафеме Кучулук-хана, променявшего веру святую на деревянного истукана! И тебя, головореза, тоже пред ликом Господа Нашего отлучу от Церкви! Завтра же предо всеми в храме изобличу ваши смертные грехи! Изыди! Не оскверняй собой храм святой!
– Ты и вправду это сделаешь? – поражённо прошептал Кехсэй.
– Воистину так! Приди завтра и сам услышишь!
– Неужто?! – Сабарах в страхе попятился. – Ладно, со мной поступай по своей воле. Хоть проклинай, хоть прославляй… у меня шкура уже такая дублёная, что ничем её не пробьёшь. Но Кучулука-то можешь пожалеть, снизойти к его младости?
– Никогда! Он предал Господа Христа Нашего!
– Что ж… – после некоторого молчания раздался грозно-приглушённый, глубинный, словно внутриутробный голос старого воителя. – Ладно! Вижу, ты человеческого языка понимать не хочешь… А я, как ты сам только что сказал, немало голов срубил на своём веку. К ним и ещё одна прибавится… твоя, Хрисанф. И пусть после этого я предстану перед судом Господним!
Как только Кехсэй-Сабарах вышел из храма, молча слушавшие весь разговор клирики обступили своего главу:
– Зачем связываться с этим живодёром?! Ведь он что сказал, то и сотворит непременно. Лучше отступись, подумай, как нам это дело миром уладить…
– Нет! Пусть Господь рассудит! – не уступал Хрисанф. – Я не стану мириться с разбойником, у которого руки по плечи в человеческой крови.
– Зачем ты так, отче? Ведь и впрямь он, Кехсэй, проливал кровь только в битвах, он же наши найманские жизни оборонял, – не уступали младшие церковные служители. – Нельзя с ним спорить: ведь тогда мы, найманы, пропадём начисто…
– И пусть! Всё в воле Божией! Не отступлюсь! Завтра же готов предать себя смерти, но до того предав Божиему проклятию вероотступника Кучулука, – непреклонно твердил настоятель.
– А я так мыслю: повремени ты анафемствовать, – смиренно, но тоже твёрдо молвил старый дьякон, прежде молчавший. – Да, все знаем: Кучулук по молодости горяч и опрометчив. Вот в бедствиях своих немалых он и заметался, ибо некрепок верой. Скорей всего, так решил: мол, Христос меня от несчастий не обороняет, так, может, другой бог мне получше покровительство даст… Не подумал, а где ж ему было научиться думать, когда с младенчества столько лишений и невзгод ему на голову пало. И я предвижу: он ещё опамятуется, и совесть в нем христианская проснётся. И вернётся он в лоно Церкви нашей и к Нашему Господу Иисусу Христу… И Вседержитель простит своё заблудшее дитя, услышит его покаянные молитвы…
– Братия, не судите обо мне яко о впавшем в гнев напрасный, – молвил после некоторых раздумий отец Хрисанф. – Не питаю я злобы к этому хану и к наставнику его. Веру я нашу хочу оборонить от отступников. Урок хотел дать тем, кто готов Господа Нашего предать. А Христос, что истинно так, милостив. Он прощает раскаявшихся грешников…
– Ну и ладно, – заключил этот тяжкий разговор старый дьякон. – Не подобает нам усугублять раскол меж нами и нестойкими из нашей паствы. Мы ведь и сами в изгнании и притеснении находимся. А с Кехсэем я сам потолкую…
Поутру Кехсэй-Сабарах, как и обещал, явился в храм в полном боевом облачении, сопровождаемый десятком воинов из его личной охраны. Однако, поговорив со старым дьяконом, он встал на колени перед иконой с ликом Спаса и долго молился. Потом исповедался и причастился.
…Старый воитель чуял всем своим существом: близится Великая Смута! Такая, что весь срединный мир содрогнётся от неё.
Ведь только слепец не видит, как пали нравы людские. Гляньте: вот люди, жившие прежде тихо и незаметно – а сегодня они, похоже, стали бесом одержимы. Шумят, буянят, глаза у них горят недобрым огнём, всё время они выискивают какой-нибудь повод, чтобы с кем-либо свару затеять. И сколько таких стало – едва ли не большинство!
Война – что могучий смерч: вздымает всякий сор, все, лишённое прочных корней и сильных ветвей. Она обостряет все главные пороки – жадность, корыстолюбие и прочие уродства природы людской, что до поры до времени таятся в глубинах душ.
Глупцам, людишкам с малым умишком война представляется этаким огромным бездонным сосудом, где сокрыто их будущее благоденствие, из которого через край плещутся всяческие невиданные щедроты и богатства Она манит возможностью вволю, хоть и ненадолго, утолить жажду алчности и златолюбия, утолить необузданную похоть, насладиться безмерной и безудержной свободой. Этим людишкам и в голову не приходит, что они сами могут и немыслимые страдания принять, и с жизнью расстаться. Нет, всё затмевает неукротимая уверенность, что, немного помахав мечом, можно вмиг обогатиться, овладеть такой добычей, что вьючных лошадей не хватит для её перевозки к дому…
Вот почему у всех народов те, кто управляют войском, подзуживают воинов к насилию при помощи низких инстинктов.
– Воины! Ворветесь в город, он будет на три дня отдан в ваши руки! Три дня вы будете вольны делать там всё, что захочется! Убивать, грабить, собирать любые драгоценности, брать под себя любых приглянувшихся вам баб – всё! Эти три дня будут для каждого из вас днями единоличного властвования. Всю оставшуюся жизнь будете вспоминать эти незабываемые дни!
…Есть, правда, одно исключение – монголы. Они никогда и даже на малейший срок не дают своим воинам своевольничать. Не разрешают бесчинствовать нукерам, потерявшим рассудок от горячки боя и жаркой рубки. Даже и после битвы воин не может покинуть строй, оставить в нём пустоту – тяжкая провинность, караемая смертью. Твоё место в строю может опустеть только лишь если ты погибнешь или если тяжкая рана свалит тебя с ног.
Кехсэй-Сабарах никак не может понять, чем монголы поддерживают такой порядок, и почему их люди его охотно принимают. Это поразительно! Это тайна, которую он никак не может понять…
Да, несомненно: война – бедствие, ни с чем не сравнимое, она разрушает человека, коверкает и грязнит всё его естество. Она так воздействует на его душу, что в ней просыпаются, казалось бы, мельчайшие и даже незримые зёрна разных низостей и скотств. Всякая грязь и всяческая погань всплывают в его природе наружу. Вот военачальники иных народов и стараются поощрять в людях, идущих на войну, алчность и жадность, чтобы на место человечности встали беспощадность, жестокость и жажда разрушения – вот чего хотят добиться такие предводители.
Монголы же воспитывают своих воинов совсем в ином духе. У них не поощряют личного геройства, бесшабашных удальцов, которые готовы увлечь за собой в безрассудный натиск других. У них строже всего спрашивается за нарушение прочности и нерушимости строя в бою – как на облаве во время охоты. Не рвись вперёд, но и не отставай! Что бы ни произошло, твоё место в строю, цепи не должно опустеть, стать брешью. Потому-то столь крепок строй монгольского войска, и нет в нём разрывов: всегда одновременно идут несколько мэгэнов подряд – вперёд-назад и вправо-влево воедино, словно одной цепью связанные. И потому выглядит такой строй устрашающе. И не застанешь его врасплох: даже если сможешь окружить – не остановишь, их плотные ряды пробьют кольцо окружения и уйдут!
Худо на душе становится у Кехсэя, едва лишь он подумает о монголах, тяжко на сердце… Все у них не как у людей. Если всякая война опирается на человеческие слабости, пороки и алчность, то у них все это карается смертью. Но все почему-то с удовольствием служат, совершенно бескорыстно. И ради чего? Непонятно.
А ведь когда-то сам Чингисхан его на разговор к себе пригласил! И говорил с ним так уважительно, так обстоятельно, с такой искренностью, как никогда и никто с ним из его ханов не толковал… Они, его повелители, разговаривали с ним либо пренебрежительно, высокомерно, либо косясь на своих приближённых. Явственно было одно: они не допускали его в свой мир, считали чужаком, потому и подозревали всегда в чём-то. То не разговоры велись, а, скорей, допросы: «Почему это так?», «А это почему не так?» – и всё. А ты отвечаешь, как бы оправдываешься, будто и вправду виноват в чём-то, словно не победу добыл, а провалил дело.
Но что толку теперь пересчитывать старые обиды?
Однако лишь подумает старый Кехсэй об этом – тошно ему становится, и тяжесть изнутри распирает грудь… Да что ж теперь поделаешь? Повелителей не выбирают: власть – от Бога. Так что надо принимать всё как есть и оборонять правителя изо всех сил. Даже о себе забывая…
Тем более, что нынче у него остался лишь один повелитель – Кучулук-хан. Единственная власть над ним, и единственная, кого ему защищать. Нe зря же ради него он чуть было не поднял меч на настоятеля храма, на главного попа в этом краю… От Кучулука теперь, от него лишь одного зависит судьба целого народа. К несчастью, слишком он горяч, вспыльчив, раздражителен. Слишком часто поступает не так, как подобает главе Ила, а как вольный сирота без всяких обязательств перед людьми, не имеющий ни прошлого, ни будущего. Слишком часто в нем норов говорит, а не государственная мысль, нацеленная в грядущее.
А настоящий правитель должен принести всего себя в жертву своему народу. Всё перенести ради народа и суметь приноравливаться к обстоятельствам… А принимать решения в буйстве от радости или от гнева – дело гиблое. Оно может такие плоды дать, в такую пропасть завести, что будут обречены судьбы множества людей, которые пока ни сном, ни духом не ведают о грядущих бедствиях…
Когда разгар лета сбрасывает на землю опаляющую и всепроникающую жару, когда безводные равнины высыхают добела и поверхность их покрывается трещинами, основная часть обитателей низин перекочёвывает в сторону гор. Там ветерки всегда прохладны, там часто выпадают живительные дожди, и зелёные луга полны скота и людей.
Так что Кехсэя-Сабараха всё время осведомляют о первых самостоятельных шагах его питомца Кучулука и о том, как воспринимаются эти шаги в народе. Конечно, каждый видит всё по-своему: одним повелениям люди не придают должного значения, другие же ими принимаются «на ура», но главный смысл их мало кому ведом. Однако старик так хорошо знает натуру своего воспитанника, что этот смысл определяет сразу.
Не может он не думать о делах державных… Никогда за свой долгий век не стоял он от них в стороне, а уж теперь просто не под силу ему от них отстраниться, уйти на покой. Думы эти с утра терзают его. Кроме них, кроме этих дум иные хлопоты его не особо занимают… Все дела здесь завершены, и уже месяц он ничем не занят. И, всю жизнь привыкший быть в круговороте больших забот, он заскучал.
Кажется старику: он уже никому не нужен, никто из сильных мира сего не берёт в расчёт, не обращает на него внимания. Такая мысль ввергает человека, всегда принимавшего какие-то важные решения и распоряжавшегося людскими судьбами, в дурное состояние духа… Оказывается, нет ничего более мучительного, чем вдруг оказаться не у дел, ничем не занятым…
В один из таких дней, когда солнце начало клониться к западу, молодой порученец, уже немало времени томившийся без дел, запыхавшись, прибежал в ставку своего тойона. От волнения и спешки он едва заставил себя соблюсти приличия и пройти вглубь шатра неспешным чинным шагом.
– Великий тойон!
– Что случилось?
– Прибыл некий человек и просит встречи с вами!
– Вот как? И откуда же он явился?
– Со стороны захода солнца. Но никто не знает, кто он такой. Однако, похоже, что он сарацин. Держится так, как подобает мусульманину. А ещё у него немалый табун, но на табунщика он не похож. Просил меня устроить встречу с вами и дал десять золотых монет. Сказал, что даст ещё столько же, если устрою встречу…
– Откуда ж, хотелось бы знать, такие богачи сюда забредают? – голос Кехсэя звучал так, будто он недоволен, что его кто-то там беспокоит по пустякам. Но про себя он удовлетворённо подумал: «А, значит, всё-таки со мной считаются аж где-то в дальнем далеке, понимают, что я не последняя спица в колесе срединного мира, коль издалека прислали ходатая ко мне». И молвил задумчиво: – Если он прибыл с запада, то вполне может оказаться посланцем султана Мухаммета, Хорезм-шаха.
– Так каково будет ваше повеление?
– Таково… Не для забавы же из такой дали человек прибыл. Можно и встретиться с ним, разузнать, что они там думают…
– Будет исполнено! – порученец радостно заулыбался, но тут же придал голосу строгость. – Позвать его?
– Нет… Спешить тут нам ни к чему. Мы не должны выглядеть в его глазах так, будто только и ждали его и готовы тут же его принять в объятия, словно в несчастье впали. Нет, – жёстко сказал Сабарах. – Ты ему скажешь, что пробился ко мне и смог со мной поговорить о нём, а я соизволил дать согласие на краткую встречу с ним, но не сегодня, а самое ближнее – завтра. Заставим его подождать, а позовём послезавтра. Так будет во всех смыслах достойней и полезней… А ты, когда с ним говорить будешь, постарайся выведать его тайные умыслы, узнать, что вообще там у них творится, и что нам от них ждать…
«Великий воитель Кехсэй-Сабарах! К тебе в своём послании обращается повелитель Хорезма и Согдианы, страны туркменов и кипчаков и множества других народов – султан Мухаммет Хорезм-шах. С самого раннего детства я наслышан о твоих славных победах, воспитан на них и восторгаюсь ими. Мой отец Тэкис-хан с большим вниманием следил за твоими боевыми деяниями, пристально изучал твои способы ведения войны.