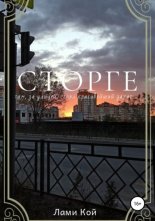Точное мышление в безумные времена. Венский кружок и крестовый поход за основаниями науки Зигмунд Карл
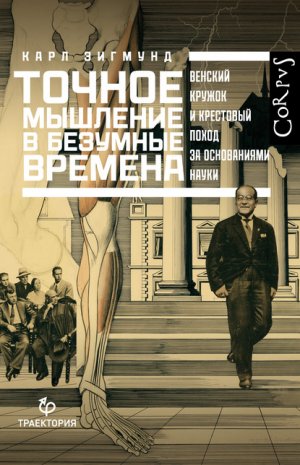
Рихард фон Мизес тоже перебрался в Стамбул. Берлинский институт прикладной математики, детище фон Мизеса, захватил уроженец Вены Теодор Фален, фанатик-нацист, решивший создать “немецкую математику”. В турецком изгнании Рихард фон Мизес написал “Краткий учебник позитивизма” (Ein kleines Lehrbuch des Positivismus)[384]. На самом деле книга вышла вовсе не краткой, и в ее названии недаром красовалось слово “позитивизм”, ненавистное немецким философам – это был выпад против них.
А Мартин Хайдеггер, пресловутый философ Ничто, был назначен ректором Фрайбургского университета. Он не просто публично хвастался вступлением в национал-социалистическую партию, но и читал лекции в коричневой рубашке нацистского штурмовика. “Адольф Гитлер, наш великий вождь и канцлер, – провозгласил Хайдеггер, – своей национал-социалистической революцией создал новое Германское государство, которое обеспечит своим гражданам стабильность и непрерывность истории. Хайль Гитлер!”[385]
Тем временем в Вене Мориц Шлик решил занять твердую позицию в борьбе против национал-социализма. “Повинуясь внутренней потребности”, как он выразился, он написал австрийскому канцлеру Дольфусу тщательно выверенное письмо, в котором поздравил его с недавними достижениями. Приведем отрывок:
Досточтимый г-н Федеральный канцлер, вы были совершенно правы, когда сочли, что дух, возобладавший сегодня в Германии в результате послевоенных лишений, вовсе не тот подлинно германский дух, который воплощают величайшие представители этого народа. Для немецкого народа и всего мира будет лучше, если твердо воспротивиться распространению этого зла.
В заключение письма Шлик выражал свою самую искреннюю преданность канцлеру[386].
Это было недвусмысленное проявление солидарности. В то время довольно многие либералы и консерваторы, в том числе Карл Краус и Зигмунд Фрейд, считали Фронт Родины в пределах так называемого корпоративного государства последним оплотом против Гитлера. Карл Краус писал, что Дольфус – “маленький спаситель от великой угрозы”, а Фрейд объявил, что “наша единственная защита от нацизма – католицизм”.
Национал-социалисты полностью разделяли эту точку зрения и в результате считали очевидным, что Энгельберта Дольфуса надо устранить. Одиночка, член нацистской партии, стрелял в австрийского канцлера перед парламентом, но сумел только ранить его. В суде преступника сочли “ментально неполноценным”, и он отделался легким наказанием – пятью годами тюрьмы. А Дольфус, как только встал на ноги, ввел законы военного времени, в том числе смертную казнь.
Комбинаторная этика
В такой нервозной, страшной обстановке Карлу Менгеру было трудно сосредоточиться на чистой математике. Общество разваливалось на глазах, и каждый был убежден в своей правоте.
Мысли Менгера все чаще обращались к этике – ведь эта дисциплина призвана подсказывать выход из непримиримых конфликтов между противоборствующими партиями. Такова самая суть этики. Не будь конфликтов интересов, не было бы и нужды в морали.
Однако здесь была одна загвоздка. Большинство членов Венского кружка соглашались, что говорить о ценностях строго научным образом невозможно. По представлениям Карнапа, ценности лишены когнитивного смысла, согласно эмпирическому критерию значимости[387]. А Витгенштейн провозгласил, что в мире нет никаких ценностей – а если бы были, они сами по себе не имели бы ценности. “Поэтому не может быть никаких предложений этики” (“Трактат”, 6.42).
Карл Менгер стал искать выход. Он попытался разработать этику без ценностей – формальную этику, которая опирается на традиционную этику примерно так же, как формальная логика – на традиционную логику. И помочь в создании нового вида этики, несомненно, должна была математика.
Идея такой связи была не нова. Роберт Музиль тоже считал, что “существуют определенные связи между математическим и нравственным мышлением”. Попытка Менгера применить точное мышление к этике также не была беспрецедентной. Задолго до него сам Иммануил Кант пытался создать формализованную этику, основанную на чистом разуме. Однако, с точки зрения Менгера, знаменитый категорический императив Канта не в состоянии убедительно объяснить разнообразие общественного мнения. Настоятельная рекомендация Канта звучит следующим образом: “Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства”[388], – то есть, проще говоря, “делай x, только если тебе нравится, что все будут делать x”.
Это оставляло множество вопросов без ответов. Например, как поступать с теми, кому “нравятся” другие законы? Когда разнообразные максимы разных людей совместимы друг с другом, а когда нет?
Несколько десятков лет спустя Менгер так описывал смятенное состояние своего сознания в те дни: “Политическая ситуация в Австрии зимой 1933/34 года сделала крайне затруднительной работу над чистой математикой, практически ежедневно каждый сталкивался с общественно-политическими проблемами и вопросами этики. Поскольку я стремился обрести непротиворечивое и всеобъемлющее миропонимание, я спросил себя, нельзя ли добиться, чтобы эти вопросы больше не возникали, методами точного мышления”[389].
Осенью 1933 года, когда из-за беспорядков в университете все лекции были отменены на полтора месяца, Менгер уехал в Прейн, деревню у подножия горного массива Ракс, куда венцы любили ходить в походы. Там, под внушительным утесом, Менгер написал брошюру “Мораль, решения и социальные организации: к вопросу о логике этики” (Moral, Wille und Weltgestaltung. Grundlegung zur Logik der Sitten).
Когда философы берутся рассуждать об этике, утверждал Менгер, они считают, что их главные задачи: (1) искать “понятие нравственности”, (2) стремиться к пониманию “сути добра” и (3) составлять “список обязанностей” или выявлять “принцип добродетели”. Но его приоритеты были иными: “Что до меня, я не стану заниматься этими вопросами”. Подобные неопределенные проблемы Менгер собирался оставить философам. А он хотел исследовать, напротив, формальную совместимость различных норм морали и законности, избегая всяческих разговоров о ценностях: “Нравственные ценности будут, так сказать, определяться группами их… приверженцев”[390].
Это привело к комбинаторным вычислениям. Менгер старательно обходил все актуальные идеологические проблемы. В качестве примеров он брал различие во мнениях между курильщиками и противниками курения – в то время это было самое безобидное из мыслимых противоречий. Менгера интересовало, как общество обращается с отдельными людьми, которые придерживаются разных взглядов, и он неизменно воздерживался от суждений по поводу самих этих взглядов. Таким образом, он в некотором смысле пытался применить к этике принцип толерантности, который выдвинул Рудольф Карнап.

Карл Менгер и Оскар Моргенштерн в горах
Поначалу книга Менгера была встречена прохладно, даже в самом Венском кружке. Неестественный стиль (смесь писем и диалогов) и стремление во что бы то ни стало избежать любых моральных суждений не соответствовали общественным настроениям того времени.
Освальд Веблен, вернувшийся к тому времени в Институт передовых исследований в Принстоне, вежливо поинтересовался, достаточно ли глубоки подобные вопросы для математика калибра Карла Менгера. Георг Нёбелинг, в прошлом любимый ученик Менгера, несколько менее вежливо написал, что сама постановка таких вопросов ему глубоко отвратительна. Нёбелинг, к возмущению своего бывшего учителя, вернулся в национал-социалистическую Германию, чтобы занять кафедру во Франкфурте, и Менгер считал этот шаг откровенным предательством.
Трудно было найти более неудачный момент для подхода к этическим проблемам с мерками “социальной логики”. А вот применять эту идею к экономике было куда разумнее. Менгер это предвидел: “Группы, подобные тем, которые я рассматривал в заметках [например, группы, расходящиеся по одному вопросу], могут формироваться по внеэтическим критериям – особенно по эстетическим, политическим или экономическим. Группы последней разновидности, кстати, могут оказаться значимыми для теорий экономических процессов”[391].
С этой точкой зрения охотно согласился ровесник Менгера экономист Оскар Моргенштерн (1902–1977).
Моргенштерн (чистый ариец)
Моргенштерн родился в Пруссии, однако принадлежал к австрийской экономической школе, точнее, к ее четвертому поколению. Поскольку первое поколение состояло из Карла Менгера-старшего в единственном числе, Моргенштерн, естественно, высоко ценил взгляды его сына.
На младших курсах в Венском университете Оскар Моргенштерн попал под влияние так называемого кружка Шпанна, сложившегося вокруг Отмара Шпанна, пророка “истинного государства”. Юный Моргенштерн прилежно изучал и труды немецких идеалистов – Иоганна Готлиба Фихте, Фридриха Шеллинга и Георга Фридриха Вильгельма Гегеля. В результате такого воспитания у Моргенштерна возникли антисемитские предрассудки. Он с презрением относился к лекциям по экономике, которые читал Фридрих фон Визер (третье поколение), и писал в дневнике: “А может быть, он все-таки еврей или полукровка? Или либерал?”[392] На самом деле особенным либералом Визер не был, более того, он восхищался Муссолини. Но главное – как отмечал впоследствии Моргенштерн, Визер держался словно “аристократ старой школы”[393]. Кстати, аристократом на поверку был сам Моргенштерн. Его мать была незаконной дочерью немецкого императора Фридриха III из династии Гогенцоллернов, продержавшегося на престоле совсем недолго.
Вскоре Оскару Моргенштерну наскучили романтические фантазии Отмара Шпанна, и он обратился к теории предельной полезности. И стал ассистентом преемника Визера. В школе математика не давалась Моргенштерну, он даже один раз остался на второй год, но в университете стремительно наверстал упущенное. Всего через шесть семестров он получил докторскую степень и, более того, роскошный трехлетний грант на путешествие от Фонда Рокфеллеров.
Моргенштерн твердо верил в важность математических методов в экономике. Однако математика в кружке Шпанна не особенно ценилась, да и во всей австрийской школе экономики ее уважали немногим сильнее. Вот зачем молодой доктор Моргенштерн решил побывать в Англии, США, Франции и Италии – изучать математическую экономику. А когда вундеркинд-полиглот наконец вернулся в Вену, то подал на хабилитацию.
Однако Отмар Шпанн услышал об этом плане и приложил все усилия, чтобы помешать его осуществлению, для чего пустил слухи, будто у Моргенштерна есть еврейская кровь. Вот и фамилия у него подозрительная. Более того, один приятель-еврей как-то посоветовал Моргенштерну, пусть и в шутку, подписывать свои статьи “Моргенштерн, чистый ариец”, чтобы давить все подозрения в зародыше[394].
В конце концов козни Шпанна не привели к успеху, но этот эпизод преподал Оскару Моргенштерну важный урок: он навсегда излечил его от прежних антисемитских склонностей.
В Вене Моргенштерн примкнул к экономическим кругам Людвига фон Мизеса (третье поколение) и Фридриха фон Хайека (четвертое). Людвиг фон Мизес (1881–1973) был братом философа и основателя Института прикладной математики Рихарда фон Мизеса, однако Людвиг славился тем, что был даже заносчивее брата. Рихард и Людвиг друг друга не выносили.
Фридрих фон Хайек (1899–1992) также недолгое время пробыл в кружке Отмара Шпанна, но ушел оттуда еще до появления Моргенштерна. Хайек, дальний родственник Витгенштейна, теперь возглавлял так называемый Призрачный кружок (Geist-Kreis), куда часто заглядывали Феликс Кауфман и Карл Менгер – два члена кружка Шлика. Похоже, в те времена не посещать все венские дискуссионные кружки могли лишь самые завзятые отшельники.
Хайек и фон Мизес были яростными поборниками либеральных идей и непоколебимыми противниками полной социализации в духе Отто Бауэра и Отто Нейрата. Людвиг фон Мизес даже гордился, что в одиночку героически спас Австрию от большевизма. “Это все моя заслуга и только моя”, – говорил он будущим читателям своих мемуаров, но затем, поддавшись внезапному приступу скромности, признавался, что, увы, не смог предотвратить Великую депрессию, хотя и задержал ее приход на целых десять лет[395]. Эти славные подвиги ловкий фон Мизес совершил, сидя в своем тихом кабинете в финансовом отделе Венской Торговой палаты. В университете он не работал.
Фридрих фон Хайек был директором недавно основанного Института исследований делового цикла. Знания и опыт, накопленные Моргенштерном за границей, произвели на него должное впечатление, и он взял молодого человека на работу, а когда в 1931 году Хайек уехал в Лондонскую школу экономики, Моргенштерн стал его преемником. В том же году лопнул крупнейший австрийский банк Creditanstalt. Его крах вызвал масштабный денежный кризис, и вскоре стало известно о целом море коррупции и финансовых скандалов, а уровень безработицы взлетел до головокружительных высот. Все это Моргенштерн наблюдал своими глазами из Института делового цикла. Одной из главных задач, вставших перед институтом Моргенштерна, было создание рыночного барометра, который облегчил бы экономическое прогнозирование. Однако такая идея, видимо, балансировала на грани парадокса – и в самом деле, как прекрасно знали в профессиональных кругах, Оскар Моргенштерн твердо придерживался мнения, что экономические прогнозы в принципе невозможны. Более того, такова была основная мысль его хабилитационной диссертации.
Аргументация Моргенштерна была проста. Любой разумный экономический агент, естественно, реагирует на любой прогноз. Однако эту реакцию необходимо точно предугадать в момент, когда прогноз делается, однако агент это тоже учтет, что также следовало учесть при прогнозе – и так далее: бесконечная игра с собственным хвостом. Очевидно, что экономический прогноз и прогноз погоды – разные вещи. Прогнозы на погоду не влияют. Атмосфера не реагирует на то, что говорят люди, а бизнес – да. Всякий, кто попытается смоделировать этот самомодифицирующийся процесс, попадет прямиком в порочный круг, утверждал Моргенштерн[396]. Это все равно что играть в шахматы, когда каждый игрок пытается просчитать все ходы партнера, прекрасно понимая, что тот, в свою очередь, делает так же.
Не раз и не два Оскар Моргенштерн – словно бы между прочим – упоминал, что открытие фундаментальной непредсказуемости экономики в рамках этой науки аналогично знаменитой теореме Гёделя о неполноте в математике. Экономическое равновесие не совместимо с идеальным прогнозом, и все тут. Однако пройдет несколько лет, и Моргенштерн узнает, что еще в 1930 году в статье, посвященной салонным играм, Джон фон Нейман нашел выход из порочного цикла взаимного предвосхищения: прогнозы вероятности того или иного события можно совместить с равновесием, нарушать которое окажется невыгодным для всех участников.
Когда Оскар Моргенштерн услышал об открытии Джона фон Неймана, это произвело на него сильное впечатление и, по всей видимости, укрепило его убежденность в пользе математики для экономики. Он написал заметку “Логистика и социальные науки” (Logistik und Sozialwissenschaften), посвятив первые три страницы аксиоматическому методу, который так мастерски применял Давид Гильберт в геометрии. Экономике недостает подобных строгих технических приемов, утверждал Оскар Моргенштерн. Его новым призванием, как он теперь понимал, был поиск подхода к экономическим задачам “с подлинно точным мышлением и подлинно точными методами”[397], что, собственно, и требовалось от любого приверженца научного миропонимания. Однако он горько сожалел, что потратил юные годы на попытки усвоить излияния немецких философов вроде Фихте, Шеллинга и Гегеля. К счастью, все эти заблуждения остались в далеком прошлом. Теперь Моргенштерн ходил на заседания Венского кружка, а один раз прочитал там доклад “Идеальный прогноз и социальное равновесие”.
Очередной урок математики
Карл Менгер оказался идеальным резонатором для идей Моргенштерна: “Вчера днем – обед с Карлом Менгером в «Немецком домике». Поскольку мы давно не встречались, то дискутировали два с половиной часа. Он внимательно прочитал мою заметку о прогнозах, согласен с ней и хочет, чтобы я и дальше разрабатывал эту интересную линию”[398].
Еще в 1922 году Карл Менгер написал статью “О роли неопределенности в национальной экономике” (ber die Rolle der Ungewissheit in der Nationalkonomie). Эта юношеская работа, однако, так и не была опубликована, поскольку редактор Zeitschrift fr Nationalkonomie настоятельно отсоветовал Менгеру ее печатать. А помощник редактора, узнав о совете своего начальника, рассердился, поскольку счел это проявлением профессиональной непригодности. Помощника звали Оскар Моргенштерн – и теперь он сам стал редактором журнала! Времена изменились. В новой роли Моргенштерн с превеликим удовольствием отправил статью Менгера в типографию и в качестве дополнительного знака симпатии пригласил Менгера выступить в Обществе национальной экономики. Менгер воспользовался случаем и раскритиковал нестрогое, неправильное применение математических понятий, которым столь часто грешили экономисты. Как впоследствии выразился Йозеф Шумпетер, “Он вынес им строгое математическое предупреждение”[399].
Моргенштерн находил и другие способы, чтобы с энтузиазмом поддержать применение точных методов. Его институт провел цикл лекций под названием “Математика для экономистов”; читал их Карл Менгер, а вести практические занятия было поручено двум бывшим студентам Менгера – Абрахаму Вальду и Францу Альту. Это обеспечило молодым безработным ученым столь необходимый доход. В результате они начали интересоваться вопросами экономики и написали статьи, которые впоследствии стали классикой математической экономики. После аншлюса оба были вынуждены бежать из Австрии, но, к счастью, сумели найти работу в США благодаря публикациям по экономике, которые оказались для них куда полезнее статей по геометрии.
В 1936 году Франц Альт написал короткую статью “Об измеримости функции полезности” (Messbarkeit der Nutzenfunktion), в которой показал, что предпочтения экономических агентов всегда можно закодировать в виде вещественных чисел и расставить на числовой оси, а следовательно, сравнить. Для дисциплины, которая стремилась к точности, это была прекрасная новость. Сегодня теория полезности стала самостоятельной отраслью экономики.
Вклад Абрахама Вальда в экономическую науку оказался еще более весомым. За много лет до этого Леон Вальрас (французский коллега Карла Менгера-отца) вывел фундаментальные уравнения для цен и количеств товаров в рыночной экономике. Венский банкир Карл Шлезингер, который брал уроки математики у Абрахама Вальда, нашел в этих уравнениях ошибки. И прочитал об этом доклад на Математическом коллоквиуме Карла Менгера-сына.
Шлезингер утверждал, что если есть избыток какого-то товара, этот товар не будет стоить ничего, даже если он самой первой необходимости. Например, воздух бесплатен. Если это учесть, то уравнения Вальраса придется заменить системой равенств и неравенств. В этот момент к делу подключился Абрахам Вальд. В 1937 году он доказал, что для такой системы достижимо хорошо определяемое ценовое равновесие. Статья Вальда побудила Джона фон Неймана опубликовать свою собственную теорию экономических равновесий. Все эти результаты появились в журнале Менгера Ergebnisse eines Mathematischen Kolloquiums, и из них вскоре возник принципиально новый раздел экономики. Начиная с пятидесятых годов прошлого века в экономике возобладала теория общего равновесия, ставшая плодородной почвой для нобелевских премий.
Абрахам Вальд внес много нового и в теорию вероятностей. Ученые давно поняли, как рассчитывать вероятности, но поскольку само слово “вероятный” неоднозначно и полно скрытых смыслов, теории недоставало по-настоящему твердых оснований. Задача выстроить такие строгие основания даже входила в знаменитый список из двадцати трех задач, которые сформулировал в 1900 году Давид Гильберт.
Над этим ломал голову и Рихард фон Мизес. Он сосредоточился на сериях событий – например, когда много раз бросают монетку. В результате получается случайная последовательность орлов и решек, а если выражаться более абстрактно, то случайная последовательность единиц и нулей. Если дана такая последовательность, спрашивал Мизес, как проверить, действительно ли она случайная? Очевидно, нули и единицы должны встречаться в ней примерно одинаково часто. Однако таким качеством обладает и периодическая последовательность 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, …, а она ни в коем случае не случайна. Ее регулярность подтверждается тем, что подпоследовательность, состоящая из всех ее членов с четным номером, состоит исключительно из единиц, а дополнительная подпоследовательность – только из нулей. Едва ли это случайно! Это натолкнуло Мизеса на мысль посмотреть на подпоследовательности. Должна ли любая подпоследовательность подлинно случайной последовательности иметь примерно одинаковое количество нулей и единиц? Однако, как выяснилось, это оказалось чрезмерное требование: таких последовательностей не существует.
Однако Абрахам Вальд сумел дать красивое определение случайных последовательностей и тем самым описал понятие иррегулярности в математически точных терминах. Грубо говоря, определение гласило: никакая система в азартных играх не позволит выиграть против подлинно случайной последовательности. Вальда натолкнула на эту мысль лекция Карла Поппера на Математическом коллоквиуме Карла Менгера[400]. Очевидно, коллоквиум в отличие от Венского кружка не был для юного Поппера запретной территорией.
Абрахам Вальд давал Оскару Моргенштерну уроки математики. Тот писал: “Очередной урок математики. Мы уже дошли до производных. Вальд считает, к следующему году я уже продвинусь настолько, чтобы понимать в математической экономике почти все. Приятно слышать!”[401]
Чтобы глубже понять, как ведут себя экономические агенты, Моргенштерн решил применить некоторые методы из книги Менгера “Мораль, принятие решений и организация общества” (Moral, Wille und Weltgestaltung). Что бывает, если агент принимает в расчет реакцию других агентов? Моргенштерн собирался написать на эту тему статью под названием “Максимы поведения”. Поначалу дело шло медленно. Но затем к нему присоединился Джон фон Нейман, и их сотрудничество привело к созданию теории игр, весьма плодотворного нового раздела математики, изучающего конфликт интересов.
Теория игр, в свою очередь, имела последствия для этики. И в самом деле, к середине пятидесятых годов Ричард Бретуэйт (1900–1990), в прошлом кембриджский коллега Витгенштейна, указал, что теория игр обеспечивает инструмент для изучения моральной философии. Это позволяет давать точные с научной точки зрения ответы на вопросы, касающиеся, например, справедливого распределения, наград и наказаний, личных интересов и общественного блага. Таким образом, вполне можно считать, что корни этого раздела философии лежат в попытках Карла Менгера найти формальный подход к изучению этики.
Смысл жизни
Мориц Шлик, как и Карл Менгер, скептически относился к знаменитому категорическому императиву Канта. Императив – это приказ, но кто приказывает? Как императив может работать без “императора” – без начальника, без командира? По Канту, приказ отдает чувство долга. Но что такое долг? Может быть, чувство долга определяется как “то, что отдает приказ”? Если да, то все замыкается, и от такого определения нет никакого толку. Или долг – это просто другое название Бога? Так что же, Бог не умер? Так или иначе, с какой стати нужно подчиняться приказам? Слепое послушание, вероятно, высоко ценится в ряду так называемых “прусских добродетелей”, но в большинстве других культур оно не особенно приветствуется. Кант, конечно, был из Пруссии, как и Шлик, но Шлик с детства возненавидел жесткие правила, взывавше к чувству долга.
“Люблю помогать друзьям, но, увы, делаю это с удовольствием – поэтому меня часто тревожит, что я недостаточно добродетелен”, – с легкой иронией говорил о строгих моральных суждениях Канта Фридрих Шиллер[402]. Согласно Канту, “Моральный закон как определяющее основание воли ввиду того, что он наносит ущерб всем нашим склонностям, должен породить чувство, которое может быть названо страданием”[403]. Иначе говоря, о добродетели не может быть и речи, если к ней не приводят долгие тяжкие страдания и изнурительная самодисциплина. Однако Шлик называл такие представления о моральности “твердой решимостью лавочника признавать добродетель только в труде и лишениях”, сам же он, напротив, считал, что “высшая и прекраснейшая добродетель – добродетель интуитивная”[404]. Ницше был ему гораздо ближе Канта.
Шлик, подобно Карлу Менгеру, примирился с тем, что этика в Венском кружке стала деликатной темой. В своем “Преодолении метафизики” Карнап соглашался с Витгенштейном (Логико-философский трактат, 6.42), что в этике не может быть никаких “предложений” (Stze). Логика Карнапа достаточно прямолинейна: суждения о добродетели невозможно подтвердить эмпирически. Если принять идею, что смысл утверждения коренится в методе его верификации, то суждения о добродетели с неизбежностью бессмысленны или по крайней мере “бессмысленны как научные утверждения”, как более осторожно выразился Карнап позднее. Еще позднее и еще осторожнее он сформулировал это так: “Согласно эмпирическому критерию смысла, суждения о добродетели лишены когнитивной релевантности”[405].
Шлик считал все это перегибами. Как-никак его первая книга, юношеская “Мудрость жизни”, тоже была посвящена этике. После этого он время от времени возвращался к рукописи “Нового Эпикура”, чтобы добавить свежие идеи, и регулярно читал лекции об этических вопросах. В конце концов он написал книгу на эту тему – “Вопросы этики” (Fragen der Ethik), пока пребывал “в глубоком одиночестве на скалистом побережье Адриатического моря”, и этот труд вышел в серии “Записки о научном миропонимании” Венского кружка.
По Шлику, задача философии – просто прояснять смысл высказываний, а не подтверждать их (это дело науки). Однако высказывания по этическим вопросам Шлик определенно хотел подтверждать. Так что по его резонам этика должна принадлежать скорее к науке, нежели к философии. И в самом деле, этику можно считать разделом психологии, поскольку предмет ее изучения – поведение человека.
Чтобы заранее исключить недоразумения, Шлик послал экземпляр “Вопросов этики” Витгенштейну, “не столько с предложением прочитать книгу (поскольку я знаю, что у вас есть более важные занятия), сколько в знак того, что я не намерен скрывать ее от вас. Если вам все же случится заглянуть в нее, вы, скорее всего, заключите – по крайней мере, я так подозреваю – что она не имеет отношения к этике, и я даже не восприму это как отрицательное замечание”[406]. Однако и сам Витгенштейн безо всяких сомнений согласился выступить в Кембридже с докладом об этике, что бы там ни гласил пункт 6.42, и ни разу не поставил книгу Шлика ему в укор.
Шлик утверждал, что абсолютных моральных ценностей не существует. В конечном счете, по его представлениям, единственное обоснование морального принципа состоит в проверке, не составляет ли он врожденную неотъемлемую часть человеческой природы. И в самом деле, человеческая склонность подчиняться моральным принципам так же естественна, как склонность в детстве овладевать родным языком. Но что ведет нас к вере в моральные принципы? Что такое хорошо и что такое плохо, определяет, видимо, общество, причем в основном из соображений полезности. Однако такая полезность не определяется эксплицитными утилитаристскими расчетами, цель которых – обеспечить “максимальное счастье максимальному количеству людей”. Скорее человек бессознательно усваивает моральные принципы. Мораль – попросту составная часть общественного инстинкта каждого человека, и она коренится в универсальном опыте удовольствия и страдания, счастья и горя. А усвоенные моральные принципы большого количества отдельных людей в совокупности составляют коллективную мораль общества, которая, в свою очередь, передается следующему поколению.
Иными словами, общественные инстинкты для нас так же естественны, как самые примитивные телесные потребности. Обучение, наказание, вознаграждение, конечно, влияют на поведенческие склонности человека, однако социальные инстинкты даже сильнее и долгосрочнее, чем любой внешний контроль. Вести себя этично – это особого рода удовольствие.
Шлик в “Вопросах этики” писал: “Всякий, кто, подобно нам, знает, что чувство удовольствия – единственная основа ценностей, сразу же, безо всяких дальнейших усилий поймет, что понятия ценности и счастья идентичны”[407]. В другом месте он замечал: “Не устаю удивляться, как поверхностны наблюдения и доводы, призванные доказать, что счастье и мораль не имеют отношения друг к другу или даже что добродетель – помеха счастью”[408].
Шлик изучал не только физику, но и психологию и вдобавок прекрасно знал эволюционную биологию. Он был рад случаю написать рецензию на книгу Карла фон Фриша “Из жизни пчел” и послал хвалебное письмо никому не известному юному зоологу и врачу по имени Конрад Лоренц – просьба отметить, что это было более чем за тридцать лет до того, как эти ученые вместе получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытия в области поведения животных. В своем письме Лоренцу Шлик выразил “безудержный интеллектуальный восторг” и добавил: “Слава Богу, есть еще психологи, которых философ может читать с чистейшим удовольствием!”[409]
Так что Шлик основывался вовсе не на дилетантских умозаключениях, а на эволюционной психологии, когда дал утвердительный ответ на собственный риторический вопрос: “Можно ли считать доброго человека спокойным?.. Здесь мы обнаруживаем… весьма примечательную подсказку. И в самом деле, если применить испытанный метод оценки внутренних чувств по их внешним проявлениям, оказывается, что доброжелательность и удовольствие выражаются одной и той же очаровательной игрой лицевых мышц. Люди улыбаются не только когда счастливы, но и когда сочувствуют ближнему”[410].
А это подвело Шлика к формулировке лаконичного морального принципа: Sei glcksbereit! – в вольном переводе “Будь готов к счастью!”[411] Однако дух этого замечания, вероятно, лучше передаст менее компактная фраза: “Всегда будь готов дать счастью шанс!”
Шлик был убежден, что нравственность не связана с самоотречением: “Она не приходит в монашеском платье”. Напротив: “Нравственное поведение порождается удовольствием и страданием: если ведешь себя благородно, то потому, что тебе это нравится… Моральные ценности не навязываются свыше, а таятся внутри; быть хорошим – в природе человека”[412].
Так в своих рассуждениях об этике Шлик заменяет долг доброжелательностью. Однако многим это показалось не научным миропониманием, а самообманом. Карл Менгер не без снисходительности писал, что “Вопросы этики” – “книга, проникнутая авторским духом доброты и мягкости, а влияние аналитического мышления прослеживается в ней лишь имплицитно, то есть проявляется в том, что автор избегает некоторых худших образчиков традиционного пустословия”[413].
Однако ревностным католикам, контролировавшим львиную долю австрийского общественного мнения, мысли Шлика об этике, похоже, показалис отнюдь не безобидными. Встревожили его воззрения и многих философов: разве гедонизм не развенчан уже давным-давно? И разве слово “счастье” не уместнее в любовном гнездышке, чем в кабинете ученого? И пусть создатели американской Декларации независимости и признали “стремление к счастью” одним из неотчуждаемых прав человека, однако в немецкой философии счастье упоминалось редко: Ницше был чуть ли не единственным исключением. Наслаждение глубоко, как говорил Заратустра. Но для благочестивого ума наслаждение отдает фривольностью. Какая дерзость – утверждать, что нравственность основана на наслаждении! А ведь автор собирается распространять это извращенное учение с университетской кафедры! Можно подумать, нынешняя молодежь недостаточно распущенна – со своими модными стрижками и бешеными плясками!
Ситуацию не улучшило то, что у Шлика хватило наглости написать статью под названием Sinn des Lebens (“Смысл жизни”). В ней он даже предложил простой ответ на этот вопрос. Смысл жизни – не в высшей цели, сказал Мориц Шлик, его можно выразить одним словом: “Смысл жизни – молодость”.
Это показалось парадоксальным даже Максу Планку, старому учителю Шлика. Планк впервые в жизни счел необходимым возразить своему любимому студенту. Разве молодость – не этап незрелости, что-то незаконченное, лишь подготовка к настоящей жизни? А тогда как она может составлять смысл жизни? Да и выражение “молодо-зелено” давно вошло в поговорку – так разве может глупость порождать какой-то смысл?[414]
Однако, с точки зрения Шлика, молодость не обязательно связана с возрастом. Быть молодым – значит быть открытым навстречу счастью и всегда готовым к игре. “Только в игре мы можем уловить смысл жизни”, – говорил Шлик. Только в игре наши поступки свободны от диктата необходимости. Греческие боги играли дни напролет. Игра – сама себе обоснование, она не поддается дальнейшим исследованиям[415].
“Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет”, – писал Шиллер[416]. Никакого сексизма: Шиллер употребил слово Mensch – человеческое существо[417].
Приемлемое и прекрасное
От этики до эстетики всего один шаг – да и того меньше, если верить Людвигу Витгенштейну (“Этика и эстетика едины”, “Логико-философский трактат”, 6.421). Возможно, в наши дни философия и утратила отчасти вкус к эстетике, но в старые времена Юм и Кант пространно рассуждали о прекрасном и о приемлемом.
“Прекрасное и приемлемое в философии” (Das Schne und das Angenehme in der Philosophie) – так звучала и тема диссертации на степень доктора философии, которую Шлик предложил студентке Сильвии Боровицке, девушке из состоятельного венского семейства. Это запустило роковую цепочку событий.
Случилось так, что в Сильвию был страстно влюблен некто Иоганн Нельбёк (1903–1954), тоже студент Шлика. А еще случилось так, что жизнь была жестока к Иоганну Нельбёку. Он родился в деревушке Крандельн в Верхней Австрии и вырос в бедности. Путь от родительского дома до школы занимал час пешком – и это в хорошую погоду. Зимой снег и темнота делали дорогу практически непроходимой, но все же юный Нельбёк не сдавался, хотя иногда ему приходилось буквально прокапывать себе путь до школы. Когда он наконец поступил в Венский университет – немалое достижение для юноши из такого захолустья, – ему уже исполнилось двадцать. Но его не остановило ни то, что он старше всех однокурсников, ни то, что он из захолустья – его вообще ничего не останавливало. Он добился своего и получил докторскую степень по философии за диссертацию “Значение логики в эмпиризме и позитивизме”. Шлик одобрил ее, хотя и поставил посредственную оценку, всего лишь “удовлетворительно”. Это была низшая оценка, с которой еще можно было получить степень. Очевидно, Иоганн Нельбёк не принадлежал к тем, кого Шлик хотел бы ввести в Венский кружок.
Насколько известно, отношения между Нельбёком и Сильвией Боровицкой никогда не были интимными. Однако в один прекрасный день девушка сообщила своему обожателю, что профессор Шлик ею заинтересовался и интерес этот взаимен. Никто не знает, сколько правды было в ее словах, но Нельбёк, услышав это, обезумел от ревности. Вскоре после защиты молодой философ из Крандельна взял себе в привычку слоняться по коридорам университета и громко кричать, что Шлик играет с Сильвией Боровицкой “в аморальные игры”. Он размахивал пистолетом и грозился застрелить обидчика и покончить с собой. По ночам он названивал Шлику домой по телефону.
Встревоженный профессор заявил в полицию, и доктора Нельбёка арестовали – для начала по обвинению в незаконном владении огнестрельным оружием. Откуда у него револьвер? Оказывается, его дала ему Сильвия Боровицка. Девушка сказала, что стащила пистолет у отца. Дело становилось все запутаннее и туманнее, и в конце концов и Нельбёка, и Боровицку направили в психиатрическую клинику на полное медицинское освидетельствование.
Врачи заключили, что Сильвия Боровицка “нервная девушка с некоторыми странностями характера”, но в целом ничего серьезного[418]. Психиатр, который ее обследовал, даже порекомендовал, чтобы ей позволили закончить работу над диссертацией. Это Сильвии удалось, правда, с другим научным руководителем – ее взял к себе коллега Шлика Роберт Рейнингер и одобрил диссертацию о приемлемом и прекрасном.
Нельбёк, с другой стороны, оказался случаем куда более тяжелым. Ему поставили диагноз “шизоидная психопатия” и перевели в психиатрическую больницу Ам Штейнхоф, где и продержали под наблюдением несколько месяцев. “Психопат с причудливыми идеями и манией величия, а также убийственными и самоубийственными порывами. Обследуемый сообщил, что хотел убить профессора Шлика”, – говорится в медицинском заключении[419].
Впрочем, через несколько месяцев Нельбёк вроде бы пошел на поправку. Он стал помогать в больнице – вел документацию. Помимо странного выбора чтения – огромного количества книг и статей по философии – в нем не осталось ничего из ряда вон выходящего. И в результате его выписали. Он заявил, что хочет получить диплом учителя.
Однако стоило Иоганну Нельбёку выйти за порог психиатрической клиники, как он принялся преследовать Морица Шлика с прежним упорством. Снова начались ночные звонки. Шлик изменил номер, чтобы его не было в телефонной книге – не помогло: звонки с угрозами не прекратились. В конце концов пришлось отключить телефон. Иногда Нельбёк поджидал Шлика в засаде у дома. Если Шлику случалось заметить неопрятный силуэт своего заклятого врага на трамвайной остановке, он поскорее подзывал такси и запрыгивал в него. Тогда Нельбёк с перекошенным от ярости лицом подбегал и барабанил кулаками по окнам машины. Об этих жутких событиях вскоре узнали в университете, и некоторые студенты организовали патрули, чтобы охранять Шлика.
Шлик отнюдь не недооценивал угрозу. Если при нем заговаривали о Нельбёке, он называл его “мой убийца”. Однажды дочь Шлика, школьница и убежденная пацифистка, сказала дома, что всех мальчиков в ее классе отправили на обязательную военную подготовку. Она была очень расстроена, но отец лишь спросил, как она считает, можно ли ему носить оружие, чтобы защититься от убийцы.
В этой пытке был небольшой перерыв, пока Шлик с семьей ездил в США, чтобы провести там еще один семестр в качестве приглашенного профессора, на этот раз в Калифорнийском университете в Беркли. Эта поездка стала облегчением со всех сторон: ничего, кроме солнца, покоя и дружелюбных коллег. Но стоило семье вернуться в Вену, как Шлик снова погрузился в свой кошмар.
Такое просто в голове не укладывалось: один иззнаменитейших венских профессоров, высокочтимый друг Альберта Эйнштейна и Людвига Витгенштейна, философ счастья и воплощение здравого смысла – и вдруг оказывается объектом преследования психопата с убийственными наклонностями.
Шлик снова заявил в полицию, и это привело к новому официальному обвинению, после чего Нельбёк опять оказался в психиатрической клинике, а ректорат университета оповестил об этом школьный попечительский совет Вены. Теперь у Нельбёка не осталось ни малейшей надежды получить место учителя.
С точки зрения Нельбёка, не было никаких сомнений, что все это интриги Шлика, который подергал за ниточки и подстроил этот катастрофический удар по его карьере. Шлик и только Шлик лишил его всяческих профессиональных перспектив. Но через некоторое время показалось, будто паранойя отступила, и его снова выпустили – как в прошлый раз. Только теперь приказом полиции ему запрещалось жить в Вене.
Поэтому Нельбёк вернулся в родную деревушку Крандельн, одинокий, бледный, пристрастившийся к никотину. У него не осталось ничего общего с односельчанами – он выделялся всем, начиная с очков в роговой оправе. Он же хотел себе лучшего будущего, а теперь вынужден сидеть на шее отца. Как это – герр доктор, а не врач? Такого в Крандельне слыхом не слыхивали! Глупости какие-то!
Короче говоря, все на свете гнало Иоганна Нельбёка обратно в Вену.
Глава одиннадцатая. Конец кружка
Вена, 1934. Гражданская война в Австрии. Крах социал-демократов. Нейрат бежит в Голландию. Полиция разгоняет Общество Эрнста Маха. Венский кружок в Вене на дух не переносят. После безвременной смерти Гана его кафедру упраздняют. Попытка нацистского путча не удается. Деятельность Венского кружка затихает. Жаркие споры о протокольных предложениях. Шлик и Нейрат обмениваются презрительными упреками. Раскол в Кружке из-за Витгенштейна. Гёдель становится жертвой психического расстройства. Его дело продолжают Тарский и Тьюринг. 1936: Преследователь убивает Шлика, пресса обвиняет жертву. 1937: Венские мыслители предвидят будущее и разъезжаются – Менгер в США, Вайсман в Великобританию, Поппер в далекую Новую Зеландию.
В Россию с любовью
Морозным февральским днем 1934 года в Москву пришла телеграмма с кратким текстом: “Тебя ждет Карнап”. Она была адресована Отто Нейрату в ИЗОСТАТ на Кузнецком мосту. Эта улица ведет к печально знаменитой Лубянке, где располагался НКВД со своими пыточными камерами. Шутники говорили, что это самое высокое здание в Москве: там из подвала видно Сибирь.
Телеграмма была зашифрованным посланием. Она пришла из Вены и означала: “Не возвращайся. Тебя разыскивает полиция”.
Нейрата эта телеграмма не удивила. Перед отъездом в Москву он договорился со своей возлюбленной, подругой и музой Мари Рейдемейстер, что в случае опасности она пошлет ему именно этот текст. Мари оставалась в Вене, чтобы ухаживать за Ольгой, женой Нейрата, и вести дела в его музее социализма. “Тебя ждет Карнап” звучало вполне невинно. Ни венская, ни сталинская цензура не увидели бы в этом ничего предосудительного.
Политическая ситуация в Австрии ухудшалась с каждым месяцем. Правящий режим Stndestaat – корпоративное государство – ежедневно вводил все новые чрезвычайные меры и держался за рычаги власти все крепче. Социал-демократы были парализованы. Их лидер Отто Бауэр разделял воззрения Юлиуса Дойча, основателя и председателя военизированного левого Шутцбунда, который был к этому времени объявлен вне закона: как только правительство совершит что-то, что “поднимет бурю страсти и возмущения по всему рабочему классу”, тогда и настанет пора действовать, но не раньше. Партия понимала, что слишком слаба для первого шага. Ей всегда мешало чувство ответственности. Известный специалист по мятежам Лев Троцкий поставил ей этот диагноз еще несколько лет назад: “Если принять, по Марксу, что революция есть локомотив истории, то австромарксизму нужно отвести при нем место тормоза”[420].
Поэтому австромарксисты удерживали своих рядовых членов от решительных выступлений и напряженно ждали момента истины. Отто Нейрат язвил: “Мы славимся своей хитростью, поскольку вооружили рабочих, но не даем им стрелять”[421].
Лидеры социал-демократов были убеждены, что рано или поздно подвернется случай для внезапного восстания. Однако канцлер Дольфус не был готов дать им такой шанс. Лидер Фронта Родины терпеливо придерживался своей медленной, взвешенной стратегии. Рано или поздно нервы у соци сдадут.
Долгожданный момент настал 12 февраля 1934 года. Группа членов Шутцбунда в Линце не подчинилась ордеру на обыск и расстреляла полицейских. Это стало сигналом для спонтанного восстания рабочего класса. Руководство социал-демократов настойчиво советовало сдержаться, но ничего не вышло. Отто Бауэр, понимая, что не контролирует события, тут же призвал ко всеобщей забастовке, и соци в спешке организовали штаб.
Однако правительство было подготовлено гораздо лучше. Всего за день до восстания министр национальной безопасности Эмиль Фей, глава фашистского хеймвера, публично объявил: “Завтра мы приступим к делу и все закончим”.
Режим Дольфуса ввел чрезвычайное положение, армия нацелила оружие на самые большие жилые дома в городе. Специалисты давно заметили, что эти крупные жилые комплексы идеально подходят на роль цитаделей пролетариата. После артиллерийских обстрелов даже самое упорное сопротивление пошатнулось.
Прошло три дня, погибли триста человек – и гражданская война окончилась. Главные вожди Шутцбунда – Бауэр и Дойч – сбежали за границу. Социал-демократическая партия была официально распущена. Ей принадлежало сорок процентов голосов, членские билеты были у каждого десятого австрийца. Но теперь никаких голосований не предвиделось. С этого момента рабочий класс представлял крошечный штаб где-то в другой стране и Социалистический интернационал. Его председателем вот уже более десяти лет был Фридрих Адлер, который жил в Швейцарии, а потом перебрался в Бельгию.
Во время февральского восстания полиция неоднократно пыталась арестовать Отто Нейрата в его венской квартире. От Мари Рейдемейстер полицейские узнали, что он уехал из страны. И блюстителей закона вовсе не умиротворило, что он находится в Москве, столице пролетарской революции[422].
Между тем поездка Отто Нейрата в Москву была вовсе не происками Коммунистического интернационала. Он был в Москве по чисто профессиональным вопросам и к тому же далеко не впервые. Нейрат как директор Венского социально-экономического музея принимал участие в создании Института изобразительной статистики под эгидой Госиздата СССР. Лидеры Красной Вены знали о занятиях Нейрата и одобряли их. Хотя они были непреклонными антикоммунистами, но ратовали за солидарность пролетариата, даже под властью Сталина. А хорошо налаженная система социального просвещения никому не повредит. Так пусть советский рабочий изучает статистику!
Но теперь Энгельберт Дольфус упразднил Красную Вену. Ее бургомистр Карл Зейц был арестован. Власть в городе захватил Фронт Родины. Полиция опечатала кабинеты и залы Социально-экономического музея Отто Нейрата.
Однако у Нейрата на такой случай был готовый план. Он не собирался оставаться в Москве в качестве, скажем, очередного постояльца гостиницы “Люкс”, где по разрешению советской власти разместились сотни эмигрантов из Германии. Нет, Нейрат подготовил себе запасной аэродром в Голландии. Годом раньше он основал там институт Мунданеум – голландское отделение венского музея.
Поэтому Нейрат переехал из СССР в Нидерланды, причем был вынужден сделать это кружным путем: первой остановкой была Прага (“Тебя ждет Карнап”), затем – Польша и потом Дания. Нейрат понимал, что ему н в коем случае нельзя ступать на землю Германии: наверняка кое-кто в гестапо не забыл дни Мюнхенской советской республики. Второй раз немцы, несомненно, не дали бы Отто Нейрату ускользнуть. Более того, австрийские чиновники, которые много лет назад помогли ему выйти на свободу, сейчас и сами оказались в беде: Реннер томился в тюрьме, Бауэр отправился в изгнание.
Построить новую жизнь в Нидерландах Отто Нейрату было непросто. Не раз и не два все грозило вот-вот рухнуть, однако он в последний момент успевал занять у кого-нибудь несколько сотен долларов. Однако друзья не зря прозвали его “великий локомотив”: кризисы всегда шли Нейрату на пользу. Вскоре к нему приехали на поезде Мари и Ольга, и счастливая троица уютно устроилась в квартире в Гааге.
Затем к ним присоединился сотрудник Нейрата художник-график Герд Арнц с семейством. Удалось даже перевезти в Голландию большую часть материалов из венского и московского музеев. Очень скоро в Мунданеуме начались выставки, а из его типографии выходило множество брошюр и плакатов.
Однако с этого момента Нейрат старательно избегал марксистской риторики.
“За Дольфуса! Долой единую науку!”
Одной из жертв гражданской войны в феврале 1934 года было Общество Эрнста Маха: его распустили по приказу полиции. “Нас поставили в известность”, что Общество действовало от имени социал-демократической партии, гласило официальное извещение. А поскольку упомянутая партия оказалась вне закона, общество, естественно, полагалось упразднить[423].
Меньше чем за год до этого режим Дольфуса распорядился распустить и ассоциацию вольнодумцев – к большому удовольствию католической церкви. Несомненно, “нас поставили в известность”, что все организаторы Общества Эрнста Маха принадлежали к этой сомнительной компании.
Мориц Шлик как председатель Общества Эрнста Маха был вызван в полицейский участок своего района и извещен о решении. Он сразу же выразил протест и попытался добиться отмены постановления. Общество, говорил он, всегда было абсолютно аполитичным, а его деятельность – “верной духу человека, в честь которого оно названо”. Организация занималась исключительно научными вопросами, как и гласит его устав. Все это не имеет никакого отношения к атеизму. Любые “склонности в сторону социал-демократической партии” Шлик решительно отрицал[424]. Все знали, что он аполитичен до мозга костей. “Я бы ни на минуту не задержался на посту председателя организации, которая придерживается какой бы то ни было партийной политики”[425].
Целью общества была исключительно пропаганда научного миропонимания. Прямая противоположность идеологической пропаганде! И лишь “по чистой случайности” один из руководителей общества поселился в коммунальном многоквартирном доме. (Отто Нейрат, кто же еще.) “А если под эгидой Общества Эрнста Маха один раз выступил Отто Бауэр, это также относится к подобным случайным событиям”. Следовательно, решение упразднить Общество Эрнста Маха исходит из неверных предпосылок[426].
“Это какая-то трагикомедия, – писал Шлик в полицейское управление, – что меня считают главой организации с антиправительственными наклонностями. На самом же деле я принадлежу к тем университетским профессорам, которые питают самую глубокую и искреннюю симпатию к нынешней власти, и даже выражал эту симпатию в летний семестр 1933 года, когда, повинуясь порыву, написал письмо канцлеру Дольфусу”[427].
Протесты Морица Шлика при всей своей красноречивости ни к чему не привели – их не желали слышать. Отчаявшись, он написал Карнапу: “Так что Общество Эрнста Маха и вправду упразднено, очевидно, до того, как мои протесты дошли до властей предержащих”[428].
Шлик, никогда не принадлежавший ни к каким политическим партиям, теперь получил распоряжение примкнуть к Фронту Родины. Этого требовали от любого государственного служащего. Если кто-то отказывался, его ждали суровые взыскания.
Например, профессор Гомперц отказался – не успел и глазом моргнуть, как его уволили. Указывать властям, что без него Эрнст Мах не приехал бы в Вену, не стоило, это только навредило бы ему. Такая “заслуга” не снискала бы ему благосклонности Дольфуса. И вот в шестьдесят три года Генрих Гомперц оказался выдворен из родной страны – и впоследствии стал профессором в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.
Шлик в отличие от Гомперца согласился, но и это ни к чему не привело. Только еще сильнее рассердило Нейрата и Карнапа, которые устало наблюдали за происходящим в Вене из-за границы. “За Дольфуса! Долой единую науку!” – язвил Нейрат[429].
Крайне маловероятно, чтобы Энгельберту Дольфусу доводилось слышать о единстве науки. Ведь его целью было единство власти и больше ничего. Но кое-что о позитивизме Дольфус знал и был категорически против. Самый знаменитый сторонник “юридического позитивизма” Ганс Кельзен составил конституцию молодой Австрийской республики. Однако конституция Кельзена стала теперь достоянием древней истории, на смену ей пришла так называемая Майская конституция. Этот шедевр престидижитации был принят в мае 1934 года, когда распущенный австрийский парламент все-таки сумел собраться снова, пусть всего на несколько часов. Делегатов слева не пригласили – ни к чему тревожить занятых людей! Ненадолго воссоединившаяся палата одобрила закон о смене конституции, а вскоре после этого парламент канул обратно в Лету. С тщательным соблюдением всех формальностей.
Новая конституция начиналась со слов “Во имя Господа Всемогущего, источника всех законов”, тем самым ясно давая понять, что законы этой страны дарованы отнюдь не простыми смертными. А чтобы подчеркнуть в полной мере “корпоративный принцип” государства, с большой помпой создали две корпорации, одну – государственных чиновников, вторую – земледельцев. Остальные подождут.
Однако нацисты ждать не стали. В июле 1934 года австрийские национал-социалисты предприняли попытку переворота. Люди из “СС-штандарта 89” в краденой военной форме штурмовали здание администрации канцлера и национальную радиотрансляционную службу. Этот жалкий любительский путч потерпел полное поражение всего через несколько часов, но за это время погиб Энгельберт Дольфус – нацисты считали его своим главным врагом, и он был застрелен в своем кабинете. После этого произошло еще несколько восстаний, которые унесли сотни жизней, как и репрессии левых в ходе февральских событий.
Новым главой Фронта Родины стал Курт Шушниг. На вид он был точь-в-точь строгий директор школы. А на посту канцлера следовал политике своего предшественника, убежденный, что единственная надежда во внешней политике – Муссолини, а внутреннюю политику лучше всего обеспечивать при помощи клерикально-фашистского фольклора.
“Мощная интеллектуальная взрывчатка”
Естественно, научному миропониманию было трудно выжить в авторитарном государстве, которое искало поддержки в возрождении средневековых празднеств и организации католических паломничеств.
Шлик не был политическим противником корпоративного государства, однако его просвещенная философия была этому государству совершенно чужда. Наблюдательный Эрнест Нагель, молодой американский философ, побывавший в 1935 году на нескольких лекциях Шлика, писал: “Мне пришло в голову, что хотя я находился в городе, переживавшем экономический упадок, во времена, когда в обществе заправляли реакционные силы, представления, так убедительно излагавшиеся с университетской кафедры, были словно мощная интеллектуальная взрывчатка. Интересно, долго ли в Вене будут терпеть подобное учение”[430].
Очевидно, недолго, однако финал оказался даже горше, чем можно было тогда представить.
Кстати, Нагель был лишь одним из многих молодых ученых, приезжавших в Вену, чтобы изведать вкус научного миропонимания, и уехал он необыкновенно обогатившись. Он прославился как американский истолкователь логического позитивизма в духе Венского кружка и написал фундаментальный труд “Структура науки” (The Structure of Science), а также стал соавтором знаменитой книги “Теорема Гёделя”.
Первым из этих молодых ученых стал Фрэнк П. Рамсей, который несколько раз навещал не только Витгенштейна, но и Морица Шлика. Изучая город, Рамсей даже отведал психоанализа у Теодора Райка, ученика Фрейда. Вокруг Фрэнка Рамсея все всегда происходило в ускоренном темпе – ему едва исполнилось двадцать три года, когда он стал руководителем учебных программ по математике в Королевском колледже в Кембридже, а умер совсем молодым, всего в двадцать шесть лет, от гепатита.
Из Оксфорда приехал Альфред Дж. Айер. Он прожил в Вене полгода. По возвращении в Англию он написал имевшую большой успех книгу “Язык, истина и логика”, где с мастерством и ясностью излагал основные идеи Венского кружка. Побывал в Вене и американский философ Уиллард ван Орман Куайн, недавно получивший докторскую степень в Гарварде. В результате знакомства с Гербертом Фейглем Куайн решил приехать в Вену на стажировку после защиты диссертации. Вернувшись, по его выражению, “из города моей мечты”[431], Куайн стал одним из самых влиятельных американских логиков и философов.
Карл Менгер побывал с лекциями в Польше, и после этого начался интенсивный обмен визитами и идеями между Венским кружком и польскими логиками. Много гостей приезжало и из Скандинавии, в том числе норвежец Арне Несс (1912–2009), ставший впоследствии первопроходцем в области экспериментальной философии, и финские философы Эйно Кайла (1890–1958) и Хенрик фон Вригт (1916–2003).
Складывается впечатление, что Венский кружок высоко ценили везде, кроме Австрии, за исключением, само собой, Германии, где у нацистов с позитивизмом был разговор короткий. Визиты из Берлина (оттуда в Вену в числе прочих приезжали Ганс Рейхенбах и Карл Гемпель) мгновенно прекратились.
К этому времени работа Венского кружка целиком и полностью легла на плечи Морица Шлика. Карнап и Нейрат были за границей, а верный друг Ганс Ган со своим громким голосом и понятными формулировками скоропостижно скончался на пятьдесят пятом году жизни. Во время летнего семестра 1934 года он был вынужден прервать лекцию, оказавшуюся одной из последних, из-за невыносимой боли в животе. Оказалось, что у него рак. Была сделана срочная операция, но Ган ее не перенес. Он умер за день до нацистского путча. После этого в Вене не осталось ни одной живой души из прежнего Urkreis. Эпоха близилась к концу.
Как писал Эрнест Нагель, “Из-за безвременной смерти Ганса Гана, отъезда Рудольфа Карнапа в Прагу, бегства Отто Нейрата в Гаагу и поездок Курта Гёделя в Принстон кружок лишился своих самых сильных, самых оригинальных участников”[432].
Незадолго до смерти Ганс Ган возобновил переписку с Паулем Эренфестом, близким студенческим другом, одним из “неразлучной четверки”. За это время Эренфест подружился с Эйнштейном и стал профессором теоретической физики в Лейдене.
“Что касается меня, рассказывать особенно не о чем, – писал другу Ган. – Внешние условия неблагоприятны, поскольку жалованье сильно урезали (с особой любовью и вниманием к университетским преподавателям); интересуюсь я сейчас в первую очередь философией (логическим эмпиризмом с антиметафизическим уклоном)”[433].
Вскоре после этого Гана потрясла неожиданная новость о внезапной смерти друга. Пауль Эренфест много лет страдал тяжелыми приступами депрессии, как и его бывший учитель Людвиг Больцман. Хотя он был весьма оригинальным физиком, он ощущал, что утратил представления о квантовой физике, которая быстро развивалась. Как-то раз Эренфест написал своим ученикам отчаянное письмо, в котором откровенно описал свои пораженческие настроения: “От каждого нового выпуска Zeitschrift fr Physik или Physical Review меня охватывает слепая паника. Мальчики мои, я абсолютно ничего не знаю!”
Приход к власти Гитлера привел Эренфеста в ужас, а в довершение всего его сын Василий был умственно отсталым, и все вместе стало для Пауля непосильным бременем. Он окончательно утратил почву под ногами и решил свести счеты с жизнью, захватив с собой несчастного маленького Василия. Эренфест оставил письма многочисленным друзьям, в которых пытался оправдать свой поступок. Он писал, что таков его долг.
Вакансии
Бесстрашный профессор Ганс Ган был настоящей головной болью для австрийского правительства. Он никогда не скрывал своих социал-демократических убеждений. После смерти Гана министерство просвещения упразднило его должность. Ведь если профессор математики находит время для занятий философией и даже для агностицизма с антиметафизикой, это ясно доказывает, что профессиональные обязанности оставляют ему слишком много досуга. Ergo, кафедра Гана – лишняя, “избыточная сущность”, так сказать, идеальный повод пустить в ход бритву Оккама. Следовательно, долой кафедру!
Эта мера непосредственно задела Карла Менгера. Казалось естественным, что он станет преемником Гана. Теперь от этой перспективы пришлось отказаться. Однако у молодого адъюнкт-профессора осталась некоторая надежда: в следующем году должна была освободиться другая кафедра, поскольку в 1935 году выдающийся математик Вильгельм Виртингер достигал пенсионного возраста.
Но когда настало время, математический факультет предпочел назначить на это место не Карла Менгера, а менее известного Карла Майргофера, личного секретаря Виртингера. В одном руководство точно не сомневалось: этот не станет ввязываться ни в какую философию.
Мориц Шлик, крайне расстроенный, снова написал письмо в правительство. Он выражал категорический протест против решения руководства. Хотя сам он не математик, а философ, писал Шлик, он прекрасно знает, что на вакантную должность вправе претендовать два кандидата, значительно более подходящих, чем Майргофер: это Карл Менгер, пользующийся в своей области международной известностью, и Эмиль Артин, алгебраист, решивший семнадцатую проблему Гильберта[434]. Кстати, Артин родился в Вене и учился у Густава Гергольца, одного из “неразлучной четверки”. К тому же ни для кого не было секретом, что Артин, в настоящее время штатный профессор в Гамбурге, стремится уехать из Германии: его жена была еврейкой.
Однако вмешательство Морица Шлика едва ли повлияло на запутанную сеть в подземных глубинах университета. Место получил Майргофер. А после аншлюса оказалось, что он давно был тайным членом подпольной национал-социалистической партии.
Карл Менгер и Филипп Франк в некрологах Гансу Гану подчеркивали, что их великий друг был “подлинным основателем Венского кружка”. За последние десять лет этот кружок приобрел международную известность. Эрнест Нагель в Journal of Philosophy писал, что “такой всеохватный интерес”[435] к логическому анализу едва можно найти в другом уголке Земли. Такие разные научные дисциплины – математика, физика, юриспруденция, медицина, социология и, безусловно, философия – были в равной степени представлены на ежедневных собраниях кружка благодаря неповторимому стечению обстоятельств.
И все же, невзирая на все эти хвалебные слова, Венский кружок со всей своей всеохватностью оказался в тупике.
Протокол Отто
“Этой зимой встреч Венского кржка не будет, – писал Шлик американскому коллеге осенью 1933 года. – Некоторые из наших старших членов впали в догматизм и способны дискредитировать всю группу; я пытаюсь создать новый кружок из молодых людей, еще не обремененных предрассудками”[436].
Регулярные встречи по четвергам вечером возобновились только осенью 1934 года. “Естественно, мы очень остро и мучительно ощущаем, что Гана с нами больше нет”[437], – признавался Шлик Карнапу. С другой стороны, Шлика, как видно, не очень огорчало, что он больше не сталкивается с Отто Нейратом, который, разумеется, принадлежал к числу “старших членов, впавших в догматизм”.
Подспудная неприязнь между Нейратом и Шликом зародилась уже давно. Они никогда не ощущали себя на одной волне. Несколько лет Гану удавалось быть между ними посредником, но во время злосчастного спора о “протокольных предложениях” противоречия стали очевидными и вылились в открытую вражду.
Началось все совершенно невинно – со статьи Карнапа “Физикалистский язык как универсальный язык науки”. В этой статье утверждалось, что все научные теории в конечном счете основаны на так называемых протокольных предложениях, которые описывают факты “во всей их простоте” и “не нуждаются в дальнейшем подтверждении”.
Как распознать протокольные предложения? Это утверждения, писал Карнап, “для которых не нужны другие протокольные предложения”. Шлик мягко возразил, что такое определение замкнуто само на себя[438]. Нейрат вмешался и в письменной заметке попытался представить более точное определение. Протокольное предложение – не утверждение как таковое, а сообщение об утверждении. Оно должно содержать точное время и имя сообщающего. Так, например:
“Протокол Отто, 3:17:
[Языковая мысль Отто в 3:16 была:
(В 3:15 Отто наблюдал стоящий в комнате стол.)][439]”
С точки зрения “простоты” это не то чтобы выдающееся достижение. Однако Нейрат настаивал на своем: протокольные предложения не должны содержать ни субъективных слов вроде “здесь” и “сейчас”, ни местоимение “я” и прилагательное “собственный”, поскольку это прямиком ведет в смертельные ловушки идеалистической философии. Научные знания, пояснял Нейрат, должны быть коммуницируемыми. В науке нет места субъективным выражениям. Более того, у единой науки должен быть “универсальный жаргон”, так сказать (вероятно, он имел в виду профессиональное арго или язык-посредник.) Нейрат добавлял, что овладеть этим “жаргоном” способен любой ребенок, нужно лишь потренироваться. Поскольку не существует утверждений, которые можно высказать без валидации, не существует и базовых протокольных предложений. Что характерно, Нейрат добавил, что те, кто считает иначе, принадлежат к “школьным философиям”, которые себя давно дискредитировали. Каждое утверждение подлежит пересмотру, это принцип научного метода. Тот же принцип должен применяться и к протокольным предложениям: пересмотр может оказаться необходимым даже в случаях самых простых высказываний, например, если у кого-то часы показали неправильное время, это лишит валидации пометку о точном времени на предложении, а следовательно, его нужно будет пересмотреть.
Заметку Нейрат завершил в своем стиле – несколькими краткими замечаниями о чужих взглядах: попытка Витгенштейна обрисовать философию как долгожданную “лестницу прояснений” должна считаться неудачной, а стремительный прогресс Венского кружка подчеркивает необходимость тесного коллегиального сотрудничества в поддержку единой науки. В заключение Нейрат сказал, что его мысли, несомненно, спровоцируют Карнапа на множество мелких возражений.
Именно это Карнап и сделал на следующих страницах того же выпуска журнала. Он писал, что есть несколько методов конструирования научного языка. Теперь он считал, что лучше всего применять подход, создателем которого можно считать Карла Поппера, а по этой причине весьма желательно опубликовать результаты Поппера[440]. (Этот тонкий намек был нацелен на Шлика).
По мысли Поппера, протокольным предложением (или “базовым предложением”, как предпочитал говорить Поппер) может служить любое высказывание при соответствующих условиях. С другой стороны, не существует предложений, в которых можно быть абсолютно уверенными, то есть уверенными настолько, что это не потребует никакого дополнительного подтверждения.
В этот момент Карнап откровенно признался, что его прежние представления были ошибочными. Более того, ему показалось, что подход Поппера “снижает риск, что молодежь в поисках протокольных предложений невольно скатится в метафизику”[441].
“Следующей задачей, – оптимистично заключал Карнап, – будет развить теорию науки посредством конструктивного сотрудничества”[442].
Но на самом деле споры вокруг протокольных предложений разгорелись, будто лесной пожар. Масла в этот огонь подлил и Карл Гемпель, как и Карл Поппер, Эдгар Цильзель и многие другие. Мориц Шлик признавался Карнапу, что все эти дебаты видятся ему “лишними и не особенно интересными”[443]. Однако в конце концов в схватку вступил даже он.
Следы метафизики и поэтические доказательства
Во время весенних каникул в Амальфи, “безмятежно сидя на балконе, выходящем на голубую бухту Салерно”, Шлик написал короткую статью “Основания познания” (Das Fundament der Erkenntnis). Свежий и отдохнувший, в превосходном настроении, он дал волю мыслям “именно в том виде, в каком они приходили мне в голову”, как рассказывал он Карнапу[444]. Протокольные предложения, писал Шлик в статье, действительно ничем не отличаются от любых других научных утверждений: очевидно, что это гипотезы и ничего кроме гипотез (“как едва ли не победоносно указывают некоторые наши авторы”, – добавлял он, подкалывая Карла Поппера). И в самом деле, как только наблюдение записано или высказано каким-то иным способом, оно становится достоянием прошлого. Предложение, которое регистрирует это наблюдение, может быть основано на ошибке, что нетрудно себе представить, или сделано во сне, под влиянием алкоголя, под гипнозом (и т. д.), а значит, в какой-то момент потребует пересмотра. Но то, что Шлик называет констатациями (это слово иногда неточно переводят как “подтверждение” или “утверждение”), в момент, когда оно совершается, окончательно и бесповоротно и никогда не подлежит обжалованию. Констатация (акт отмечания) всегда имеет форму “Здесь и сейчас то-то и то-то”.
Подлинные констатации записать невозможно: это превратит их в протокольные предложения, а следовательно, гипотезы. Нет, у Шлика на уме было кое-что совсем другое. Научные гипотезы приводят к конкретным предсказаниям, мы чего-то ожидаем. Каждый раз, когда мы подтверждаем или опровергаем такое ожидание через наши собственные наблюдения, мы что-то отмечаем. Наука подводит нас к подобным актам отмечания, однако она не основана на них.
О своих туманных констатациях Шлик писал:
Они никоим образом не лежат в основе науки; но, подобно языкам пламени, познание как бы достигает их, прикасаясь к каждому лишь на мгновение и затем сразу же их поглощая. Набрав сил, огонь познания охватывает и остальное.
Эти моменты свершения и горения – самое существенное. Весь свет познания идет от них. Поисками источника этого света философ на самом деле и занят, когда он ищет последний фундамент познания[445].
Лучше не могли выразиться даже древнегреческие философы – а с балкона Шлика в Амальфи, безусловно, открывался чарующий вид на сверкающие просторы Средиземного моря. Однако Нейрат из туманной Голландии высмеял его в ответ. “Такая лирика может кому-то понравиться, но всякий, кто отстаивает дело радикального физикализма на службе науки… не пожелает считаться философом, принадлежащим к подобной школе”[446].
В своей статье “Радикальный физикализм и «реальный мир»” (Radikaler Physikalismus und “wirkliche Welt”) Нейрат пустился в полемику со Шликом. Начал он с веселого замечания: “Один представитель Венского кружка как-то заметил, что все мы гораздо лучше видим остаточные следы метафизики не у себя, а у соседа”. Поэтому Нейрат предложил указать на “остаточные следы метафизики” в мышлении Шлика. Что и сделал – пространно и с наслаждением. К концу статьи он подвел итог своему диагнозу: “Такое впечатление, что мы нашли здесь последние следы непротиворечивой метафизики”[447]. Однако было неясно, подразумевает ли Нейрат под этой уничижительной фразой, что Шлик когда-нибудь сможет преодолеть эти “последние следы”.
Поначалу Шлик не собирался сколько-нибудь подробно рассматривать эти “довольно глупые замечания Нейрата”. Он признавался своему другу Карнапу: “Как ты можешь себе представить, меня все это застало врасплох. Разумеется, отвечать прямо я не собираюсь”[448]. Все же он не хотел и полностью уклоняться от дискуссии, хотя с течением времени она виделась ему “все более и более нелепой”.
Поэтому в следующей статье он написал: “Я был несколько удивлен, когда меня обвинили в том, что я метафизик и поэт. Но поскольку я понимал, что воспринимать подобные обвинения всерьез невозможно, первое меня не покоробило, а второе мне не польстило, и я не намерен продолжать дискуссию”[449].
Тем не менее он вступил в спор – “с юмором” и не упоминая Нейрата по имени, чем нанес ему двойную обиду.
Нейрат доказывал, что утверждения можно сопоставлять только с другими утверждениями, но не с фактами. Шлик “со всей невинностью” спросил, почему утверждение в путеводителе для туристов – ну, например, что у некоего собора два шпиля – нельзя сопоставить с реальностью?

Шлик видит, что видит
Нейрат хотел связать истинность утверждения и его соответствие другим утверждениям. А Шлик не усматривал в этом ничего, кроме возвращения к когерентной теории истины, которая уже давно похоронена и забыта. Сам он предпочитал теорию соответствия, или корреспондентную теорию истины, поскольку ее интуитивно понимали люди необразованные. Истинность предложения не имеет отношения к тому, согласуется ли оно с другими предложениями (как гласит теория когерентности), а зависит только от того, насколько оно соответствует реальности, и всякий, кто пожелает опереться на это утверждение, чтобы обвинить его, Шлика, в метафизике, пусть так и поступает, однако Шлик не откажется от своих Konstatierungen, что бы ни случилось. “Я вижу, что вижу!” – и он будет это видеть, даже если все ученые на Земле станут утверждать иначе. Продолжая уязвлять Нейрата, однако прямо не называя его, Шлик продолжал: “Если кто-то скажет мне, что я верю в истину в науке лишь потому, что она принята «учеными из моего культурного окружения», я в ответ смогу лишь улыбнуться. Да, я и правда очень верю в ученых, но лишь потому, что всякий раз, когда мне удавалось проверить утверждения этих славных ребят, я неизменно находил их достойными доверия”[450].
Карнап попытался спасти Нейрата от обвинения в приверженности теории когерентности. Конечно, Нейрат не верит в этот бред! “И все же я вынужден признаться, что некоторые его формулировки можно понять и так”[451], – добавил Карнап.
Но был ли это лишь вопрос “формулировок”? Действительно ли постепенно расширяющаяся интеллектуальная пропасть между Карнапом и Шликом не была основана ни на чем, кроме разницы в словоупотреблении? Шлик пытался умилостивить друга, предположив, что разногласия вызваны разницей “между твоим математическим умом и моим, наоборот, физическим”[452]. Ведь математические физики должны проверять взаимную непротиворечивость своих уравнений, а физики-экспериментаторы – проверять соответствие теоретических предположений реальности. Или, перефразируя слова старика Маха, “Цель науки – приведение фактов в соответствие с мыслями, а мыслей – в соответствие друг с другом”.
Попытка Шлика при помощи этого жеста примириться с Карнапом ни к чему не привела. Дебаты о протокольных предложениях ясно показали, что старые философские проблемы или, если угодно, “мнимые проблемы” нельзя искоренить мгновенно. Очевидно, прославленный во всем мире коллектив мыслителей из Венского кружка точно так же грешил взаимными недоразумениями, как и пресловутые “школьные философии” минувших лет.
Прощальное замечание Карла Менгера на тему о протокольных предложениях гласило: “Эта дискуссия была одной из многих, за которыми я следил молча”[453].
Опрометчивые шаги
В том, что когда-то было поворотным моментом в философии, совсем не осталось движущей силы. Даже давняя дружба Шлика и Карнапа знала мрачные периоды. Особенно часто это происходило, когда затрагивали тему Витгенштейна. Предисловие к “Логическому синтаксису языка” Карнапа, например, потребовало длительных переговоров. Шлик предупреждал Карнапа: “Все затруднения объясняются исключительно тем, что ты навязываешь Витгенштейну мнения, которых у него на самом деле нет… Его настоящие взгляды и убеждения во всех отношениях значительно свободнее. Разве мы с Витгенштейном не подчеркивали это уже давным-давно?”[454]
В другом случае Шлик довольно простодушно защищал себя такими словами: “Не можешь же ты утверждать, будто я во всем придерживаюсь позиции Витгенштейна, поскольку сам он сильно ее изменил”[455]. Так оно, безусловно, и было. Вайсман трудился не покладая рук именно потому, что задуманную книгу о философии Витгенштейна приходилось постоянно приводить в соответствие с нынешним положением дел.
Незадолго до нацистского путча в июле 1934 года Шлик писал Карнапу: “В Вене в последнее время очень жарко и неспокойно. На сей раз Витгенштейн приехал из Англии позже обычного, и я не имел возможности с ним как следует поговорить”[456].
Тогда-то Шлик и узнал, что Витгенштейн внезапно решил написать собственную книгу – и это после того, как Фридрих Вайсман несколько лет жизни потратил на создание книги с объяснением новой философии Витгенштейна. Марксист Генрих Нейдер, студент-философ, передал эту сенсационную новость Нейрату в Голландию: “Витгенштейн хочет помешать публикации книги Вайсмана и выкупить у него права! Тогда он сможет сам написать книгу. Боже, Боже! Как мелочен этот великий человек!”[457]
Нейрат обнаружил, что сбылись его самые мрачные предчувствия. Витгенштейн, решив помешать выходу книги Вайсмана, собирается употребить свои деньги во зло. “Этот мастерский ход со стороны самого мастера – просто мерзость! Я бы уже давно вышел из терпения! А что говорит об этом пророк?”[458]
“Пророк” (естественно, Шлик) не сказал ничего, и вскоре “мастер” со своим неизменным непостоянством снова передумал. И Вайсману пришлось снова возиться со своей проклятой книгой, и он даже с неохотой возобновил свои эпизодические доклады на встречах кружка о беседах с Витгенштейном. Но во внешний мир не должно было просачиваться ни слова, ничего нельзя было рассказывать даже бывшим членам кружка. Шлик следил, чтобы о происходящем на заседаниях Венского кружка не рассказывали ни Нейрату, ни Карнапу.
Нейрат писал Карнапу: “До моих ушей доходят только смутные сообщения о кружке Шлика. Все связаны обетом молчания обо всем, что тайком вычитывают в священных книгах”[459].
Естественно, обет соблюдали не все. Генрих Нейдер, страстный почитатель Нейрата, держал его в курсе дела, пока в один прекрасный день не вспомнил: “К моему ужасу, мне только сейчас пришло в голову, что я забыл сообщить вам: содержание «священной книги» необходимо держать в строжайшей тайне. Поэтому я со всей настойчивостью прошу вас не пользоваться моей несдержанностью. Однако при условии строжайшей секретности доклады будут поступать к вам по-прежнему”[460].
Физик Вольфганг Паули мягко подшучивал над Шликом – мол, Венский кружок превратился в “религию”. Густав Бергман уже не так мягко язвил, что группа Шлика превратилась в “святилище философии Витгенштейна”[461] – причем сам Витгенштейн там даже не появляется, хотя с годами Вайсману удалось сделаться голосом своего повелителя.
В сущности, больше Вайсману нечем было похвастаться. Он приближался к сорока годам, а его докторская диссертация так и не была дописана, несмотря на двадцать лет усердных трудов. Его витгенштейновская библия, которую постоянно рекламировали и обещали, что она вот-вот пойдет в печать, похоже, была даже дальше прежнего от завершения. А в довершение всего его скромную должность помощника библиотекаря взяли и сократили. У правительства не было денег на подобные пустяки.
Казалось, весь мир в сговоре против Вайсмана. Он был главной мишенью безжалостной компании, которую вела студенческая ассоциация против “еврейской скверны”, царящей на философском факультете. А его лекции по математике в центре образования взрослых Volksheim в Оттакринге были прерваны на неопределенный срок Фронтом Родины. Шлик попытался помочь, предъявив в качестве козыря свою международную известность. Но даже это не произвело впечатления на правительство. Не учли даже того, что сам Шлик был членом Фронта Родины: к этому времени вступить в эту партию требовалось от каждого государственного служащего.
У безработного Вайсмана не осталось иного выхода, кроме как пройти все ужасы экзаменов; собрав волю в кулак, он наконец защитил диссертацию. К его великому облегчению, все прошло успешно, но докторская степень не помогла ему найти работу.
Вайсман был не единственным трудным ребенком среди студентов Шлика. Тому пришлось опекать и Розу Рэнд, бедную как церковная мышка. Она еле-еле сводила концы с концами – зарабатывала переводами научных книг и статей с польского на немецкий. К тому же она прилежно вела протоколы заседаний Венского кружка, но за это не полагалось никакого денежного вознаграждения.
В какой-то момент показалось, что она все-таки сможет получать деньги за свою преданность кружку. Карнап написал ей из Праги, что они с Нейратом будут ей очень благодарны, если она сможет подготовить полную расшифровку всех заседаний кружка за зимний семестр. “Тогда я смогу передать вам деньги через Нейдера. Особенно нас интересуют оригинальные тексты Витгенштейна. Пожалуйста, выделяйте все дословные цитаты”[462].
Однако вскоре Карнап был вынужден сообщить Нейрату: “Роза Рэнд только что сообщила мне, что Шлик не дает разрешения, причем это, разумеется, произошло уже после того, как она закончила работу”[463].
Чтобы хотя бы немного облегчить жизнь Розе Рэнд, Мориц Шлик нашел ей работу у профессора психиатрии Отто Пётцля, того самого, который еще в бытность молодым врачом поставил начинающему писателю Роберту Музилю диагноз “тяжелая неврастения”. В этот момент Пётцль сменил своего бывшего начальника Юлиуса Вагнера-Яурегга на посту главы клиники психиатрии и неврологии. Уже несколько лет Шлик знал и ценил Пётцля, более того, в двух случаях психиатр обследовал Иоганна Нельбёка и рекомендовал его госпитализировать.

Роза Рэнд
Роза Рэнд не только усердно трудилась в университетской клинике Пётцля, но и сумела одновременно написать статью по философии “Понятия «реальности» и «нереальности» в сознании душевнобольных” (Die Begriffe “wirklich” und “nichtwirklich” aufgrund der Befragung Geisteskranker) на основании бесед с пациентами. Однако напечатать статью не удалось, а Венский кружок не одобрил ее, в сущности, экспериментальный подход, хотя он очевидно был гораздо перспективнее всех их затяжных дебатов о протокольных предложениях.
“Величайший логик со времен Аристотеля”
Вскоре после этого у Морица Шлика снова появилась причина обратиться к Отто Пётцлю.
Весной 1934 года, как и планировалось, вернулся из Принстона Курт Гёдель – он провел семестр в Институте передовых исследований в качестве приглашенного профессора. Однако вскоре стало ясно, что молодой логик страдает душевным расстройством, и ему срочно необходима врачебная помощь. Шлик написал Пётцлю с просьбой “не отказать в любезности и позволить мне привезти к вам моего уважаемого коллегу приват-доцента Курта Гёделя на профессиональную консультацию”[464].
Никаких хвалебных слов, подчеркивал Шлик в письме, не хватит, чтобы описать интеллектуальные способности Гёделя. Гёдель – чистый гений. “Это математик величайшего калибра, и общепризнанно, что его открытия начинают новую эру. Эйнштейн со всей уверенностью назвал Гёделя величайшим логиком со времен Аристотеля, и можно безо всяких сомнений сказать, что Гёдель при всей своей молодости величайший авторитет в мире по фундаментальным вопросам логики”[465].
“Величайшему логику со времен Аристотеля” еще не исполнилось и тридцати, но его постоянно терзали мания преследования и страх, что его отравят. Врач старался, как мог, но лечить случай глубокой паранойи всегда дело непростое.
О психиатрах рассказывают массу анекдотов, а в Вене, пожалуй, этих специалистов особенно много. Ведь именно здесь в основном работали и Зигмунд Фрейд, и Альфред Адлер, а также Юлиус Вагнер-Яурегг и Рихард фон Крафт-Эбинг. Существует даже каноническое собрание этих историй – глава в книге “Тетя Джолеш, или закат Запада в анекдотах” (Die Tante Jolesch oder Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten) венского писателя Фридриха Торберга. Профессору Петцлю в этой главе отведено почетное место.
В одном анекдоте рассказывается, как Пётцль лечит больного, страдающего паранойей (нет, конечно, не Гёделя и не Нельбёка). Лечение дает плоды, больной явно идет на поправку. И вдруг, к вящему огорчению доктора, все симптомы возвращаются.
– Кругом полно людей, и все хотят убить меня, – бормочет больной, упорно отводя глаза.
– Ну же, полноте, – уговаривает его Пётцль, – никто ничего такого не планирует.
– Нет, меня хотят отравить, и я могу это доказать, – упирается пациент.
– Друг мой, никто не хочет вас отравить!
Но пациент твердо стоит на своем – как и Пётцль. Доктор с безупречной мягкостью излагает все обычные доводы, которые помогали с другими больными. Но в этом случае они больного не убеждают. Не помогают даже самые испытанные приемы.
– Все хотят меня убить! – твердит больной. – Я точно знаю. Все. Даже вы, профессор!
– Что? Я?! – кричит Пётцль, от изумления утратив контроль над собой. – Да вы с ума сошли!
Вернемся к Курту Гёделю. Профессор Пётцль сразу же направил “величайшего логика со времен Аристотеля” в санаторий в деревне Пуркерсдорф. Это здание в стиле ар-нуво – архитектурный шедевр, созданный Йозефом Хоффманом на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков. Санаторий расположен не слишком далеко от западной окраины Вены и совсем близко от прелестной церкви Св. Леопольда, которую построил Отто Вагнер на территории психиатрической клиники Ам Штейнхоф.
Через некоторое время Курта Гёделя выписали, но об излечении не шло и речи. Несколько последующих лет он провел в разъездах между Веной, где он вел математический семинар, Институтом передовых исследований в Принстоне и различными психиатрическими клиниками вроде Пуркерсдорфа, Рекавинкеля и Афленца. Странные “состояния” мучили его снова и снова. Он перестал быть завсегдатаем собраний Венского кружка, но на встречи Венского математического коллоквиума по возможности ходил.
И в самом деле, никто не сомневался, что труды Гёделя знаменуют начало новой эры. В тридцатые годы математическая логика расцвела и превратилась в одну из ведущих наук, по значимости сопоставимую с квантовой физикой. Ей заинтересовались блестящие молодые ученые, в том числе поляк Альфред Тарский и англичанин Алан Тьюринг, которые обогатили эту область своими восхитительными открытиями.