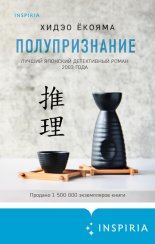Роза Марена Кинг Стивен
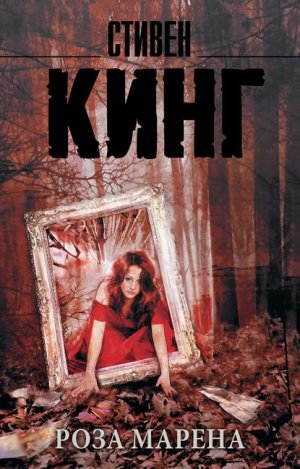
Его искренняя радость привела ее в отчаяние. Ей показалось, что кто-то вертит ножом прямо в ее кишках.
— Я не смогу поехать с вами в субботу, — быстро проговорила она. Слезы теперь потекли сильнее, теплыми ручейками. — Я вообще не смогу с вами встречаться. Я была не в себе, когда решила, что смогу.
— Почему же не сможете? Господи, Рози! О чем вы говорите?
Замешательство в его голосе — не обида, которую она почти ожидала услышать, а подлинное замешательство, испуг, — подействовало на нее хуже, чем если бы это была обида. Она просто не могла больше вынести этот разговор.
— Не звоните мне и не приходите, — сказала она и вдруг с предельной ясностью увидела Нормана, стоящего напротив ее дома под проливным дождем, с поднятым воротником плаща. Уличный фонарь слабо освещал нижнюю половину его лица, — он стоял там, как не знающий пощады бандит из романа Ричарда Рейсина, от которого никуда не скроешься.
— Рози, я не понимаю…
— И это на самом деле к лучшему, — сказала она. Голос ее дрожал и начал прерываться. — Просто держитесь от меня подальше, Билл.
Она быстро положила трубку, на мгновение пристально вгляделась в нее, а потом вскрикнула, как подстреленная птица. Тыльными сторонами ладоней она сбросила телефон с коленей, тот полетел прочь на всю длину шнура и упал на пол. Зуммер в сброшенной трубке до странности напоминал стрекот кузнечиков, под который она засыпала в ночь с понедельника. Вдруг ей стал невыносим этот звук, она почувствовала, что, если ей придется слушать его еще полминуты, ее голова расколется. Она встала, подошла к стене, присела на корточки и выдернула вилку телефона из розетки. Когда она вновь попыталась встать, ноги не держали ее. Она уселась на пол, закрыла лицо ладонями и зарыдала. Кажется, у нее действительно не было другого выхода.
Анна несколько раз повторила, что ничего пока не известно, и Рози тоже не может знать наверняка, что бы она там ни подозревала. Но Рози была уверена. Это Норман. Норман появился здесь, Норман в ярости, он убил бывшего мужа Анны, Питера Слоуика, и ищет ее.
7
В пяти кварталах от «Горячей Чашки», где он только что на четыре секунды разминулся с глазами своей жены, поглядевшей в окно кафе, Норман завернул в магазинчик с уцененными товарами под названием «Не больше 5». «Любой товар в магазине дешевле 5 долларов» — гласило объявление в витрине, напечатанное под скверно выполненным изображением Авраама Линкольна. На бородатой физиономии Линкольна застыла широкая ухмылка, он подмигивал прохожим и, по мнению Нормана Дэниэльса, был дьявольски похож на человека, которого он когда-то арестовал за то, что тот удавил свою жену и четверых детей. В этом магазинчике, находившемся на расстоянии сотни метров от «Займа и Залога Города Свободы», Норман купил всю маскировку, которую собирался сегодня надеть: пару темных очков и кепку с надписью «Чи-Сокс» над козырьком.
Имея за плечами больше десяти лет опыта полицейского инспектора, Норман пришел к выводу, что маскировки уместны лишь в трех случаях: шпионских фильмах, рассказах о Шерлоке Холмсе и праздниках с ряжеными. Они совершенно бесполезны днем, когда единственное, на что похожа косметика, — это на косметику, и единственное, на что похожа маскировка, — на маскировку. А девки в «Дочерях и Сестрах», этом борделе для современных Марий Магдалин, куда, как в конце концов признался этот хилый очкарик, Питер Слоуик, он отправил беглянку Розу, должны быть особенно чувствительны к хищникам, подкрадывающимся к их норе. Девки вроде этих привыкли жить с манией преследования и выработали свое искусство защиты.
Кепка и темные очки сослужат ему службу. Все, что он планировал на сегодняшний вечер, это, как сказал бы Гордон Саттеруэйт, его первый детектив-напарник, прикидка. Гордон любил иногда ухватить своего младшего товарища за ворот, повернуть к себе лицом и заявить, что ему следует немножко его послушать, как он выражался, «старого легаша». Гордон был жирный, вонючий, вечно жующий табак неряха с коричневыми зубами, и Норман начал побаиваться и презирать его почти сразу, как впервые увидел. Гордон работал полицейским двадцать шесть лет, а инспектором — девятнадцать, но у него не было страсти охотника. А у Нормана она была. Работа не нравилась Гордону, он ненавидел подонков, с которыми ему приходилось общаться (а иногда даже дружить, если случалось работать под крышей). А у Нормана была охотничья страсть, он чувствовал себя на охоте за преступниками как рыба в воде. Эта страсть помогла Норману раскрутить огромное дело, основываясь лишь на собственной интуиции. Оно превратило его — пусть ненадолго — в любимчика прессы. В этом расследовании, как и в большинстве прочих, связанных с организованной преступностью, наступил момент, когда тропинка, по которой шли следователи, исчезла, потерялась в неразберихе перепутанных развилок, и прямого пути просто не было. Этим делом с наркотиками руководил Норман Дэниэльс — впервые за всю свою карьеру. Когда логика оказалась бессильной, он без колебаний сделал то, чего не смогло бы или не стало бы делать большинство полицейских: он переключился на интуицию и доверился тому, что она подсказывала. Ринулся вперед напролом и без страха.
Для Нормана обычно не существовало такого способа, как «прикидка». Норман ловил рыбу на блесну. Сначала, обдумывая дело, он использовал факты и применял логику, а потом, включая интуицию, доводил дело до конца. Он сталкивал лодку с берега и, сидя в ней, медленно движущейся по течению, забрасывал блесну и вытаскивал ее, забрасывал и вытаскивал — в ожидании, пока на нее не попадется что-нибудь стоящее. Интуиция подсказывала ему, куда забрасывать. Иногда не попадалось ничего, кроме гнилого сучка, старого сапога или жадного, но глупого окунька, которого не станет есть даже голодный енот.
А порой на крючок попадается и кое-что повкуснее.
Он надел кепку и темные очки и свернул на Харрисон-стрит, направляясь теперь к Дархэм-авеню. До района, где находились «Дочери и Сестры», оставалось добрых три мили, но Норман был не против прогуляться пешком. Он может использовать прогулку для того, чтобы освежить голову. К тому времени, когда доберется до номера 251, он станет похож на чистый лист фотобумаги, готовый принять любые образы и мысли, не пытаясь подогнать их под собственные предварительные теории. Но если у тебя вообще нет никаких теорий, ты никогда не сумеешь этого сделать.
Карта, за которую он переплатил в киоске отеля, лежала в заднем кармане, но он остановился свериться с ней лишь один раз. Он провел в городе всего неделю, а большинство городских маршрутов уже запечатлелось в его мозгу гораздо четче и яснее, чем у Рози. Опять-таки дело тут было не столько в тренировке, сколько в прирожденном даре.
Когда он проснулся вчера утром с ноющими руками, плечами и мошонкой, челюсти болели так, что рот открывался лишь наполовину (первая попытка зевнуть, когда он сбросил ноги с кровати, оказалась мучительной). Он с отчаянием понял: то, что он сделал с Питером Слоуиком — Тамперштейном-акой, городским еврейчиком-очкариком, — вероятно, было ошибкой. Насколько серьезной ошибкой, судить трудно, поскольку многое из того, что произошло в доме Слоуика, виделось теперь как в тумане, но все равно это была ошибка. К тому времени, когда он подошел к стенду с газетами в отеле, он решил, что никаких не может быть «вероятно». Это словечко вообще годится только для рефлексирующих кретинов — это стало одним из неписаных, но твердо соблюдаемых жизненных принципов еще с детских лет, когда его мать бросила семью, а отец начал пить и давать волю рукам.
Он купил газету и быстро пролистал ее в лифте, поднимаясь к себе в номер. Там не было ничего про Питера Слоуика, но это не принесло Норману особого облегчения. Тело Тампера могло быть еще не обнаружено до выпуска в печать ранних новостей. Оно могло еще лежать там, где оставил его Норман, в подвале, засунутым за водонагреватель (вернее, полагал, что оставил его, поправил он себя — все это вспоминалось довольно смутно). Но парни типа Тампера, парни, занятые благотворительно-общественными делами, обычно не пропадают без вести надолго. У них полным-полно слюнявых дружков. Кто-то начнет беспокоиться, позвонит, еще кто-то придет поискать его в уютной заячьей норе на Беадри, и довольно скоро кто-то наткнется на неприятную находку за водонагревателем.
Разумеется, то, чего не оказалось в утренней газете, появилось на страничке одного из листков дневного «Метро»: «СЛУЖАЩИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА УБИТ В СВОЕМ ДОМЕ». Судя по заметке, «Помощь проезжим» была не единственной общественной деятельностью Тампера… И он был далеко не беден. В газете сообщалось, что семья его родителей, в которой Тампер был младшим ребенком, имела вполне приличный доход. Тот факт, что он работал на автовокзале по ночам, отсылая сбежавших из дома жен к шлюхам в «Дочерях и Сестрах», лишь подтверждал, по убеждению Нормана, что мужик или не знал, кому кинуть пару палок, или был импотентом. Так или иначе, это был типичный добренький мешок с дерьмом, занятый по будням спасением человечества, слишком перегруженный для того, чтобы понимать, как коротка собственная жизнь. «Помощь проезжим», «Армия спасения», «Помощь нуждающимся», «Боснийские беженцы», «Русские беженцы» (можно было подумать, что у еврейчика вроде Тампера хватит ума, чтобы пропустить хоть это, но ничуть не бывало) и вдобавок еще два или три «женских приюта». Газета не называла их, но Норману уже был известен один — «Дочери и Сестры», называемый в обиходе «Игрищем лесбийских кошек». В субботу должна была состояться панихида по Тамперу, газета почему-то называла ее «поминальной церемонией». О Господи Иисусе!
Норман понимал, что смерть Слоуика могут связать с любой конторой, в которой тот работал, или… ни с одной из них. Легавые, конечно, будут проверять его личную жизнь (никогда не исключая возможности, что у ходячей Благотворительности вроде Тампера может быть личная жизнь) и не отбросят вероятности «преступления без мотивов», совершенного каким-нибудь случайно забредшим маньяком, которые становятся все более распространенными. Так сказать, бешеной собакой, искавшей, кого бы куснуть.
Однако все это не будет иметь большого значения для шлюх из «Дочерей и Сестер». Норман знал это не хуже, чем этот, как его там звали. По роду своей работы он имел немало дел с женскими организациями и приютами, а с годами все больше, и понимал психологию этих извращенцев. Их Норман называл про себя динозаврами новой эры, начавшими в последнее время оказывать реальное влияние на образ мыслей и поведение нормальных людей. Послушать динозавров новой эры, так каждый вышел из неблагополучной семьи, в каждом внутри сублимировался ребенок и каждому следует остерегаться эгоцентричных человеконенавистников. А в действительности, по Норману, у этих людей хватало нервов идти по жизни, не скуля, не хныкая и не бегая каждый вечер в какое-нибудь Общество двенадцатиступенчатой программы психологической поддержки. Динозавры были явными тупицами, но некоторые из них — и женщины в заведениях наподобие «Дочерей и Сестер» порой служили ярким тому примером — могли быть чрезвычайно осторожными. Осторожными? Нет, не то слово. Они выдумали термин «менталитет доброжелательности» и носились с ним, как дурак с писаной торбой.
Большую часть вчерашнего дня Норман провел в библиотеке и разыскал там ряд интересных сведений о «Дочерях и Сестрах». Самым занятным оказалось то, что женщина, которая управляла этим заведением, была миссис Тампер — до 1973 года, когда развелась с Тамперштейном и снова взяла свою девичью фамилию. Это могло показаться диким совпадением лишь тем, кто был незнаком с брачными обычаями новых динозавров. Они часто бегают парами, но никогда не способны бегать в упряжке, во всяком случае, их не хватает на долгий заезд. Всегда кончается тем, что один хочет выпить, а другой желает закусить. Они не способны уяснить простую истину: брак, по их правилам, основанный на единомыслии, не работает.
Бывшая жена Тампера управляла своим заведением не по законам большинства приютов для обиженных дамочек с девизом: «Только женщины могут понять, только женщины могут судить». В статье об этом заведении в воскресном приложении, напечатанной чуть больше года назад, дамочка Стивенсон отринула эту идею как «не только сексопатологическую, но еще и просто идиотскую». Норман был поражен, до чего она похожа на ту поблядушку Моди в старом телешоу. Женщина из ее заведения, Джерт Киншоу, тоже высказалась там на этот счет. «Мужчина вовсе не наш враг, если только он не доказывает обратного, — сказала она. — Но если они нас бьют, мы даем сдачи». Там была ее фотография — здоровенная черномазая сука, которая напомнила Норману того футболиста из Чикаго — Уильяма Перри. «Только попробуй мне дать сдачи, дорогуша, и ты не расквитаешься, пока я не сделаю из тебя отбивную», — пробормотал он.
Одна-ко вся эта дребедень хоть и была по-своему интересна, но на самом деле никуда не вела. В этом городе наряду с женщинами могли быть и мужчины, которые знали, где находится это заведение, и которым было позволено выдавать туда направления. Заведение могло управляться всего одним динозавром новой эры, а не целым комитетом. Он не сомневался, что хотя бы в одном отношении дамочки из заведения ничем не отличаются от их более консервативных коллег: смерть Питера Слоуика зажжет у них красный сигнал тревоги. Они не станут просчитывать разные варианты, как и легавые. Пока не будет доказано обратное, они будут считать, что убийство Слоуика связано с их деятельностью… Конкретно, с одним из направлений, которое Слоуик выдал за последние шесть или восемь месяцев своей жизни. Вследствие этого имя Розы уже могло всплыть на поверхность.
«Так зачем же ты сделал это? — спросил он себя. — Зачем ты это сделал? Были другие способы добраться туда, где ты сейчас, и они тебе прекрасно известны, — ты сам это знаешь. Ты же полицейский и, конечно же, знаешь! Тогда зачем же ты расшевелил их малину? Та кобыла, Берти-Джерти Как-Ее-Там, наверное, стоит сейчас у окна в гостиной в их чертовом заведении и изучает в бинокль каждого проходящего мимо пьянчужку. Конечно, если только она не успела к этому времени сдохнуть от какого-нибудь перенапряга. Так зачем же ты сделал это? Зачем?»
Ответ напрашивался, но он отмахнулся от него, как только ответ начал всплывать из подсознания. Отмахнулся, потому что образ был слишком зловещим, чтобы разбираться в нем. Он прикончил Тампера по той же причине, по которой удавил рыжую шлюху в трусиках цвета оленины, — что-то поднялось из его подкорки, выползло на поверхность и заставило его сделать это. Теперь эта ползучая слякоть пыталась всплывать все чаще и чаще, и он не станет думать о ней. Так лучше. Безопаснее. Не хватает только засомневаться в себе.
Тем временем он уже пришел; Дом Шлюх — прямо перед ним.
Норман беспечной походкой перешел улицу к четным номерам по Дархэм-авеню, зная, что любой, кто наблюдает за улицей, будет меньше бояться парня на другой ее стороне. В качестве наблюдателя его интересовала та черномазая бочка, чью фотографию он видел в газете, — огромный мешок черной плоти с сильным полевым биноклем в одной руке и тающей горстью кремовых пирожных — в другой. Он еще чуть замедлил шаг, но ненамного, — красный сигнал тревоги, напомнил он себе, они настороже.
Это был большой белый дом, не в совсем викторианском стиле, а один из тех, что строились на стыке веков — три этажа уродства. Спереди он выглядел узким, но Норман вырос в доме, не очень отличавшемся от этого, и готов был ручаться, что сзади тот мог занимать половину квартала.
Его наметанный глаз заметил парочку шлюх из этого дома — здесь, парочку — там. Норман тщательно следил за тем, чтобы не ускорять свою медленную беззаботную походку и не охватывать весь дом одним долгим взглядом, а осматривать по частям. Парочка шлюх — здесь, парочка — там, везде — по паре шлюх.
Да уж. Шлюхи тут подняты по тревоге.
Он почувствовал, как привычная ярость начала пульсировать у него в висках, а вместе с ней возник знакомый образ — тот, который заменял все, что он не мог выразить словами: банковская кредитная карточка. Зеленая банковская кредитка, которую она посмела украсть. Образ этой кредитки теперь всегда был рядом и заслонил собой все ужасы и насилия в его жизни — сопротивление, вызывавшее у него ярость, лица убитых им людей, встававшие в его воображении и мешавшие ему уснуть, голоса, приходившие во сне. Например, голос его отца. «Подойди-ка сюда, Норми. Я хочу поговорить с тобой по душам». Иногда за этими словами следовал удар кулаком. А порой, если везло и он был пьян, всего лишь протягивалась его рука и забиралась тебе между ног.
Но сейчас это все было не важно. Имел значение лишь дом на противоположной стороне улицы. Так хорошо ему больше никогда не удастся осмотреть его, и если он потеряет эти драгоценные секунды, думая о всякой ерунде, то кто же тогда окажется в дураках?
Он стоял прямо напротив заведения. Милая лужайка — узкая, но длинная. Красивые клумбы с весенними бутонами обрамляют переднюю веранду. В середине каждой клумбы стоят металлические шесты, увитые плющом. Однако плющ отодвинут от черных пластиковых цилиндров на верхушках шестов, и Норман знал почему: внутри этих темных коробок находятся телекамеры, дающие отличный обзор всей улицы. Если кто-то внутри сейчас смотрит на мониторы, он увидит человека в черно-белой куртке, бейсбольной кепке и темных очках, который прогуливается на противоположной стороне улицы, слегка сгорбившись и согнув колени, так что его шесть футов и три дюйма роста не произведут впечатления на случайного наблюдателя.
Над входной дверью без замочной скважины встроена еще одна камера. Ключи слишком легко подделать, а засов — отодвинуть, если у тебя под рукой набор отмычек. Нет, там щель для электронной карточки или панель домофона с кнопками, а может, и то и другое.
Проходя мимо дома, Норман рискнул бросить еще один, последний взгляд во дворик. Там был огород, и две шлюхи в шортах втыкали в землю палки, как ему показалось, шесты для помидоров. Одна была похожа на рабыню с плантации: оливковая кожа и длинные темные волосы, завязанные сзади конским хвостом. Взрывоопасное тело, на вид лет двадцать пять. Другая — моложе, почти подросток, одна из тех жалких панков-шманков с волосами, вытравленными в два разных цвета. Ее левое ухо закрывала повязка. Она носила наркоманскую майку без рукавов, а на левом бицепсе Норман заметил татуировку. У него было мало времени, да и не такое хорошее зрение, чтобы ее разглядеть. Но он достаточно долго работал полицейским, чтобы знать, что там выведено: скорее всего название какой-нибудь рок-группы или паршиво сделанный рисунок кустика марихуаны.
Норман представил себе, как он вдруг бросается через улицу, не обращая внимания на камеры. Увидел, как он хватает ту маленькую с повязкой на ухе и прической рок-звезды, как заводит одну из своих здоровенных рук ей за шею и сдавливает, пока не упрется в челюсть.
«Меня интересует Роза Дэниэльс, — говорит он второй, рабыне с темными волосами и взрывоопасным станком. — Выведи ее сюда немедленно, или я сверну шейку этой плевательнице, как цыпленку».
Это, конечно, было бы здорово, но он почти не сомневался, что Розы здесь уже нет. Из своих библиотечных исследований он узнал, что услуги, предлагаемые «Дочерьми и Сестрами», помогли почти трем тысячам женщин. С тех пор как Лео и Джессика Стивенсоны открыли это заведение в 1974-м, средняя продолжительность пребывания шлюх здесь составляла четыре недели. Потом эти ходячие инкубаторы и разносчицы заразы скоренько выпроваживались в город. Скорее всего получая по выходе искусственные мужские половые члены вместо дипломов.
Нет, Роза почти наверняка уехала и теперь вкалывает служанкой на какой-нибудь работенке, которую подыскали ей ее лесбианские подружки, а по вечерам возвращается в жалкую комнатенку, тоже найденную ими. Однако эти суки на другой стороне улицы знают, где она, — у дамочки Стивенсон имеется ее адрес в картотеке, и, возможно, те, в огороде, уже заходили в ее тараканье гнездышко попить чайку с герл-скаутекими печеньями. А тем, кто не успел побывать там, уже успели рассказать побывавшие у нее в гостях, потому что так устроены все бабы. Чтобы заткнуть такой хайло, надо ее прикончить.
Младшая из огородниц — та, что носила прическу рок-звезды, — жутко поразила его, когда, взглянув на него, подняла руку и… помахала ему. На мгновение он решил, что она смеется над ним, что они все смеются, выстроившись у окон Дома Шлюх, над ним, инспектором Норманом Дэниэльсом, который сумел сцапать полдюжины наркобаронов и много другого отребья, но не справился с женой, — она обвела его вокруг пальца и украла его гребаную кредитку ATM.
Его пальцы сжались в кулаки, а ногти впились в ладони.
«Держи себя в руках, — заорал на него его внутренний голос. — Скорее всего, она машет так всем! Она, наверное, машет рукой и бродячим псам! Все ссыкухи вроде нее, нажравшись благотворительного дерьма, становятся такими приветливыми!»
Да, конечно, так оно и есть. Норман разжал ладони и отогнал от себя волну воздуха, коротко махнув в ответ. Он даже смог выдавить из себя слабую улыбку, которая вновь пробудила боль в слизистой и мышцах гортани. Потом, когда маленькая стерва с повязкой на ухе отвернулась к своему огороду, он мгновенно стер улыбку с лица и с гулко бьющимся сердцем заторопился прочь.
Он попытался вернуть мысли к своей главной задаче — как он собирается отловить одну из этих сук (желательно — Главную, чтобы не рисковать наткнуться на ту, которая не знает всего, что ему необходимо выяснить) и заставить ее говорить. Кажется, сейчас он утратил способность хладнокровно поразмышлять над этой проблемой — во всяком случае, на время.
Он поднял ладони к лицу и помассировал желваки на челюстях. Ему и раньше случалось испытывать подобную боль, но никогда — такую сильную. Что же он сделал с Тампером? В газете про это не говорилось ни слова, но, чтобы так болела челюсть — и зубы, зубы тоже болели, — нужно было здорово выйти из себя.
«Если они меня поймают, — мне не выпутаться, — сказал он себе. У них будут фотоснимки всех следов, которые я оставил на нем. У них будут образцы моей слюны и… ну… любой другой жидкости, которую я мог оставить на этом хлюпике. В наши дни в их распоряжении имеется масса фантастических тестов, они проверят все, а я даже не знаю, какие следы там оставил».
Все это так, но они его не поймают. Он зарегистрировался в «Уайтстоуне» как Элвин Додд из Нью-Хейвена, а если на него надавят, он сможет даже предъявить водительское удостоверение — фотокопию водительского удостоверения, — которое подтвердит это. Если здешние легавые позвонят легавым домой, им скажут, что Норман Дэниэльс сейчас находится за тысячу миль от Среднего Запада, в заслуженном отпуске — в спортивном лагере, в национальном парке «Сион», штат Юта. Они могут даже посоветовать местным легавым не быть ослами и сообщат им, что Норман Дэниэльс здорово отличился перед тем как уехать в отпуск. И наверняка они не станут кому попало рассказывать историю с Уэнди Ярроу… ведь так?
Точно, не станут. Но раньше или позже…
На «позже» он плевать хотел. В эти дни он думал только о «раньше». О том, как он найдет Рози и начнет разговор по душам. О том, как сделает ей подарок — подарит ей свою кредитку. И ту больше никогда не вытащат из какой-нибудь мусорной корзины или из бумажника какого-то вшивого педика. Он устроит все так, что она никогда больше не потеряет кредитку и не выбросит. Он знает у нее безопасные места, куда можно засунуть кредитку. О том, что будет после вручения этого прощального подарка, он не думал, — это не важно.
Как только его мысли вернулись к банковской кредитке, они переключились на нее целиком, как случалось почти всегда в последние дни, будь то во сне или наяву. Этот кусочек пластика словно превратился в жуткую зеленую реку, большую, как Миссисипи, тогда как бег его мыслей вливался в нее ручейком. Все его мысли теперь неслись под гору и в конце концов утратили всякий зримый образ, влившись в мутный поток наваждения. Снова всплыл кошмарный вопрос, на который не было ответа: как она посмела? Как она вообще посмела взять его кредитку? То, что она ушла, сбежала от него… Это он в состоянии понять, даже если и не может примириться с этим и знает, что ей придется умереть уже за то, что она так одурачила его и так хитро скрывала предательство под видом покорности и страха в своем вероломном бабском сердце. Но то, что она посмела взять его кредитку… Посмела взять то, что принадлежало ему по праву, как тот парнишка из сказки, который сорвал бобовый стебель и спер золотую курицу у спящего великана…
Не сознавая, что делает, Норман сунул указательный палец левой руки себе в рот и начал кусать его. Должна была возникнуть боль — причем не слабая, — но на этот раз он не почувствовал ее; слишком глубоко он окунулся в собственные мысли. На указательных пальцах обеих рук у него были толстые подушечки мозолей, поскольку кусать их в моменты стресса было его застарелой привычкой еще с детства. Поначалу мозоль выдержала, но он продолжал думать о кредитной карточке, и ее зелень стала все глубже проникать в мозг Нормана, пока не превратилась в почти черный цвет хвойного дерева в сумерках (цвет, совершенно не похожий на настоящую светло-зеленую окраску кредитки). Мозоль прорвалась, и кровь потекла по его руке и губам. Он вонзил зубы в палец, наслаждаясь болью, ощущая вкус крови, соленый и такой же терпкий, как вкус крови Тампера, когда он вгрызался в вену у него в паху…
— Мамочка? Что тот дядя делает со своей рукой?
— Не обращай внимания, идем!
Голоса вернули его к реальности. Он неторопливо оглянулся через плечо, словно пробудился от дремы — короткой, но глубокой, — и увидел молодую женщину и мальчика лет трех, удаляющихся от него. Она тащила ребенка за собой так быстро, что тот почти бежал и, спотыкаясь, чуть не падал. И когда женщина оглянулась, Норман увидел, что она смертельно испугана.
Что же он в самом деле тут делает?
Он взглянул на свой палец и увидел на нем глубокие кровоточащие ранки. Из-за нервного напряжения он может откусить эту проклятую штуковину, откусить и проглотить ее. Правда, это будет не первый раз, когда он откусит что-то. И проглотит.
Однако сейчас этого делать нельзя. Нужно контролировать себя. Он вынул из заднего кармана носовой платок и обмотал им кровоточащий палец. Потом поднял голову и огляделся вокруг. С удивлением отметил, что уже темнеет; в некоторых домах зажегся свет. Как далеко он забрел? Где сейчас оказался?
Он прищурился на уличный указатель, висевший на углу следующего перекрестка и прочитал: «Дирборн-авеню». Справа от него виднелся маленький семейный магазинчик с велосипедом перед входом и вывеской в окне: «СВЕЖЕВЫПЕЧЕННЫЕ БУЛОЧКИ». В животе у Нормана заурчало. Он понял, что впервые по-настоящему проголодался с тех пор, как сошел с «Континенталь-экспресса» и съел холодную овсянку в кафетерии автовокзала, — съел, потому что ее заказала бы она.
Вдруг ему захотелось именно пару булочек — это было единственное на всем белом свете, чего он желал, но… не просто булочек. Ему захотелось свежевыпеченных булочек, вроде тех, что обычно пекла его мать. Она была вечно скандалившей толстой свиньей, но готовить умела дай Бог каждому. Это бесспорно. И сама была главным потребителем своей продукции.
Лучше им оказаться свежевыпеченными, подумал Норман, поднимаясь по ступенькам. Он видел, как внутри какой-то старик снует за прилавком. Лучше им оказаться свежевыпеченными, приятель, а не то помоги тебе Бог.
Он уже тянулся к дверной ручке, когда взгляд его упал на один из плакатиков в витрине ярко-желтого цвета. Норман никак не мог знать, что именно Рози наклеила сюда эту листовку, он почувствовал, как что-то напряглось в нем еще до того, как он разобрал слова: «Дочери и Сестры».
Он нагнулся, чтобы прочесть листок. Глаза его вдруг сузились и стали очень внимательными, а сердцебиение усилилось и сделалось четким.
ПРИХОДИТЕ И ОТДОХНИТЕ С НАМИ В ПАРКЕ НА ЧУДЕСНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ ЭТТИНДЖЕРС, ГДЕ МЫ ОТМЕЧАЕМ НАЧАЛО ЛЕТА И ДЕВЯТУЮ ГОДОВЩИНУ ЛЕТНИХ СЕЗОНОВ «ДОЧЕРЕЙ И СЕСТЕР»
ПИКНИКОМ И КОНЦЕРТОМ.
Суббота, 4 июня
Распродажи Викторины Азартные игры
Аттракционы Дискотека для малышей
!!!ПЛЮС!!!
«ИНДИГО ГЕРЛС» — Живьем на концерте в 20.00!
Родители, мы присмотрим за вашими детьми!
Мы будем рады всем!
Все сборы от вечера пойдут в пользу
«Дочерей и Сестер»,
которые напоминают вам, что насилие против одной женщины — это преступление против всех
Четвертого, в субботу. В эту субботу. А будет ли там она, его беглянка Роза? Разумеется, будет. И она, и все ее беглянки-лесбиянки. Все шлюшки-поблядушки соберутся на опушке.
Норман провел по пятой строчке снизу пальцем, который он искусал. Яркие пятнышки крови уже проступали сквозь намотанный на него платок.
Мы будем рады всем!
Так тут было написано, и Норман подумал, что готов обрадовать этих шлюх своим присутствием.
8
Четверг, почти половина двенадцатого. Рози отпила глоток минералки, прополоскала ею рот, проглотила и снова взяла гранки.
— «Она приближалась, это точно; на сей раз его слух не сыграл с ним никаких шуток. Петерсон слышал нарастающий цокот ее высоких каблучков по коридору. Он представил себе ее с уже раскрытой сумочкой, роющуюся в поисках ключа, тревожащуюся о дьяволе, который может красться за ее спиной, тогда как ей следовало бы беспокоиться о том, кто затаился в ожидании. Он быстро проверил, при нем ли нож, а потом торопливо натянул на голову нейлоновый кулак. Как только ее ключ заскрежетал в замке, Петерсон вытащил нож и…»
— Стоп-стоп-стоп! — раздался раздраженный окрик Роды в динамиках.
Рози подняла глаза и посмотрела сквозь стеклянную стенку. На нее с испугом смотрел Кэрт Гамильтон, сидевший возле своей контрольной панели с опущенными на ключицы наушниками. По-настоящему ее привело в ужас то, что Рода курила одну из своих тонких сигареток прямо в пультовой, не обращая внимания на табличку «Не курить» на стене. Рода выглядела так, словно провела кошмарную ночь, но здесь она была не одинока.
— Рода? Я что-то не так сделала?
— Наверное, нет, если ты носишь нейлоновые кулаки, — сказала Рода и стряхнула пепел в керамическую чашечку, стоявшую перед ней на панели управления. — Было несколько мужиков, которым иногда мешали мои нейлоновые кулаки, но обычно я все же называю их чулками.
Несколько секунд Рози просто не могла взять в толк, о чем та говорит, потом она вспомнила несколько прочитанных ею последних предложений и застонала.
— О-о! Рода, прости…
Кэрт надел наушники и нажал на кнопку.
— «Убей все мои завтра», дубль семьдесят тре…
Рода положила руку ему на плечо и произнесла такое, от чего Рози словно окатило ледяной водой: «Не стоит». Потом она взглянула в окошко, увидела вытянутое лицо Рози и улыбнулась ей — сдержанно, но ободряюще.
— Все в порядке, Рози. Просто я решила сделать перерыв на ленч полчасиком раньше. Выходи и пошли.
Рози поднялась — слишком быстро, сильно ударившись бедром об угол стола, чуть не опрокинув пластиковую бутылку с минеральной водой, — и поспешно вышла из кабинки.
Рода и Кэрт стояли рядом, и на мгновение Рози показалось — нет, она угадала, — что они говорили о ней.
«Если ты и впрямь так думаешь, Рози, тебе следует сходить к врачу, — подала голос Послушная-Разумная. — Такому врачу, который показывает тебе чернильные кляксы и выясняет подробности, как ты, например, ходишь в уборную». Обычно Рози ничуть не помогал этот голос, но на этот раз она ему обрадовалась.
— Я могу читать лучше, — сказала она Роде, — и после ленча буду. Клянусь.
Она была уверена в этом? Нет. Все утро она пыталась погрузиться в «Убей все мои завтра», как раньше окуналась в «Луч Манты», но получалось плохо. Только она начинала проникать в тот мир, где Альму Сант-Джордж преследовал ее психованный почитатель, Петерсон, как тут же вылетала оттуда. Голоса, прозвучавшие по телефону прошлым вечером, все еще были на слуху. Голос Анны, говоривший, что ее бывший муж, человек, отправивший Рози в «Дочери и Сестры», убит. Голос Билла, в котором звучали тревога и растерянность, когда он спрашивал ее, что случилось. И хуже всего — ее собственный, просивший его держаться от нее подальше. Просто держаться подальше.
Кэрт похлопал ее по плечу.
— У тебя день плохого голоса, — сказал он. — Это все равно как день плохой прически, только хуже. Мы не раз сталкивались с этим здесь, в аудиокабине триллеров, верно, Ро?
— Конечно, — подтвердила Рода, но ее изучающий взгляд не отрывался от лица Рози, а та могла себе представить, что видит в нем Рода. Прошлой ночью она спала всего два или три часа, и у нее не было такой косметики, которая могла бы скрыть последствия этого.
А даже если бы и была такая косметика, она все равно не умеет ею пользоваться, подумала Рози.
Когда Рози училась в старших классах, у нее было несколько простейших косметических средств (по иронии судьбы, как раз в то время, когда они меньше всего были ей нужны), но с тех пор как она вышла замуж за Нормана, она не пользовалась ничем, кроме пудры и двух или трех тюбиков с губной помадой самых естественных оттенков. «Если бы я хотел всегда иметь возможность любоваться проституткой, я бы женился именно на такой, размалеванной», — сказал ей однажды Норман. После этого она вообще практически перестала пользоваться косметикой.
Ей показалось, что особенно пристально Рода изучает ее глаза: красные веки, покрасневшие белки и темные круги под глазами. Погасив вчера вечером свет, она в отчаянии проплакала около часа, но слезы не помогли ей уснуть, — это было бы счастьем. В конце концов она успокоилась и просто лежала в темноте без сна, стараясь ни о чем не думать, но из этого ничего не вышло. Когда перевалило за полночь, ей пришла в голову по-настоящему жуткая мысль: она зря лишила себя заботы Билла — и, возможно, его защиты — именно в тот момент, когда так отчаянно нуждалась в ней.
Защиты? Ну смех, да и только. Понятно, что он нравится ей, и тут нет ничего плохого, но посмотрим правде в глаза: Норман запросто сожрет его на завтрак.
Правда, Анна не связывала убийство Питера с Норманом. Она не допускала мысли, что Норман уже в городе. Питер Слоуик провел множество благотворительных дел, и не все они так уж никого не задевали. Что-то другое могло повлечь за собой месть… И убийство.
Только Рози знала. Сердцем чувствовала. Это был Норман.
Однако тот голосок продолжал нашептывать, пока тянулись долгие часы этой бессонной ночи. Чувствовала ли она сердцем? Или та часть ее, которая была не Послушной и Разумной, а лишь Растерянной и Испуганной, просто пряталась за этой мыслью? Может, она ухватилась за звонок Анны как за предлог прервать свои отношения с Биллом, пока они с ним не зашли далеко?
В этом она не могла дать себе отчета, но она знала, — одна мысль о том, что она может никогда больше не увидеть его, делает ее несчастной и… пугает ее так, словно она теряет что-то, без чего нельзя жить. Так не бывает, конечно, чтобы один человек стал полностью зависим от другого, и так быстро. Но когда пробил час ночи, а потом два (и три), эта мысль начала казаться все менее странной. Если так не бывает, то почему она испытывает такой страх и такое отчаяние при одной мысли, что никогда больше не увидит его?
Когда она заснула, ей снова приснилось, что она едет с ним на мотоцикле. Опять она сжимала мотоцикл своими голыми ногами и на ней был тот же розмариновый хитон. Когда ее разбудил звонок будильника — вскоре после того как она наконец заснула, — она тяжело дышала и горела, словно в лихорадке…
— Рози, что с тобой? — спросила Рода.
— Все в порядке, — ответила она. — Просто… — Она быстро взглянула на Кэртиса, потом на Роду, пожала плечами и приподняла уголки рта в вымученной улыбке. — Просто, знаешь, у меня сейчас, плохое время месяца.
— У-гу, — кивнула Рода, но без особой убежденности. — Ладно, пойдем с нами в кафешку, утопим печали в салате из тунца и землянике со сливками.
— Именно так, — сказал Кэрт. — Я угощаю.
На этот раз улыбка у Рози получилась чуть более естественной, но она отрицательно покачала головой.
— Я лучше прогуляюсь. Мне нужно пройтись и подставить голову ветру. Пусть выдует из нее пыль.
— Если ты не поешь, то часа в три скорее всего упадешь в голодный обморок, — сказала Рода.
— Я съем салат. Обещаю. — Рози уже направлялась к старому, скрипучему лифту. — А если съем что-то еще, то испорчу полдюжины отличных дублей отрыжкой.
— Сегодня это вряд ли что изменит, — заметила Рода. — В четверть первого начнем, идет?
— Конечно, — ответила она. Пока лифт спускался на четыре этажа вниз, в вестибюль, последнее замечание Роды неотвязно вертелось у нее в голове: сегодня это вряд ли что изменит. Что, если у нее не получится лучше после полудня? Что, если они от семьдесят третьего дубля дойдут до восьмидесятого, а потом до сто-Бог-знает-какого? Что, если, когда она встретится завтра с мистером Леффертсом, он вместо того чтобы предложить контракт, сделает ей замечание, — что тогда?
Неожиданно она ощутила прилив ненависти к Норману. Этот приступ страха повлиял на нее, как удар между глаз каким-то тупым тяжелым предметом вроде обуха топора. Даже если Норман и не убивал мистера Слоуика, даже если Норман все еще остается дома, в том, другом временном поясе, он по-прежнему преследует ее, точь-в-точь как Петерсон преследовал бедняжку Альму Сант-Джордж. Он преследует Рози и в ее воображении.
Лифт остановился, и дверцы распахнулись. Рози вышла в вестибюль, и мужчина, стоявший возле стенда с планом здания, повернулся к ней. На его лице были написаны одновременно и надежда, и тревога. Это выражение делало его еще моложе, чем обычно… почти подростком.
— Привет, Рози, — сказал Билл.
9
Она испытала неожиданное и безотчетное желание убежать, причем сделать это до того, как он увидит, насколько ее потряс его приход. Его глаза поймали ее взгляд, и убежать стало невозможно.
Она снова увидела изумительные зеленоватые искорки в его глазах, похожие на солнечные зайчики в мелкой воде. Вместо того чтобы побежать к дверям вестибюля, она шагнула к нему, чувствуя одновременно и страх, и радость. Однако эти чувства заслонило всепоглощающее чувство облегчения.
— Я же говорила, чтобы вы держались от меня подальше, — произнесла она и услышала, как дрожит ее голос.
Он взял ее за руку. Она считала, что не должна позволять ему делать это, но не смогла помешать ему. Ее ладонь не смогла удержаться от того, чтобы не повернуться в его руке и не сжать его пальцы.
— Я знаю, что говорили, — просто сказал он, — но я не могу иначе, Рози.
Это испугало ее, она отпустила его руку и неуверенно взглянула на Билла. Никогда с ней не случалось ничего подобного, ничего, и она понятия не имела, как надо вести себя в таких случаях.
Он развел руки в стороны, вероятно, сделав этот жест лишь для того, чтобы подчеркнуть свою беспомощность. Именно в таком жесте нуждалось ее усталое, исполненное отчаяния и надежды сердце. Этот жест отмел все щепетильно-чопорные условности, которыми она пыталась отгородиться от него, и словно благословил ее. Рози почувствовала себя будто во сне. Когда он заключил ее в объятия, она прижалась лицом к его плечу и закрыла глаза. Его руки дотронулись до ее волос, которые она, не имея на то времени, не заплела в это утро в косу, а оставила распущенными по плечам, и она ощутила странное и восхитительное чувство воскресения после смерти. Словно она до этого долгие-долгие годы, как Белоснежка, надкусившая отравленное яблоко, спала смертным сном, но когда он нежно и бережно обнял ее, она проснулась. Только теперь она проснулась — проснулась по-настоящему и смотрела вокруг глазами, лишь начинающими видеть.
— Я рада, что ты пришел, — просто и с облегчением сказала она.
10
Они медленно шли на восток по Лэйк-драйв навстречу сильному теплому ветру. Когда Билл обнял ее, она слабо улыбнулась. Они находились в трех милях от озера, но Рози казалось, что она сможет пройти все расстояние до озера пешком, если только он будет вот так — нежно и бережно — обнимать ее. Весь путь до озера, а может, и весь путь через озеро, переступая с одного гребня волны на другой.
— Чему ты улыбаешься? — спросил он ее.
— Не знаю, — сказала она. — Наверное, потому, что я счастлива.
— Почему же ты так неприветливо встретила меня?
— Я… почти не спала прошлой ночью. Все думала, что допустила ошибку. Наверное, я ее допустила, но… Билл, ты, кажется, ее исправил?
— Я здесь.
— Я отказалась встречаться с тобой, потому что меня потянуло к тебе сильнее, чем я могла себе представить. Такие чувства я не испытывала к мужчине когда-либо в жизни… И это произошло так быстро… Наверное, я сошла с ума, раз говорю тебе это.
Он на мгновение крепче прижал ее к себе.
— Ты не сошла с ума.
— Я позвонила и попросила тебя держаться подальше, потому что… кое-что случилось — может случиться. Я не хотела, чтобы ты пострадал. И сейчас этого не хочу.
— Это Норман, да? Он все-таки приехал разыскивать тебя?
— Сердце подсказывает мне, что да, — очень осторожно произнесла Рози, — и нервы говорят, что да. Я не знаю, можно ли верить моему сердцу — оно так долго жило в страхе… А мои нервы просто не выдерживают…
Она взглянула на свои часики, а потом на лоток с горячими сосисками на углу, прямо перед ними. Там, на небольшой лужайке, стояли скамейки, и девушки из окрестных контор, расположившись на них, закусывали.
— Можешь угостить леди сосиской с кислой капустой? — спросила она. Опасность отрыжки после полудня показалась ей совершеннейшей пустяковиной. — Я не ела сосиску с капустой с тех пор, как была ребенком.
— Полагаю, это можно устроить.
— Мы сядем на одну из тех скамеек, и я расскажу тебе про Нормана. И тогда ты сам сможешь решить, хочешь ты быть рядом со мной или нет. Если решишь, что не хочешь, я пойму…
— Рози, я не…
— Не давай никаких заверений. Ничего не говори, пока я не рассказала тебе про него. И лучше поешь, прежде чем я начну, а то у тебя пропадет аппетит.
11
Несколько минут спустя он вернулся к скамейке, где она сидела, осторожно балансируя подносом, на котором лежали две длиннющие сосиски с капустой в тарелках и два бумажных стаканчика лимонада. Она взяла тарелку и стаканчик, поставила лимонад на соседнюю скамейку и печально взглянула на Билла.
— Наверное, тебе надо прекратить кормить меня. А то я начинаю чувствовать себя как беспризорник с открытки Детского фонда ООН.
— Мне нравится тебя кормить, — сказал он. — Тебе нужно поправиться, Рози.
Это не то, что сказал бы Норман, подумала она с чувством благодарности к Биллу, хотя то, что они сказали друг другу, не напоминало шутливо-остроумные реплики, которыми обменивались персонажи в разных ток-шоу по телеку вроде «Мелроуз-плейс».
— Так расскажи мне про Нормана, Рози, — прервал ее размышления Билл.
— Хорошо. Только дай мне подумать, с чего начать.
Она откусила сосиску, наслаждаясь острым привкусом кислой капусты на языке, и отпила лимонад. Ей пришло в голову, что, когда она закончит рассказ, Билл не захочет ее больше знать. Ничего, кроме ужаса и отвращения, он не будет испытывать к женщине, которая могла прожить все эти годы с таким существом, как Норман. Но было уже слишком поздно тревожиться о подобных вещах. И она заговорила. Голос Рози звучал довольно ровно, и это немного ее успокоило.
Она начала с рассказа о пятнадцатилетней девочке с розовой ленточкой в волосах, которая чувствовала себя счастливой. Однажды вечером эта девочка пошла на университетский баскетбольный матч лишь потому, что ее занятия по домоводству в последнюю минуту отменили и ей нужно было в течение двух часов дожидаться, когда отец заедет за ней. А быть может, ей просто захотелось, чтобы люди увидели, какой хорошенькой она выглядит с этой лентой в волосах. Рядом с ней на галерке уселся парень в полосатом пиджаке — здоровенный, широкоплечий парень, старшеклассник, который бегал бы там, на площадке, с остальными игроками, если бы в декабре его не выгнали из команды за драку… Она продолжала, слушая как бы со стороны слова, которые, она раньше не сомневалась, унесет нерассказанными с собой в могилу. Не о теннисной ракетке в руках Нормана — это она унесет в могилу, — но о том, как Норман кусал ее в их медовый месяц, а она пыталась убедить себя, что это любовные игры. И о выкидыше, и о жестоком различии между ударами кулаком по лицу и ботинком по пояснице.
— Поэтому мне приходится часто бегать в туалет, — объяснила она, нервно улыбнувшись и глядя на Билла, — но сейчас уже немного получше.
Она рассказала ему про те случаи — в первые годы их брака, — когда он подпаливал ей кончики пальцев на руках и на ногах зажигалкой. Очень странно, но именно эта пытка прекратилась, когда Норман бросил курить. Она рассказала ему о том вечере, когда Норман вернулся с работы, молча уселся перед телевизором во время новостей, держа тарелку с едой на коленях, но не притрагиваясь к еде. Когда Дэн Резер закончил, он отставил тарелку в сторону и начал колоть ее кончиком карандаша, который лежал на краешке столика, стоявшего у дивана. Он тыкал грифелем достаточно сильно, чтобы вызывать боль и оставлять на коже маленькие черные точки, похожие на родинки, но не так сильно, чтобы пошла кровь. Она рассказала Биллу, что бывали случаи, когда Норман делал ей гораздо больнее, но никогда он не пугал ее сильнее. Самым страшным было то, что он делал это молча. Когда она пыталась заговорить с ним, узнать, что случилось, он не отвечал. Он только продолжал идти за ней, пока она пятилась (она не хотела бежать — бегство скорее всего стало бы спичкой, брошенной в бочку с порохом), не отвечал на ее вопросы и не обращал внимания на ее вытянутые в страхе ладони с растопыренными пальцами. Он продолжал колоть карандашом ее руки, плечи и кожу под ключицами — на ней была кофточка с открытой шеей — и издавать тихие, похожие на хлопки звуки каждый раз, когда тупой кончик карандаша втыкался в ее кожу: «Пуух! Пуух! Пуух!» В конце концов он загнал ее в угол, где она села на пол и прижала колени к груди, а ладонями прикрыла макушку. Он опустился рядом с ней на колени с серьезным, сосредоточенным выражением лица, продолжал колоть ее карандашом и издавать те же звуки. Она сказала Биллу, что к тому времени уже была уверена, что он убьет ее, исколет насмерть карандашом или изобьет, если откажет карандаш… И она помнила, как убеждала себя снова и снова, что не должна кричать, потому что соседи услышат, а она не хотела, чтобы ее нашли в таком виде. По крайней мере, чтобы нашли ее еще живой, это было бы слишком стыдно. Потом, дойдя до той точки, когда, несмотря на все старания, она поняла, что сейчас не выдержит и начнет кричать, Норман ушел в ванную и закрыл за собой дверь. Он долго не выходил оттуда, и она начала тогда думать о побеге — просто выскочить за дверь и убежать куда угодно, — но стояла ночь, и он был в доме. Если бы он вышел из ванной и обнаружил, что она ушла, он погнался бы за ней, поймал бы и убил — она не сомневалась в этом.
— Он свернул бы мне шею, как цыпленку, — тихо проговорила она, по-прежнему не поднимая глаз. Правда, она решила тогда, что уйдет. Тихонько уйдет в его отсутствие, если он еще раз причинит ей боль. Но после той ночи он долгое время и пальцем ее не трогал. Быть может, месяцев пять. А когда он снова стал давать волю рукам, то поначалу не так уж сильно, и она говорила себе, что если могла выдержать тыканье карандашом, то сможет стерпеть несколько шлепков. Так она думала до 1985-го, когда издевательства и побои участились. Она рассказала, как Норман бесился в тот год из-за неприятностей с Уэнди Ярроу.
— В том году у тебя был выкидыш, да? — спросил Билл.
— Да, — подтвердила она, обращаясь к своим ладоням. — Еще он сломал мне ребро. Или несколько. Я уже не помню сейчас. И повредил легкое… это ужасно, да?
Он не ответил, и она стала торопливо продолжать, рассказывая ему, что самым худшим (помимо выкидыша, конечно) было его долгое, страшное молчание, когда он просто смотрел на нее, громко сопя носом, словно зверь, готовый прыгнуть. После выкидыша снова стало чуть полегче. Она рассказала, как потом у нее стали случаться провалы в памяти, как иногда представление о времени куда-то исчезало, пока она сидела в своей качалке, и как порой, накрывая стол к ужину, лишь заслышав звук подъезжающей машины Нормана, она вспоминала, что из-за охватившей ее физической слабости вынуждена была восемь или даже девять раз за день принимать душ. Как правило, не включая света в ванной.
— Мне нравилось принимать душ в темноте, — сказала она, по-прежнему не смея оторвать взгляд от своих ладоней. — Я стала бояться света.
Она закончила рассказом о звонке Анны — та позвонила сразу же после того, как ей стала известна одна подробность, которой не было в газетах. Деталь, которую полицейские скрывали, чтобы преступнику не стало известно, что полиция о ней знает. Питер Слоуик был укушен более тридцати раз, и кусок его тела был вырван и исчез. Полиция полагала, что убийца забрал его с собой. Анна знала по занятиям в кружке терапии, что бывший муж Рози Мак-Клендон садист, часто кусал ее. Это может быть случайным совпадением, тут же поспешила добавить Анна. Но… С другой стороны…
— Кусачий садист, — тихо произнес Билл, как будто разговаривая сам с собой. — Так называют людей вроде него? Это такой термин?
— Не знаю, — сказала Рози.
А потом, быть может, от страха, что он ей не поверит, она закатала короткий рукав розовой майки с надписью «Тэйп Энджин» и показала ему старый белый шрам в виде двух обращенных навстречу дуг на плече, напоминающий след от зубов акулы. Это был самый первый — подарок в медовый месяц. Потом она повернула левую руку и показала ему другой — над локтевым сгибом. Этот — круглая белая ямка — шрам после того, как он откусил кусочек кожи с мясом.
— Укус долго кровоточил, а потом туда попала инфекция, — сказала она таким тоном, словно говорила о какой-то мелочи, вроде того, что бабуля уже звонила или что почтальон оставил посылку. — Но я не ходила к врачу. Норман принес домой пузырек с таблетками антибиотиков. Я какое-то время принимала их, и мне стало лучше. Он знает таких фармацевтов, у которых можно достать все что угодно. Он называет этих людей «помощничками пахана». Вроде бы смешно, когда начинаешь об этом думать, правда?
Она по-прежнему словно обращалась к своим ладоням, стиснутым на коленях, но наконец посмела бросить на Билла быстрый взгляд, чтобы узнать его реакцию на свой рассказ. То, что она увидела, поразило ее. Плечи его вздрагивали.
— Что? — хрипло спросил он. — Почему ты замолчала, Рози?
— Ты плачешь, — поразилась она, и голос ее дрогнул.
— Да нет, не плачу. По крайней мере я стараюсь.
Она вытянула палец и тихонько провела им под его глазом, а потом показала ему влажный кончик. Он стал разглядывать его, закусив нижнюю губу.
— И ты почти не ел.
Половина сосиски лежала на его тарелке нетронутой вместе с горчицей и кислой капустой. Билл бросил бумажную тарелку в урну, стоявшую за скамейкой, а потом снова посмотрел на Рози, машинально вытирая влажные от слез щеки.
У Рози возникло чувство, что над ней начинает сгущаться холод неизбежности. Сейчас он спросит, почему она так долго оставалась с Норманом. Вместо ответа она не встанет со скамейки и не уйдет (как не уходила из дома на Уэстморленд-стрит до апреля). Между ними появится первый барьер, потому что на этот вопрос она не сможет ответить. Она не знала, почему она оставалась так долго с ним, почему ей наконец понадобилось единственное пятнышко крови, чтобы перевернуть всю ее жизнь. Она знала, что душ в потемках был самым лучшим местом в доме, что иногда полчаса на Стуле Пуха пролетали как пять минут и что вопрос «почему» не имеет значения, когда ты живешь в аду. Ад не имеет причины. Женщины в кружке терапии понимали это. Там никто не спрашивал ее, почему она оставалась с ним. Они знали. Знали по собственному опыту. У нее иногда возникало ощущение, что кое-кто из них мог догадываться даже о теннисной ракетке и даже предполагать что-то еще более худшее.
Но когда Билл наконец задал вопрос, он так отличался от того, который она ожидала услышать, что на секунду лишилась дара речи.
— Насколько ты уверена в том, что он действительно убил ту женщину, которая вовлекла его во все эти неприятности в 85-м, Уэнди Ярроу?
Она была изумлена, но это не было тем изумлением, которое вызывает слишком неожиданный вопрос. У нее возникло чувство, будто она увидела знакомое лицо в каком-то совершенно непривычном окружении или месте. Вопрос, произнесенный им, существовал — непроизнесенный и потому не вполне сформулированный — где-то в глубине ее сознания многие годы.
— Рози? Я спросил тебя, насколько ты уверена…
— Я думаю… я почти не сомневаюсь.
— В его интересах было, чтобы она умерла, правда? Она избавила его от того, чтобы сидеть и смотреть, как все это всплывает в гражданском суде?
— Да.
— Если бы она была покусана, ты думаешь, газеты стали бы писать об этом?
— Не знаю. Может быть, нет. — Она взглянула на свои часики и всполошилась: — О Боже, я должна идти сейчас же. Рода хотела начать запись в четверть первого, а сейчас уже двенадцать десять.
Они пошли обратно рука об руку. Она поймала себя на том, что ей хочется, чтобы он снова обнял ее, и как раз когда одна ее часть уговаривала ее быть сдержанной, а другая — не сдерживать свое влечение, он сделал именно это.
«Похоже, я начинаю влюбляться в него».
Эта мысль не удивила ее, и тогда выплыла следующая: «Нет, Рози, похоже, ты опоздала со своим выводом. Похоже, это уже случилось».
— Что Анна говорила про полицию? — спросил он. — Она не хочет, чтобы ты пошла куда-то и сделала заявление?
Она напряглась под его рукой, в горле у нее пересохло, а в глазах помутилось. Все было в этом одном-единственном слове — полиция.
Полицейские — братья. Норман повторял ей эти слова снова и снова. Органы правопорядка — одна семья, а полицейские — братья. Рози не знала, насколько это соответствует действительности, как далеко они могут пойти, держась друг за друга, — или прикрывая друг друга. Но она знала, что те полицейские, которых Норман время от времени приводил к себе домой, казались очень похожими на самого Нормана. А еще она знала, что он ни разу не сказал худого слова ни об одном из них, даже о своем первом напарнике — плутоватом старом борове Гордоне Саттеруэйте, которого явно терпеть не мог. И, разумеется, о Харлее Биссингтоне, любимым занятием которого — по крайней мере при посещении дома Дэниэльсов — было раздевать Рози глазами. Харлей подхватил что-то вроде рака кожи и ушел в отставку три года назад, но он был напарником Нормана тогда, в 1985-м, когда за недостатком улик было прекращено дело Ричи Бендера и Уэнди Ярроу. И если оно было прекращено так, как подозревала Рози, то, значит, Харлей выручил Нормана. Здорово выручил. И не только потому, что сам завяз в нем по уши. Он сделал это, потому что органы правопорядка — это семья, а полицейские — братья. Легавые видят мир иначе, чем остальные люди («лохи», выражаясь языком Нормана). Легавые видят его вывернутым наизнанку, нечистотами наружу. И это делает их всех братьями. Делает их другими, а некоторых — совсем другими… А у Нормана были, кроме того, подходящие для этого природные данные и наклонности.
— Я не могу рассчитывать на полицию, — торопливо выговорила Рози. — Анна сказала, что я не обязана туда идти. Полицейские — его друзья. Его братья. Они всегда поддержат друг друга, они…
— Успокойся, — произнес он, хотя не смог скрыть свою тревогу. — Все будет хорошо, только успокойся.
— Я не могу успокоиться! Ты просто не знаешь этих людей. Я позвонила тебе и сказала, что не могу больше с тобой видеться именно потому, что ты не знаешь, что это такое… какой он… и как они обделывают свои делишки. Если бы я пошла в полицию здесь, они связались бы с полицейскими там. И если бы один из них… тот, кто работал с ним, кто проводил с ним дежурства в три часа ночи, кто доверял ему свою жизнь, оказался на связи… — Она думала сейчас в первую очередь о Харлее Биссингтоне, который, дружа с Норманом, не отказался бы переспать с его женой.
— Рози, ты должна…
— Нет, я не должна! — перебила она его с совершенно не свойственной ей яростью. — Любой легавый, к которому я обращусь, свяжется с Норманом. Он скажет, что я наговариваю на него. И если я дам такому легавому свой адрес — а они требуют сообщить адрес, когда заполняешь бланк заявления, — он передаст его Норману.