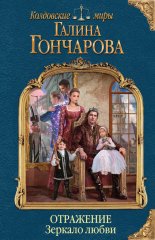Путь искупления Харт Джон

– А что ты тут вообще делаешь, папа? И чья это машина?
– Одного из прихожан. Я здесь из-за мальчика.
– А что с шеей?
– Да работал в саду, ведро свалилось со стремянки… К чему вообще все эти вопросы?
– Ты знаешь, как я ко всему этому отношусь.
Она имела в виду мальчика, и отец это понял. У Гидеона имелись причины любить церковь, но у Элизабет были свои собственные демоны, и со временем правила прояснились. Церковь – только по воскресеньям. В остальные дни недели отцу следует держаться в стороне.
– А как ты относишься к отдельной палате? Или к деньгам, которые мы собрали для оплаты лечения? Не думаешь ли ты, что у его отца есть такая сумма, а? Это все благодаря церкви, твоей матери и всем прочим людям, которых ты теперь и в грош не ставишь!
Элизабет переборола чувство вины – в этом не было ничего нового.
– Это ты попросил Гидеона позвонить?
– Произошел неожиданный поворот. – Он пожал плечами. – Все усложнилось. Время на исходе.
– Вообще не понимаю, о чем ты.
– Все смешалось воедино: детство, невинность, доверие… – Открыв дверь, он придержал ее. – Заходи.
Внутри было все так же грязно, все те же засаленные ковры и автомобильные запчасти.
– Он в ванной.
– Я подожду.
– Да не в этом смысле. – Отец поманил ее за собой. – Он не под душем или типа того. Просто мальчик неважно себя чувствует и на всякий случай хочет оставаться там. Он знает, что ты должна приехать.
Ее отец еще раз приглашающе взмахнул рукой, пропуская ее вперед. Встал слева от Элизабет, потянувшись одной рукой к дверной ручке, и она оказалась в пустом пространстве между его рукой и дверью.
– Дитя – вместилище любви, – произнес он. – И это то, что я не устаю повторять. Все, что сейчас происходит. Дорога, которая ведет отсюда… – Его рука коснулась ручки. – Все дело в чистоте и невинности.
– Мы по-прежнему говорим про Гидеона?
– Про Гидеона. Про семью. Про следующий час твоей жизни.
Отец открыл дверь, и Элизабет увидела все, словно сквозь туманную муть: Гидеона и избитую девушку, кровь, белую кожу и яркую серебристую ленту. Увидела все это, и не успело ее сердце стукнуть еще хотя бы раз, как она ощутила, что окружающий мир вдруг рассыпается на куски, превращаясь во что-то совершенно необъяснимое и жутко холодное. Элизабет не понимала, что происходит, – при всем желании не могла. Но заплывшие глаза были глазами Ченнинг, а это уж точно не отвечало никаким ее представлениям об окружающем мире. Элизабет инстинктивно поднырнула под руку отца и стала поворачиваться, стремясь обрести пространство и свободу действий, но он стоял прямо у нее за спиной и был наготове. Пришлепнул ее к дверному косяку одной рукой, а другой вдавил ей в шею что-то твердое и гладкое. Элизабет уперлась в косяк ногой, но даже тогда поняла, что опоздала. Электрический ток пронзил ее шею, и отец последовал за ней на пол, продолжая разряжать в нее шокер, пока она выкручивалась, бестолково молотила руками и ногами и чувствовала, что крик намертво застрял в горле. Все тело горело огнем. Вдохнув озоновый запах разряда, за дверью ванной успела увидеть Гидеона, застывшего с разинутым ртом, и Ченнинг, крик которой столь же безмолвно пытался вырваться наружу, как и у нее.
Священник стоял, тяжело дыша. Чувствовал себя совсем старым, но знал, что это чувство пройдет. То, что он сказал Элизабет, – полная правда. Дело действительно было в любви – то, что он уже успел сделать, что делал в настоящий момент, – а нет ничего сильнее, чем любовь отца к дочери.
Не Господняя любовь.
Не супружеская.
Она была ему дороже, чем все остальное, вместе взятое, – дороже дыхания, веры или самой жизни. Она была всем его миром, теплым, ярким центром этого мира.
Хотя, конечно же, то, что лежало сейчас у его ног, не было его дочерью.
Той, которую он любил.
Он потыкал в нее ногой и услышал все те же самые голоса, зазвучавшие в темных закоулках его сознания, целое множество голосов, дисгармоничных и писклявых, которые повторяли: «Немедленно прекрати, отвернись, вернись к Господу!» Но он уже много лет назад выяснил, что все эти голоса – лишь бледные ошметки отработавшей свое и выброшенной за ненадобностью морали, не более чем призраки, которые ничего не знают о потере, горе или мучительной боли предательства. Он был молодым отцом, у него были любящая жена и своя собственная церковь. Дочь любила и уважала его, полностью доверяла ему. Они были такими, какими предполагал создать их Господь, – семьей. Ребенком. Отцом.
Почему же она отвернулась от всего этого?
Почему убила свое нерожденное дитя?
Все это – краеугольные камни великого предательства, и он сталкивался с ними всякий раз, когда пытался заснуть: опущенные глаза и притворная покорность, секреты и ложь, и кровь у него на крыльце. Ей полагалось лежать в кровати, и все же он нашел ее там, полумертвую, с выскобленным чревом и упорствующую в своем грехе. На его руках до сих пор это пятно – проглядывает красным в таких мельчайших трещинках, что только ему самому видно. Кровь его дочери. Кровь его внука или внучки. Она пренебрегла своим отцом, а Господь допустил это – тот самый Господь, который для начала благословил подобную резню, а потом вручил ее сердце Эдриену Уоллу. Оба предательства столь велики, что даже весь мир вокруг потускнел и погрузился во мрак. Какое место в нем осталось отцу, который первым взял ее на руки, прижал к сердцу? Человеку, который вырастил и выучил ее и собственное сердце которого до сих пор разбито?
Никакого места, подумал он.
Вообще никакого.
Так что он сделал то, что необходимо было сделать. Забрал у Элизабет пистолет, а потом связал ей руки и ноги, следя за ее глазами на случай, если она вдруг очнется. Не стал утруждаться тем, чтобы что-то объяснять или обсуждать. Он хотел, чтобы она наконец оказалась на алтаре своей юности. Там она будет доверять ему больше всего, и там он обретет ее вновь, если сможет. В самой глубине глаз. На самом их дне.
Посмотрев на детей в ванной, он в первый и единственный раз почувствовал угрызение совести. Предстоит ли им умереть под конец? Он не знал. Может, умрет Элизабет. Может, он сам. Знал лишь одно: призрачный зов стихнет. Не будет больше тоски и отчаяния, не будет голосов в голове или жалобных криков тех, кого он пытался полюбить и вместо этого похоронил под церковью. Он поднял пистолет, гадая: успокоит ли это голоса, если он вставит его себе в рот? Откроет ли это наконец истинный лик Господа? Подобные размышления были не первыми, но на сей раз вопрос стоял ребром. Он либо найдет дочь, либо нет. А если нет – если она умрет в ходе поисков, – разве не разумно и ему тоже умереть? Разве не окажется это достойной развязкой – хотя бы такого вот рода воссоединение?
Опустив пистолет, он убрал его в карман пиджака.
– Вставай, сынок. – Махнул рукой Гидеону, который вскочил, словно марионетка на веревочке. – Иди сюда.
Мальчик сделал, как было велено, с широко распахнутыми глазами и совершенно обессиленный.
– Необходимые вещи. Помнишь наши разговоры? – Мальчишка кивнул. – Цель. Ясность. Ты веришь, что я владею такими вещами? Веришь, что, когда что-то выглядит как жестокость, на самом деле это может быть доброта?
– Она ранена?
– Просто спит.
– А девушка?
– Необходимые вещи, Гидеон! Мы уже много раз это обсуждали. Все, чего я сейчас прошу, это довериться благородству моей цели, даже если ты и не в силах ее постичь. – Он посмотрел, как мальчик моргает и сглатывает – заводная игрушка, ждущая, когда заведут пружину. – Ты понимаешь?
– Не знаю.
– Можешь попытаться?
– Да, сэр.
– Тогда давай за мной.
Он провел Гидеона к двери и осторожно приоткрыл ее. На улице – никакого движения. Лишь какая-то старуха стоит во дворе в трех домах от них, прикрыв глаза от солнца, в домашнем халате и босиком.
– Открывай машину, Гидеон. Багажник.
– Преподобный…
– Не спорь, сынок. Багажник.
Подняв заднюю дверь, Гидеон неподвижно застыл, пока преподобный укладывал в машину Элизабет, все еще бесчувственную и расслабленную, будто тряпичная кукла. За ней последовала девушка, но она бешено извивалась в путах. Старуха дальше по улице по-прежнему смотрела на них, не проявляя никакого беспокойства. Все происходило слишком быстро.
– Давай садись, Гидеон.
Мальчик забрался в машину, а потом и священник. Преподобный окончательно укрепился в своем решении: он поедет в свою старую церковь, поскольку его дочь там крестили и там она любила своего отца. Проведенные вместе хорошие годы впитались в стены этой церкви столь же надежно, как скрепляющий их известковый раствор, потому-то решение и далось столь просто. Обретет он дочь или нет, неудача или успех, все закончится так же, как и начиналось – отец, дитя и лишь полная искренность между ними.
У Гидеона хватило ума понять: все, что сейчас происходит, не лезет ни в какие ворота. Лиз не должна была так пострадать, и девушка тоже. Им нечего делать в этой машине, пропахшей мочой, и преподобный не должен быть таким страшным. Раньше он никогда таким не был. Да, он был тверд и строг, а временами довольно резок в суждениях. Но все это на самом деле мелочи, а из-за мелочей Гидеон никогда особо не переживал. Имели значение более серьезные вещи: что преподобный всегда был спокоен и тих и вроде так много знал; то, как он рассуждал о жизни и о том, где ее следует прожить, и как умел сделать каждый день значимым и полным смысла. Гидеону всегда хотелось такой жизни, все минуты и часы в которой имеют свой собственный вес. Жизни, которая не высохнет в пыль и которую не сдует прочь. Только такая жизнь и имеет значение.
Сидя за рулем, преподобный опять что-то насвистывал. От этого плоского, бесформенного мотивчика волоски на руках у Гидеона вставали дыбом. Это было так же неприятно, как скрип ногтя по школьной доске. Но, может, дело было просто в этом вонючем автомобиле, крови и в том, как он посмотрел на Гидеона, когда они оказались на прямом участке дороги.
– Ты знаешь, что представляет из себя песчаная тигровая акула?
Его голос прозвучал совсем тихо, но Гидеон все равно дернулся, поскольку это были первые слова, которые произнес преподобный за десять долгих минут. Машина уже выехала за пределы города. Девушка перестала извиваться в путах.
– Нет, сэр. Если вы только не имеете в виду обычных тигровых акул.
– У песчаных тигровых акул эмбрионы дерутся и умирают прямо в материнской утробе. Когда они достаточно вырастают, то нападают друг на друга прямо там, в тесноте и кромешной тьме. Рвут друг друга на куски, пока в живых не останется только один, и вот он-то со временем и родится на свет. Все остальные уже съедены или оставлены гнить. Братья. Сестры. Даже неоплодотворенные яйца, если какие-то остались.
Они проехали еще милю.
– Для тебя это похоже на Бога? Подобная дикость?
– Нет, сэр.
– Ну, а на меня?
Гидеон ничего не ответил, поскольку было совершенно ясно, что ответа от него не ждут. Преподобный сидел за рулем, превратив глаза в узкие щелочки, под подбородком у него играли желваки. Гидеон отважился обернуться и увидел, что девушка наблюдает за ними. С трудом втягивает воздух через нос. Пытается дышать. Она покачала головой, и Гидеон ощутил такой же страх.
Чокнутый.
С концами чокнутый!
Через две минуты показалась церковь. Преподобный дважды проехал мимо нее, приглядываясь, вытягивая шею. Остановился перед въездом, оглядел дорогу в обе стороны сквозь лобовое стекло и зеркало заднего вида.
– Видишь что-нибудь?
– Например?
– Полицию. Других людей.
– Нет, сэр.
– Точно?
Гидеон промолчал, и через несколько секунд тишины священник проехал по извилистой подъездной дорожке и остановил машину.
– Оставайся тут.
Преподобный открыл дверцу, и ветер принес запахи лета – каждого лета на памяти Гидеона. На миг подумалось о лучших временах, но тут дверь багажника открылась, и Лиз принялась вырываться, брыкаясь слишком неистово, шумно и сильно, чтобы на это смотреть, так что Гидеон уже просто визжал в голос к тому моменту, как она упала на голую землю и все то же жуткое потрескивание заставило ее обмякнуть, словно мертвую. Ему хотелось помочь ей. Но преподобный пригвоздил его к месту все теми же пустыми глазами, до основания сокрушив ту его часть, которая думала, что последуют объяснения. Он представлял себе это всего каких-то несколько секунд назад. Машина остановится. Священник подмигнет и рассмеется, и все вокруг вдруг тоже покатятся со смеху. «Здорово же меня разыграли!» – поймет он.
Но это был не розыгрыш.
Священник закинул свою дочь на плечо. Сорвал полицейскую ленту, наклонился к деревянной двери, которая рывком открылась и поглотила их. Гидеон вдруг остался с девушкой один на один.
– Пожалуйста, не плачь! По-моему, он просто болен. Или не сознает, что делает.
Но когда священник появился опять, девушка стала делать попытки вырваться. Силилась кричать из-под серебристой ленты и отбивалась, как отбивалась Лиз, так же раскрасневшись и настолько отчаянно, что Гидеон выбрался из машины и потянул священника за рукав, пока тот выволакивал ее из багажника.
– Преподобный, пожалуйста! Это же просто девушка! Ей просто страшно!
– Что я говорил насчет машины?
– Давайте просто вернемся в город, хорошо? Это все не может быть по-настоящему. Ничего из этого не может быть по-настоящему!
Все это было словно страшный сон, и Гидеон умолял себя проснуться. Но солнце пекло слишком сильно, чтобы сниться во сне, церковь была слишком высокой и крепкой. Он попытался было опять остановить священника, но тот просто отпихнул его – достаточно сильно, чтобы что-то лопнуло в груди. Гидеон упал, сильно ударившись о землю, и почувствовал, как сквозь повязки растекается что-то горячее. Священник засунул девушку под мышку. Гидеон ухватил его за ремень; попытался подняться.
– Отпусти, сынок.
– Преподобный, прошу вас…
– Я сказал, отпусти.
Но Гидеон не повиновался.
– Все это неправильно, преподобный, и это не вы! Пожалуйста, прекратите! – Вцепился в ремень еще крепче, потащился по земле. – Пожалуйста!
Сделал последнюю попытку встать, но тут электрошокер коснулся его груди, и преподобный Блэк – даже не посмотрев на него второй раз – нажал на спусковую кнопку и вырубил его.
Очнувшись, Элизабет ощутила движение, а в полутьме вокруг, словно по волшебству, стал проявляться интерьер церкви. Ее куда-то несли среди поваленных скамей и разноцветных стекол, и на миг показалось, что тоже по какому-то волшебству она вновь оказалась в собственном детстве. Знакомы были каждая балка над головой, каждый скрип рассохшихся половиц…
– Отец…
Но после этого умиротворяющего момента память начала болезненно пробуждаться, мелкими фрагментами – неясными и разрозненными, как осколки разбитого стекла. Серебристый скотч. Боль. Ничто из этого не имело ни малейшего смысла.
– Папа?
– Терпение, – произнес он. – Мы почти на месте.
Элизабет заморгала, и разрозненные кусочки посыпались дальше – дети, багажный отсек машины, жуткий ожог, сваливший ее с ног во второй раз… Все это действительно было? Она просто не могла в это поверить, но перед глазами все расплывалось, а боль пронзала все тело так, словно с нее содрали кожу и все жизненно важные нервы вылезли наружу из тела.
Он опустил на нее взгляд и улыбнулся, но в глазах его не было ничего осмысленного. «Скоро мы будем вместе», – сказал он, и тут же все недостающие детали лавиной обрушились на нее: борьба у двери и вдруг наступившая тишина, синий брезент, какое-то движение и жаркое прикосновение кожи Ченнинг. Тут она стала вырываться, так что он бросил ее на пол и прижал металлические рожки к ее коже. А когда Элизабет очнулась вновь, то уже лежала обнаженная на алтаре. «Не плачь», – сказал он; но она просто не могла удержаться. Слезы обжигали лицо. Было очень больно, очень страшно и першило во рту. Это не ее отец, не ее жизнь! Она попыталась привстать, увидела на полу Ченнинг, позвала ее – да, я тоже тут!
– Зачем ты все это делаешь?
– Не смущайся. – Он отвернулся, и она заизвивалась в путах. – Здесь вэтом нет нужды, только не между нами.
Он произнес это негромко и мягко, снимая пиджак и вешая его на скамью. Рядом с пиджаком лежал какой-то сверток. Когда он открыл его, Элизабет увидела белую холстину, аккуратно сложенную. Он встряхнул ее, чтобы расправить, и вот тогда-то вся чудовищность его грехов пустила корни и расцвела, словно какой-то жуткий цветок.
«Его церковь…»
«Все эти ужасные вещи…»
– Все эти женщины…
– Тихо!
– Этого просто быть не может! – Ее голова моталась из стороны в сторону. Он поймал ее рукой за лоб. – Тебе нельзя этого делать, – выдавила Элизабет. – Что бы тут ни происходило, чем бы, по-твоему, это ни было, тебе нельзя этого делать!
– Вообще-то я должен.
Он опять встряхнул холстину и аккуратно расстелил ее поверх ее тела, сложив под подбородком так, чтобы верхний край располагался чуть выше грудей. Поправил у ног и по бокам, долго разглаживал, пока не осталось ни единой морщинки. Все это время разноцветные пятна из окна перебегали по его лицу – свет ее детства; девчонкой она была уверена, что это свет самого Господа.
– Папа, прошу тебя…
Она была уже на пределе – чувствовала это. Отец. Церковь…
– Так много женщин…
– Они умерли детьми. Свободными от греха.
– В каком это смысле?
– Цыц!
– А мама Гидеона? Господи… А Эллисон Уилсон? – Элизабет опять поперхнулась, но это было больше похоже на всхлип. – Ты их всех убил?
– Да.
– Почему?
Он стоял сбоку от нее, опершись обеими руками на алтарь.
– А это и в самом деле имеет значение?
– Да. Господи… Конечно! Папа… – голос ее прервался.
Он кивнул, словно понимая ее более глубокую нужду.
– Мать Гидеона была первой. Я не планировал так поступать, вообще ничего подобного не планировал. Но я увидел это в ее глазах, прямо здесь: боль, потерю и намеки на дитя подо всем этим. Все началось, как простое утешение. Она была в полном смятении и откровенно поведала обо всем, что ее тревожит, – о своем неудачном браке, насилии, супружеской измене… Это была старая история, и все же пока она мне плакалась, я опять вернулся к ее глазам. Они были такими глубокими и беззащитными, и такого же цвета, что и твои… Когда она склонилась ко мне, я коснулся ее щеки, горла. После этого все и произошло – так, будто я был пассажиром какого-то корабля, который невозможно остановить. Но даже на этой стадии я чувствовал, что нахожусь пред лицом глубочайшей из истин – по мере того, как мы отрешались от владычества времени и суетных вещей. А потом я ее увидел. В самом деле увидел ее. И тогда я понял.
– Что?
– Невинная чистота. Вот каков путь.
– А как же все остальные? – спросила Элизабет. – Рамона Морган? Лорен Лестер?
– Да, все они тоже. Невинные дети, под конец.
– Даже жена Эдриена?
– С ней все было по-другому. Будь это в моих силах, я вернул бы все назад.
– Господи, да зачем же? Зачем все это? – Элизабет в отчаянии сжала кулаки.
Он склонился над ней – лицо выскоблено до блеска, глаза глубокие и темные. Пригладил ей волосы, и большего омерзения она не чувствовала ни в том подвале, ни возле карьера. Подкатила тошнота. Его глаза, словно ее собственные глаза. Те же самые глаза. Ее отец.
– Кэтрин Уолл была ошибкой. Я был зол на ее мужа. Он забрал тебя у меня, так что я забрал его жену и его дом. Признаюсь в этом грехе и стыжусь его. Ее смерть не послужила никакой цели. Дом тоже не следовало поджигать. Оба деяния были рождены слабостью и неприязнью, а это не моя цель.
– Да что за цель?
– Я уже тебе говорил. – Он опять пригладил ей волосы. – Все дело в любви.
– Отпусти Ченнинг! – Элизабет уже почти умоляла. – Если ты вообще меня любишь…
– Но я не люблю тебя! Как я могу любить тебя и по-прежнему почитать дитя, которым ты была?
– Я не понимаю…
– Давай я тебе покажу.
Его руки утвердились у нее на шее, и Элизабет почувствовала, как давление растет. Поначалу оно было мягким – ровное усилие, которое стремительно нарастало, когда он пригнулся ближе и мир вокруг начал тускнеть. Словно откуда-то издалека она слышала, как Ченнинг пинает ногами скамью, пытается кричать. Тут на какое-то время весь мир исчез, а когда Элизабет вернулась в него, переход был от мягкого к жесткому: его пальцы у нее на горле, алтарь у нее под головой… Он подождал, пока она не сфокусируется, а потом придушил опять, но даже еще медленней; давление нарастало с плавностью, вызывающее ужас от знания того, что должно наступить: последние секунды света, то, как его глаза ввинчиваются в ее глаза и как его губы слегка растягиваются в каком-то подобии улыбки, заворачиваются внутрь.
– Где ты? – его голос был нежным. Ее рот открылся, но она не смогла ответить. Элизабет увидела слезы у него на лице, разноцветный свет, а потом вдруг совсем ничего. Очнулась, заходясь в кашле, чувствуя привкус меди во рту. Третий раз оказался даже еще хуже. Он довел ее до границы черноты и удержал там.
– Элизабет! Ну пожалуйста!
После десятого раза она потеряла счет. Минуты? Часы? У нее не было ни малейшего представления. Окружающий мир был его лицом, его дыханием и этими горячими твердыми пальцами, которые вновь и вновь придавливали ее вниз. Он ни разу не потерял терпения, и с каждым разом его взгляд проникал все глубже и глубже, словно в любой момент мог коснуться какого-то податливого места, которое она охраняла, как самый большой секрет. Она уже чувствовала его там – словно легкое прикосновение пальца.
Когда Элизабет вернулась из этого места, глаза его были полны слез, и он неистово кивал.
– Я вижу тебя! – Он прикрыл ей рот, не давая всхлипнуть. – Дитя мое…
– Я не твое дитя!
– Нет, это так – конечно же, это так! Ты моя любимая девочка!
Он прижался губами к ее лицу, целуя щеки, глаза. Радостно всхлипывал, даже когда Элизабет давилась кашлем и чувствовала вкус своих собственных слез.
– Нет!
– Не будь дурочкой. Это же твой папа! Это же я!
– Убери от меня руки и убирайся вон!
– Не говори так!
– Ты мне не отец! Я даже не знаю тебя!
Она закрыла глаза и отвернулась.
Больше у нее ничего не было.
Это все, что она могла сделать.
– Нет! – Его голос поднялся, слезы полились на ее лицо, и он придушил ее сильно, быстро и злобно. – Вернись! – Навалился сильнее. – Элизабет! Прошу тебя!
Он сжимал горло Элизабет, пока глаза ее не налились кровью и она не провалилась глубоко во тьму. После этого, даже очнувшись, едва была тут. Чувствовала боль, раздирающую душу, и свет, едва теплящийся под сводами церкви. Все остальное было как в тумане. Его руки. Боль.
– Пожалуйста, дай мне ее увидеть!
Голова Элизабет завалилась набок; он подхватил и удержал ее.
– Почему ты прячешь ее от меня? Ты настолько меня ненавидишь?
Элизабет кое-как выдавила шепот:
– Ты болен. Дай мне помочь тебе.
– Я не болен!
Она моргнула.
– Ты что, не узнаешь это место? Не чувствуешь его? Место, в котором мы разговаривали о жизни и о будущем, о планах Господа и обо всем, что мы значим друг для друга? Я был твоим отцом, здесь. Ты любила меня!
– Да, любила. – Еле слышный шепот. – Действительно любила.
– А сейчас?
– А сейчас я думаю, что ты болен.
– Не говори такого!
Но за всю свою жизнь она соврала ему лишь однажды, так что выдержала его взгляд и позволила ему увидеть правду. То, что он убийца. Что она никогда не сможет любить его так, как любила когда-то.
– Элизабет…
– Отпусти меня! Отпусти Ченнинг!
Он усилил захват; ее ресницы задрожали.
– Мне нужна та дочь, которую я знал до аборта и всей этой лжи! Ты забрала ее у меня, когда все, что от тебя требовалось, это слушать и делать то, что я сказал! Наша семья могла бы выжить, наша церковь могла бы выжить!
Он дал ей глотнуть воздуха.
Элизабет хрипло выдавила:
– Я не забирала ее. Это ты убил ее.
– Да как я мог?
– Здесь. На этом алтаре.
Он ничего не понял, да и просто не сумел бы. Вовсе не изнасилование и не аборт уничтожили ту девушку, какой она некогда была. Это сделал он сам, прямо здесь. Его предательство. В этом-то и заключалась горькая ирония. Он убил ребенка, которого любил, а потом убил больше десятка женщин, пытаясь вернуть его.
– Ты смеешься?!
Да, она смеялась. Элизабет умирала, но смеялась. Может, ее мозг испытывал кислородное голодание. А может, под конец это было то, какой она на самом деле оказалась – беспомощной даже перед самой собой. Но это было уже неважно. Его лицо было каким надо: неверие и уязвленная гордость, полное бессилие перед последним актом неповиновения умирающей дочери.
– Не смейся надо мной!
Она засмеялась еще пуще.
– Перестань, – произнес он, но теперь это было уже за пределами ее воли. – Элизабет, пожалуйста…
Она сильно втянула воздух сквозь зубы и выдавила наружу даже не смех, а пронзительный хрип, в котором не было ни капли веселья. Но это было все, что у нее было, и она продолжала, даже когда его руки опустились и он опять привстал на цыпочки. Смех прервался вместе с дыханием, но Элизабет продолжала чувствовать его у себя внутри, какую-то секунду яркий, а потом тусклый и умирающий, как и она сама.
35
Гидеон очнулся от шума ветра и тепла пропитавшейся кровью рубашки. Он чувствовал жуткую слабость, но истина моментально открылась ему во всем своей неприглядной красе.
Все это по-настоящему.
Все это действительно происходит.
Гидеон попытался сесть, но что-то пошло не так, так что он опять опустился на землю. На следующий раз стал действовать медленней, и когда церковь перед ним перестала кружиться, посмотрел на желтую ленту, которую сорвал священник. Там нашли тела. Он даже припомнил несколько имен из того, что видел по телевизору.
Рамона Морган.
Лорен, как там ее.
А потом были еще и те, что внизу. Еще девять женщин, как говорили. Еще девять призраков. Эта мысль его напугала, но его мать тоже погибла здесь, и если действительно существуют призраки, то, может, сейчас она тоже среди них. Она была хорошим человеком, а может, и все остальные тоже. Может, они заглянут ему в сердце, и он поймет, что нет никаких причин для страха. Но Гидеон был религиозным мальчиком. Верил в Бога, ангелов и во всякие плохие вещи тоже.
Относился ли к ним священник?
Так не должно было быть, но он подумал, что наверняка это так. Иначе почему он здесь вместе с Лиз и той другой девушкой? Почему они связаны, замотаны скотчем и перепуганы до смерти? Все это уже слишком. Но правда о том, что ему придется сделать, была проста. Ему надо зайти внутрь и посмотреть. Так что Гидеон с трудом поднялся по ступенькам и с высоты крыльца посмотрел на раскинувшуюся перед ним долину – пушистую, узкую и длинную. Красиво, подумал он, а потом открыл дверь и отправился искать этого урода. Его было нетрудно найти. Алтарь был освещен, и на нем лежала Лиз. Ее отец мучил ее, и при этом зрелище Гидеон почувствовал еще большую слабость. Через десять шагов ноги вообще стали подкашиваться, и он подумал о таких вещах, как кровопотеря, шок и разговоры врача о зашитой тонкими нитками артерии.
Рубашка стала тяжелой.
Веки тоже.
Ухватившись за скамью, он стал ждать, пока не пройдет обморочная дурнота, но она не проходила. Вообще-то становилось все хуже и хуже. Ноги будто онемели. Во рту пересохло. Споткнувшись, Гидеон упал на одно колено, вдохнув запах ковра и гнилого дерева. Та девушка пыталась кричать, но все, что он видел – это Лиз на алтаре, как она изворачивалась и дергалась и как веревки врезались ей в лодыжки. На шее надулись вены, рот приоткрыт. Гидеон, цепляясь за скамью, заставил себя подняться, подумав: «Вот так и умерла моя мать. Прямо здесь. Прямо вот так». Но пробел в его рассуждениях не закрылся, пока он не подошел достаточно близко, чтобы увидеть кровь, разлившуюся в глазах Лиз.
Она умирала у него на глазах. Ее не просто мучили. Ее убивали.
Гидеон опять пошатнулся, увидев смерть своей матери – такой, какой эта смерть наверняка была.
На этом самом месте.