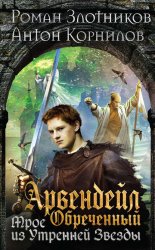Когда шатается трон Ильин Андрей

Только назавтра получить ничего не удалось, потому что на рассвете немец в атаку пошёл, припечатав артиллерией так, что не вздохнуть.
— Полундра, мать вашу!
Разбежались штрафники, командовать ими не надо. Всяк своё место и свой манёвр разумеет. Кого-то в окопе накрыло, оторвало ноги-руки, и выслужил он прощение у Родины своей. Кого-то упокоило навек.
— Кавторанг, душа твоя полосатая, держи автомат и дуй на правый фланг… Бегом, бегом!
А дальше бой. Где низ, где верх, где мама родная — не разобрать. Стихла артиллерия, ушли взрывы в тыл, значит, сейчас пожалует пехота немецкая.
У комбата гимнастёрка в крови, рука висит плетью.
— Без команды не стрелять!
Но штрафникам и так всё понятно, не новобранцы, в белый свет, как в копеечку, палить не станут.
— Разобрать цели. Пулемёты на бруствер.
Идут немцы перебежками, периодически залегая. Но нет выстрелов навстречу. Они смелеют, иные в рост встают, может, и нет там, в окопах, никго, может, вымели всех иванов артиллерией?
Метров четыреста осталось…
Спокойны штрафники, сосредоточенны. Здесь сплошь офицеры, не один месяц на передке, всякое видели, понимают, что теперь бояться поздно, теперь драться нужно. Твёрдо замерли пальцы на спусковых крючках, под правую руку гранаты разложены. Кто-то под каску бескозырку поддел и ленточку в зубах зажал. Или крестик из-под рубахи тянет… Когда смерть в глаза заглядывает, любой маму и бога поминает.
Кавторанг в окопе примостился, землю отгребает, обзор расчищая. Автомат в сторону отложил, винтовку перехватил, немецких офицеров в наступающей цепи высматривая. Из автомата что горохом по воробьям палить, а если — в цель, и руки откуда надо растут, то в самый раз трёхлинейка будет.
Вот этот, справа, по повадкам, по командам, которые отдаёт, по оглядкам вокруг, по жестам — ротный. Ему та пуля. Выбить офицеров — первейшая задача, солдаты без командиров на рожон не полезут, оно им надо? Залягут по воронкам отдыхать. Взять офицера на мушку, повести… Первый выстрел самый результативный, промахнёшься — он после зайчиком между камушков скакать будет, хрен его выцепишь.
Не крик, шепоток по окопам:
— Приготовиться…
Идут немцы редкими цепями, чтобы разом под пулемётные очереди не угодить. Вояки… За просто так жизни свои класть не желают.
— Огонь!
Плавно потянуть спусковой крючок. Выстрел!..
Немец словно на стену с ходу наткнулся, отшатнулся назад, упал ничком, ножками о землю стучит. К нему солдаты бросились, значит, верно, командир, хотя и без знаков различия. Теперь винтовку побоку и по площадям палить.
Справа «максим» стучит, сжёвывая ленту за лентой. Немцы залегли, но не побежали. Огрызаются, постреливают, огневые точки засекают. Грамотно у них это поставлено, сейчас выявят пулемётные гнёзда и артиллерией накроют или юнкерсы наведут. А уж потом, как по паркету… Это только наши грудью на пулемёты прут…
— Прекратить стрельбу!
Тишина… Затаились штрафники. Тоже не первый год на войне, научились.
Расчёты пулемёты с брустверов сбросили, на запасные позиции потащили, в три погибели согнувшись. Потому что они не пушечное мясо — штрафбат, понимают, что на одном месте лучше не засиживаться. Тут тебя или снарядом припечатают, или снайпер найдёт.
Тревожная тишина, на нейтралке немцы шевелятся, отползая назад.
— Ну всё, сейчас минами накроют…
И верно: захлопали за леском миномёты. Ахнули взрывы, кустами землю вздыбив, больше всего там, где пулемётные гнёзда были. Несколько мин аккурат в окопы легли, разнося в куски бойцов, куроча оружие. От мин за бруствером не схоронишься, они как дождик, они сверху падают…
— Приготовиться!
Поднимаются оглушённые, засыпанные грязью бойцы, отряхиваются, проверяют оружие.
Встали немцы, пошли…
— Огонь!
Теперь уж кто во что горазд. Пулемёт, тот что слева, молчит, видно, нашли его мины. Худо дело…
— Гранаты!
Подхватить гранату, дёрнуть за кольцо, что есть сил швырнуть как можно дальше, и тут же следующую, и еще… Не дать немчуре приблизиться, чтобы они не закидали окопы уже своими «колотушками». Граната в окопе цель всегда найдёт, не спрячешься от неё, не приляжешь за камушек, не нырнёшь в воронку.
Отхлынули фрицы, откатились, затихли.
Ну всё!.. Зарывайся, ребята, в землю. Как кроты, по самую маковку. Хрен с ней, с грязью, ложись, плюхайся хоть в лужу, скреби землицу, тяни на себя сверху труп. Сейчас немцы отыграются…
Ударила по окопам артиллерия, мешая живых людей с грязью и мертвецами. Не по площадям лупят, куда надо бьют, умеют воевать гансы!
— Корректировщик!.. Там, на церковке! — орёт оглушённый комбат, биноклем вокруг шаря. — Огонь по проёмам!
Стреляют, кто высунуться смог. Попасть не надеются, но хоть припугнуть, заставить спрятаться. Связист ручку телефона крутит.
— По церкви, что справа, по куполу, дай огня осколочным! — просит командир.
Где-то в тылу «пушкари», навалясь разом, орудия ворочают, загоняют в казённики снаряды.
— Огонь!
Взрыв левее церквушки.
— Право десять! — орёт в трубку командир. — Три снаряда! Не подведи, бог войны!..
Ухает батарея. Кирпичами и обломками досок взрывается церковь. Летят во все стороны осколки и разбитые на обломки лики святых…
— Занять позиции!
Прут немцы. Теперь не обороняться, теперь атаковать надо, чтобы сблизиться, уйти из-под орудийного огня и возможной бомбёжки. Понимают это штрафники, которые не по одному академическому курсу прослушали и не одну войну прошли. Кто-то и финскую зацепил. Сблизиться, слиться, чтобы без крупных калибров, чтобы глаза в глаза.
Примыкают штыки, у кого винтовки, тянут из ножен финки, расчехляют сапёрные лопатки. Злые, обречённые…
Откуда-то в окопы свеженькие, без пылинки, бойцы посыпались. Заградотряд.
— Здорово, славяне! — весело кричит капитан. — Живы ещё? Смыли кровью?..
— Ты как здесь?
— Приказ помочь огоньком. Ну и проследить… Давай вперёд, я прикрою.
Рассыпались по окопам. Бросили на бруствер ручные пулемёты.
— А что не с нами?
— С вами — бог… На войне у каждого своя работа, моя — вам жопы прикрывать.
Вовремя пришли, могут, конечно, и в спины пальнуть, но это вряд ли. Штрафников подталкивать вперёд не нужно, для них атака — это возможность выжить, а если умереть, то не от шального снаряда, а врагу в глотку вцепившись.
— Вперёд! — вопит комбат, пытаясь вскарабкаться на бруствер, только рука его перебитая плетью висит. Кто-то подсадил, толкнул снизу. — За Родину, мать вашу! Ура!..
Выстрел. Пуля впечаталась командиру между глаз, так что из-под каски красным брызнуло, и осколки черепа по спине. Снайпер!.. Знает своё дело — офицеров выбивает. Но только расчёт у него неверный — здесь все офицеры, здесь рядовых нет.
— Вперёд!..
Застучал навстречу пулемёт, сбив с ног первую цепь. Но сзади от своих окопов заработали на вспышки стволы заградотряда, давя огневые точки.
— Ура!..
Бегут штрафники, не для того, чтобы победить, а чтобы выжить! Допрыгали, доскакали, сцепились с поднявшимися навстречу немцами. И тут уж пулемёты не в помощь, тут всеобщая свалка. И уже винтовки с автоматами побоку — куда стрелять, когда кругом свои? И чужие тоже. Тут только ножи и приклады. Или ногой в пах, или пальцами в глаза, хоть зубами за горло. Не драка это — смертоубийство, где или ты, или тебя. Рычат, матерятся в душу, в бога штрафники. Скалятся, ревут немцы, поминая своих и чужих «мутер». Катаются все по земле, за глотки друг друга ухватив. Кровь хлещет, пальцы умирающих землю скребут, ногти ломая. Крики, чавканье штыков, терзающих живую человеческую плоть, хруст костей…
Давят немцы, много их, слишком много…
Пятятся штрафники, истекая кровью, огрызаясь, бойцов теряя.
Но рык сзади такой, что все крики и стоны перекрывает:
— Стоять, мать вашу!.. Приказываю! Ни шагу назад! — Это капитан из заградотряда. — Назад! Перестреляю как собак! — Маячит башкой над бруствером.
Рядом его бойцы автоматами ощетинились.
— Огонь!..
Разом застучали автоматы. Веером прошли над головами бегущих очереди.
Но пятятся, отступают штрафники.
— Трусы!.. Дерьмо собачье!
Выпрыгнул капитан из окопа, глаза кровью налиты, в одной руке пистолет, в другой заточенная лопатка сапёрная, за голенищем сапога финка.
— Назад, мамкины уроды!
Врубился в свалку, раздавая пинки, колотя по головам, по плечам, куда ни попадя, рукоятью пистолета. Рядом его бойцы прикладами любовь к Родине вколачивают.
— Назад!
Проскочил со своими бойцами, вошёл, рубя лопаткой направо и налево, как нож в масло в немецкие порядки, сам того не заметив.
— За мной!..
Остановились штрафники. Дрогнули немцы, покатились, побежали.
— Давай за ними! — орёт капитан. — Бегом, маму вашу растуды в качель! Не давай им оторваться, а то вас со вторых траншей покосят.
— Подмогнёшь?! — кричит на ходу кто-то.
— Хрен вам в рыло… Дальше сами! Сами!
— Зачем тогда пришёл?
— Затем, что если бы я к вам не пришёл, они бы ко мне пришли. Один чёрт. Там бы я ни их, ни вас не остановил. Вы драпальщики известные, до Урала готовы бежать! Давай вперёд, искупай кровью вину! Я и так своих бойцов потерял…
Бегут штрафники, на пятки немцам наступая. С ходу вышибли первую линию обороны. И дальше пошли гнать, стреляя в спины, топча и добивая раненых и тех, что руки подняли. Без жалости, без сожаления. Потому что в атаке, когда схлестнулись лоб в лоб, человек становится зверем, хищником, загоняющим жертву. И тот, кто побежал, кто слабину дал, повернувшись к противнику спиной, тот обречён, он остановиться и огрызнуться уже не сможет. Если, конечно, нет у него в тылу заградотряда.
Позади кустами встали взрывы, накрывшие оставленные позиции. Всё! Хана капитану и бойцам его, сам подставился, думая в окопах отсидеться.
— Вперед!..
К вечеру штрафников отвели в тыл, посадив на их место стрелковую часть.
— Спасибо, — поблагодарил какой-то залётный генерал. — Добрую работу сделали. Искупили. Кровью искупили.
Своей. И чужой…
Ведь война — это кровь. Смерть. И злоба к врагу. К заградотряду, который вперёд погнал. И к себе самому тоже. Потому что надо убивать, чтобы жить. А кому-то умереть, чтобы выжил ты. И мелкая, подленькая радость, что это он, а не ты. А ты жив. Пока. Всё еще… Вопреки всему… Сегодня ты, а я — завтра.
— Держи, Кавторанг, погоны и ордена свои. Здесь распишись… Повезло тебе, искупил и жив остался. Твоих штрафников там две трети полегло, а у тебя ни царапинки. Не иначе, заговорённый ты…
А может, и так… Второй год Кавторанг воюет без продыху, с передка не выбираясь, и ничего — жив пока. А будет ли жив завтра — кто о том знает…
* * *
— Ты знал?
— Нет, — покачал головой Пётр Семёнович. — Самого, как обухом по затылку…
Может, так, а может, и не так. Может, юлит Пётр Семёнович. В чужую душу не заглянешь и ничего там не разглядишь, хотя даже с фонарём.
— Что теперь будет?
— Показательная порка.
— Догадываюсь…
Личный состав выстроили во внутреннем дворе. Все догадывались зачем. Перед строем поставили отказников. Чуть подальше вывели воров, которых с зон выдернули.
Вперёд вышел Партизан, перебрал какие-то бумаги, глянул исподлобья, скомандовал:
— Фролов… Ну, чего молчишь, отвечай, как положено.
— Я! Фролов!
— Добегался, сукин сын! Теперь слушай… — Партизан поднёс к глазам бумагу: — Твой отец, Илья Фомич, тысяча восемьсот девяносто третьего года рождения, старший брат Николай Ильич Фролов, средний брат Семен Ильич Фролов приговорены к высшей мере наказания по статье… Ходатайства о помиловании отклонены, приговор приведён в исполнение десятого двенадцатого. Вот соответствующий акт и приложенные к делу фотографии. Младший брат Алексей Ильич Фролов получил двадцать лет лагерей по пятьдесят восьмой статье с отбыванием в Особлаге. Фроловы — сестры Авдотья, Елена, Марфа и мать Зинаида Кузьминична лишены всех гражданских прав и отправлены в ссылку в Казахстан. Вся недвижимость и имущество изъяты в пользу государства. Дети, не достигшие десяти лет, определены в детские дома и колонии…
Стоят отказники, головы склонив. Из-за них гнезда родовые в прах рассыпались, по их вине отцы с братьями жизни лишились.
— Харитонов… Твой отец Харитонов Флор Игнатьевич… Братья… Сестры… Свояки…
Второй список.
И следующий…
Толпятся в сторонке воры, переглядываются настороженно. Такие, значит, здесь порядки. В сравнении с ними любая зона — дом родной. Понимают, что не пугают их, когда грозят в парашу окунуть, что слова здесь с делом не расходятся. Если тут своих не жалеют, то для них заступников точно не найдётся.
Зачитаны списки. Но не закончен расчёт.
— По порядку номеров…
— Первый… второй… третий…
— Каждый десятый — выйти из строя!
Шагнули бойцы вперёд, замерли. Лица бледные, губы сжаты. Проходили уже, знают…
— Следуя принципу круговой поруки, наказанию подлежит не только виновный, но и его подразделение. Не распознали врага, не остановили, значит, будете отвечать. За него.
Пауза. Длинная. Страшная.
— Объявляю приказ. У каждого десятого бойца будет взят под стражу и отправлен в лагерь отец, либо кто-то из братьев, либо за неимением таковых, сёстры или мать…
Лучше бы каждого десятого расстреляли, чем вот так…
Так ведь и без этого не обойдётся.
— Кроме того, из их числа двое будут подвергнуты высшей мере наказания. Кто именно — определит жребий. Так что пускайте, мужики, шапку по кругу.
С ненавистью смотрят бойцы на отступников, из-за которых их близкие пострадают, горюшко через край хлебнут, а кто-то и сам теперь жизни лишится.
— Кто готов привести приговор в исполнение — шаг вперёд!
Стоит строй, не шелохнувшись. В своих ведь стрелять придётся, с ними из одного котла хлебали, на койках рядом спали. Да и в чём их вина, не к врагу же они перебежали. Сталин, вон, после войны всех дезертиров помиловал и даже полицаев, на которых крови не было. А тут…
— Повторяю! Добровольцы, шаг вперёд!
Но никто, ни один, с места не сдвинулись.
Смотрит на них Пётр Семёнович, понимает, что хотя это и не открытый бунт, но тихий саботаж, который следует в зачатке подавить, пока он в открытое противостояние не перерос. Дашь сегодня слабину — завтра они солдатские комитеты начнут выбирать, командиров на штыки поднимать и по домам разбегаться. Не может армия без дисциплины, не могут они в их положении казацкую вольницу допустить. Подозвал командиров.
— Нужны какие-то разъяснения или всем всё ясно? Кавторанг?
— Как божий день. Если теперь над ними верх не взять, они на шею сядут и ножки свесят. Проходили, знаем. Молчаливое неповиновение командиру — тот же бунт.
— Тогда действуй, Кавторанг, у тебя авторитет и глотка лужёная. Не справишься — в их строй встанешь. Как на фронте.
Всё так. Командирский хлеб на войне тоже не без горчинки: пригонят тебе роту новобранцев, которых только что от титьки мамкиной военком оторвал, и прикажут высотку брать. Погонишь их матом, пинками и прикладами на пулемёты, а они на первой колючке сопли и кишки гирляндами развесят и в воронках, маму вспоминая, в комочки свернутся. Может, треть только живыми в окопы вернётся. И вроде нет твоей вины: первый бой, тут кто угодно в штаны наложит, но только кого это волнует. Был приказ, который не выполнен — иди-ка сюда, командир! Оружие на стол, погоны с плеч долой, и топай под военно-полевой суд, а после к стенке или в штрафбат. Потому что не справился, не смог, не взял высотку, с которой теперь фриц мины кидает и пулемётами стрижёт, уже других, новых бойцов, с грязью мешая. И вина в этом твоя!
Встал Кавторанг, ножки расставил, кулаки как гири висят, глаза кровью налиты. Чисто бычок.
— Значица так, бойцы, шуры-муры разводить с вами мне некогда, я вам не мамка — слюни с губ слизывать не стану и попки подтирать тоже. Если это бунт, то подходи по одному ответку держать. — Кавторанг поднял пудовый кулачище, которым запросто с одного удара консервы в лепёшку мял. — Ну, кто готов в открытую?
Молчат бойцы.
— Чего сопли жуёте? Нет героев лоб в лоб сойтись? Или вы языки друг дружке в жопу засунули? Герои, маму вашу за узду… Разнежились на простынях крахмальных, забыли службу. Дисциплина — основа армии…
— Мы не армия…
— Кто сказал? Иди сюда, чего за спинами прячешься?
Вышел боец.
— Повтори, что произнёс.
— Мы не армия, мы вообще непонятно кто и зачем.
— Не армия, говоришь? А кто, банда урок недорезанных? Ну, тогда давай как в банде, по их правилам.
И Кавторанг, слова больше не говоря, пнул бойца, не жалеючи, мыском ботинка между ног, и когда тот от боли и неожиданности согнулся, ударил снизу в скулу так, что тот как мячик метра на два отлетел, затылком в асфальт впечатался. Подскочил, насел сверху, глаза растопыренными пальцами надавил.
— Хотел, как блатные, не скули! У урок свой устав, можно и так.
Боец задёргался, замычал.
Командиры с испугу потянули из карманов оружие. Никто от Кавторанга такой прыти не ожидал.
— Ну что, как урки или как в армии?
— В армии, — прохрипел боец.
Кавторанг разжал пальцы.
— Тогда поднялся, оправился, утёрся и встал в строй. Еще у кого-нибудь вопросы имеются?
Ну какие тут вопросы, когда всё так наглядно и доходчиво.
— Равняйсь!.. Смирно!.. — рявкнул Кавторанг.
Строй подтянулся. Это важно, ломать личный состав через самые простые в исполнении команды. И не перегибать.
— В общем так, мужики, — уже вполне миролюбиво сказал Кавторанг. — Кто хочет как на зоне, тот пусть идёт вон туда, к ворам. Им шестёрки не помешают. После мы и вас, и их перекуём. А кто желает по уставу — милости прошу ко мне. Сахарной жизни не обещаю, но в петушарню никого загонять не буду. Честно служить станем, честно умирать. Середины не будет. В одной лодке мы плывём, и либо выгребем, либо все потонем, это я вам уже как моряк говорю. Такая наша судьба… А теперь слушай мою команду! Земляки или друзья предателей, два шага вперёд! Вы с ними хороводы водили, вам и приговор в исполнение приводить. При неподчинении новый расчёт на каждого десятого.
Из строя вытолкнули несколько бойцов.
— От вас тоже человечек, — обернулся Кавторанг к ворам. — Вам душу из человека вынимать не впервой.
— Зарезать — пожалуйста, а ваше оружие в руки брать не будем.
— Да вы что? — театрально удивился Кавторанг. — Тогда я объявлю приговорённым амнистию, если они вас тут, прилюдно оприходуют. Думаю, они против не будут. Ребята вы гладкие, упитанные, не каждая баба такими формами похвастаться может, вон какие ряхи и задницы наели.
— А ответку за беспредел держать, когда на зону вернёшься, не боишься?
— А я не вернусь. Нет мне туда ходу. И вам тоже. Нам, как на фронте, или в землицу, или до полной и окончательной победы. Впрочем, у вас альтернатива есть: в «гарем» вас всегда примут.
Воры аж зубами заскрипели. Потому что видели тогда и теперь… Кавторанг — не начлаг и даже не кум, с ним не столкуешься, на испуг не возьмёшь, и на ножичек не насадишь, он сам кого хочешь напугает и в бараний рог скрутит.
— Ну, кто добровольно-принудительно?
— Я. — Из толпы, расталкивая воров плечами, выдвинулся парень.
— Как звать?
— Меченый.
— А если без кликух, если как положено?
— Тогда заключённый Рюмин-Задунайский, звать Илья, батюшку Владимиром кликали.
— Дворянская кровь и бабушка фрейлина?
— Точно так. И бабушка, и дедушка в палаты белокаменные вхожи были, с государем-императором знались и ручку ему лобызали.
— Заливаешь, поди?
— А может, и так. Что вам имя моё, когда я сам здесь перед вами со всеми своими гнилыми потрохами?
— Ссучился, — зло прошипел кто-то сзади.
— Лучше ссучиться, чем зашквариться. — Парень посмотрел на Кавтаранга. — Бери меня в свою команду. Ребята вы здесь, как я погляжу, серьёзные, на фраеров не похожи, бодягу не разводите — один хрен, не мытьём, так катаньем доломаете. — Он рванул картинно на груди рубаху. — Эх, прощай жизнь моя вольная, воровская! Был я в законе, а нынче под закон, как под паровоз попал… Банкуй, начальник, твоя взяла, давай сюда свою волыну, правый суд вершить.
Кавторанг вынул из кобуры пистолет, передёрнул затвор, загнав один патрон в ствол, выщелкнул, сбросил обойму.
— Не здесь — в тире. Всем… Слушай мою команду!
А дальше обычным порядком — подвал без окон с единственной железной дверью, дальняя стена, зашитая досками, мишени в рост и… люди. Живые.
И уже в тире была поставлена последняя точка. Вернее, многоточие… Дерьмовое дело, но уже привычное.
Вечером сели командиры по зэковской привычке на корточки, папироску по кругу пустили, хотя у каждого в кармане свои были. Убитых не вспоминали. Что было, уже прошло, у зэков каждый божий день соседи по нарам вперёд ногами из барака съезжают, по всем не наплачешься.
— Лихо ты, Кавторанг, умеешь с личным составом воспитательные беседы вести, — похвалил Партизан. — У меня, грешным делом, тоже коленки задрожали от твоего рыка. Где так глотку драть научился?
— Жизнь научила. Я ведь разного народа на передке повидал, и начальники случались, и блатные, и школьники вчерашние. Всех под один знаменатель приходилось подводить, гражданскую дурь вышибать. Мне солдаты нужны были, бойцы, а не шваль подзаборная. Но там проще было — за мной армия стояла, Верховный главнокомандующий, страна. Дело наше правое…
— И трибунал.
— И он, как без него. А за нами кто?.. Меня тоже иногда сомнения берут. А сомнения только кулаком или пулей выбить можно. Хотя в армии не так жёстко стелили, там близких за чужие грехи не притягивали. Хотел было Жуков приказ протолкнуть, чтобы родственники за предателей и дезертиров вплоть до высшей меры отвечали, да Сталин не дал, спросил: кто у станков стоять будет, кто победу ковать? Мало было Жукову солдатской крови, к солдатским матерям и сёстрам потянулся, хорошо, что не получилось.
— Шлёпнул бы его? — спросил Крюк.
— С превеликим удовольствием, и не промахнулся бы. Видел я, как он воевал, позиции фрицев трупами заваливая. Сам по ним в атаку бегал, так что под ногами чавкало и сапоги вязли. Вдарит мина, ты весь в кишках, требухе и гнили, падаешь на трупы и зарываешься, чтобы осколком не зацепило. В три слоя солдатики друг на друге лежали, а он новых по ним на убой гнал, говорил: «Ничего, бабы еще нарожают». Нельзя так воевать, умом надо, а не кнутом.
— Так и у нас кнут.
— Нам иначе нельзя. Одна слабая душонка отыщется — всех за собой потянет. Я ведь понимаю: перешагнули мы черту, обратно хода нет. Из списков живых нас вычеркнули, а к мёртвым пока не причислили. Кабы не близкие, не отцы и матери… Так что придётся верой и правдой… А остальное не нашего ума дело: я за свой окопчик отвечаю, ты за свой. А тот, кто нами командует, он высоко сидит, отсюда не видать. Но если что, выход всегда найдётся.
— Какой?
— На худой конец пулю в висок, и все дела. С мертвеца какой спрос?
— Будет спрос, — покачал головой Абвер. — И с живого, и с мёртвого.
Собравшиеся посмотрели на Абвера.
— Не дураки нас сюда загнали, понимают, что любой захочет родных спасти, свою жизнь добровольно перечеркнув. Не оставили нам лазейки: пуля в лоб приравнивается к предательству со всеми вытекающими последствиями. Не принадлежат нам наши жизни.
— Откуда знаешь?
— Знаю. И вам до сведения довожу, а вы бойцам в головы вбить должны.
— Вот суки!
— Может быть. Только иначе такую свору в узде не удержать. И нас не удержать. Сытую жизнь в тёплой псарне отрабатывать надо.
— Это верно.
Курят командиры, думают. О чем?.. Наверное, о том, что увязли как мухи в паутине, и чем больше дёргаться, тем крепче прилипаешь. Так что сиди и не жужжи.
— А может, это и к лучшему? — вдруг сказал Крюк.
— Чем? Что нас круговой порукой повязали?
— Именно так. Урки в банды сбиваются и годами делишки свои гнусные вершат безнаказанно. Почему? Потому что кто в воровскую среду попал, тот назад не выскочит. Понятий воровских больше, чем законов. И не прокуроров они боятся, каждый за косяки свои не сроком, а жизнью отвечает. Ошибся — перо в бок, и весь разговор. Продался ментам, тренькнул лишнего, тебя из-под земли достанут, не теперь, так позже. Во все стороны малявы разошлют, сыщут и смерти предадут. Не спрятаться. Оттого и молчат они, когда барбосы их за язык клещами тянут.
— Ты, что ли, барбос?
— Я. Был. И барбосом, и уркой, и зэком, так что со всех сторон смог познакомиться. Блатные, они всегда друг друга прикроют, и на воле, и на зоне. Да вы сами видели: мужиков в лагере по десятку, а то и по сотне на одного урку приходится. Только они каждый сам за себя и оттого блатные всегда верх над ними держат. Позови политических на помощь — никто не встанет, за шкуру свою трясясь. А блатной так не сможет, на перо животом полезет, если вор прикажет, или его самого быстро в парашу макнут.
— Верно. Только к чему ты это всё говоришь?