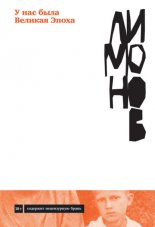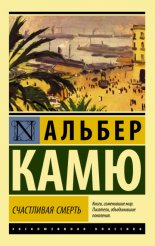Песнь Давида Хармон Эми

– Майки борется, – мальчик поднял голову с моей груди.
Я мог лишь кивнуть.
– Моисей борется.
В моем горле появился комок.
– Генри борется? – на сей раз это прозвучало больше как вопрос, нежели утверждение.
– Борешься, – прошептал я.
– Мой отец не боролся.
Он встретился со мной взглядом, и его глаза преисполнились мольбой, искренностью, решительностью и таким обожанием, что я не нашелся, что ответить. Сукин сын. Он меня убивал.
– Таг Таггерт лучший боец в мире, – продолжил Генри. – Лучший боец в мире.
Не знаю, как я мог подумать, что у Генри когда-либо были проблемы с коммуникацией.
– Мне нужно, чтобы ты остановился, Мо, – настаивал я, держась за дверную ручку.
Я сидел на заднем сиденье с Милли, а Генри занял пассажирское место рядом с Моисеем. Мы возвращались домой из Лас-Вегаса. Поездка не могла пройти хуже, даже если бы они привязали меня к крыше, как тетю Эдну в фильме «Каникулы». Я чувствовал себя в ловушке. Мне было некуда бежать. Я принимал препараты от приступов, и, как мне сообщили, «в штате Юта запрещено водить машину в течение трех месяцев после перенесенного приступа». В некоторых штатах, как Колорадо, вообще запрещали когда-либо садиться за руль. Они легализировали марихуану, но запрещали водить людям, как я. Бессмыслица какая-то.
Моисей встретился со мной взглядом в зеркале заднего вида. После нашей напряженной беседы в больнице на все мои реплики он отвечал хмыканьем или односложными словами, и его гнев и раздражение соперничали с моими собственными.
– Тормози! – рявкнул я. Либо он остановит машину, либо будет отмывать задние сиденья от моей рвоты.
Моисей резко вдавил педаль тормоза, съезжая на обочину, и из-под шин полетела галька и всякий мусор.
Я открыл дверь, вышел, сделал пару шагов и заблевал все правое заднее колесо Моисея. Надеюсь, теперь он доволен. Мне стоило догадаться, что так будет, – болеутоляющие всегда вызывали у меня тошноту. Я прислонился к машине, поскольку у меня кружилась голова, все тело бил озноб, и все это чертовски меня бесило. Я же крутой! Я работал до седьмого пота, чтобы стать таким. Я сильный! Но все, что я мог в тот момент, это качаться и цепляться за пикап, моля мир замереть, чтобы я не упал.
Мы были к северу от Сидар-Сити и к югу от городка под названием Бивер. Тут не было ничего, кроме бесконечного открытого пространства для созерцания. По бокам дороги росли холмистые поля с фиолетовыми цветами, а горы смотрели на них сверху вниз, как снисходительные родители. Все это выглядело так умиротворяюще и безобидно, что аж бесило. Все это ложь.
– Таг, тебе нужно в туалет? – крикнул Генри из машины. – Ему нужно в туалет, Амелия? Можно я тоже схожу?
Милли вышла и, вытянув перед собой руки, осторожно пошла вдоль пикапа, пока ее пальцы не коснулись моей спины. Я услышал, как Генри спросил у Моисея, можно ли ему тоже выйти, и Моисей попросил его обождать минутку. Я был ему признателен. Я люблю Генри, но не нуждался в зрителях. Тот факт, что Милли меня не видела, приносил мне облегчение. Она приносила мне облегчение.
Милли молча вручила мне бутылку воды, и я взял ее с благодарностью, а затем сполоснул рот и сплюнул пару раз. Мне стало лучше, и я сделал глубокий вдох, наполняя легкие, чтобы проверить, прошла ли тошнота.
– Лучше? – тихо спросила Милли.
– Да.
– Ты можешь прислониться ко мне. Положить голову мне на колени. Поездка пройдет легче, если ты уснешь.
Первые пару часов пути я сидел в напряжении, сохраняя дистанцию между нами. Милли не прикасалась ко мне, а я не тянулся к ней. Мы должны были столько всего сказать друг другу, но пока нам не выпадала такая возможность. Внутри меня боролись вина, недоумение и печаль, особенно в последние несколько дней. У меня был план – ужасный, дерьмовый, но все же план. Но он пошел коту под хвост, и теперь я не видел для себя дальнейшего пути.
Я вдруг осознал, что сказал последние слова вслух, и повернулся к Милли, чье поднятое лицо оказалось так близко, что я мог бы ее поцеловать. Мы не были так близки друг к другу с ночи перед краниотомией, с ночи, когда мы занялись любовью. Какой же я козел. Я занялся с Милли любовью, а затем сбежал. Меня пронзило чувство вины. Вины, сожаления и желания. И еще тошноты.
– Я не вижу дальнейшего пути, – повторил я, поворачиваясь к ней спиной. Мой живот крутило, голова кружилась, и я взмолился, чтобы все это прекратилось.
– Я тоже, – тихо произнесла Милли. – Но это меня не останавливало.
Я не мог ответить. Ничего не мог, кроме как дышать и собираться с силами, пока мой желудок не угомонился. В конце концов мы с Милли сели на задние сиденья, Генри ненадолго вышел, а затем мы поехали дальше.
Милли потянулась за моей рукой и, нащупав ее, потянула на себя, заставляя меня подвинуться ближе. Я мужчина крупный, а внутри было немного тесно, но она положила мою голову себе на колени и накинула куртку мне на плечи. Я прижал кулаки к глазам, как ребенок, сдерживая слезы беспомощности, которые рвались наружу. Так я и лежал, пока не заснул от успокаивающих поглаживаний Милли, которая простила меня даже несмотря на то, что я этого не заслуживал.
(Конец кассеты)
Я не знал, что делать с моими пассажирами, и не осмеливался везти их в Солт-Лейк-Сити. Квартира Тага и квартира над ним были выставлены на продажу, и перед поездкой в Вегас он подписал предварительный договор с покупателем. К тому же ему не стоило оставаться одному. Ему нездоровилось, и я подозревал, что он может вытворить что-нибудь глупое. Снова. Я мог бы отвезти Милли с Генри домой, а Тага заставить поехать со мной в Леван, но Милли бы этого не хотела. Я сомневался, что у них с Тагом была возможность поговорить, а они в этом нуждались. Таг должен был все исправить, если это вообще возможно. Я наблюдал за ними через зеркало заднего вида. Таг наконец-то сдался и позволил Милли обнять его. Она простит его, если уже этого не сделала, но я не знал, позволит ли он ей простить себя. Все это было неправильно. Я снова почувствовал, как внутри меня накапливается горе, но понятия не имел, что с ним делать.
Через неделю у Тага была назначена встреча с онкологом в Солт-Лейке. Я заставил его позвонить доктору Шумвею в моем присутствии и включить громкую связь. Медики из больницы Лас-Вегаса вкратце рассказали доктору о случившемся во время боя Тага, о кровоизлиянии и отеке, спровоцировавшем приступ, и о нынешнем состоянии пациента – на удивление хорошем, учитывая все обстоятельства. Судя по всему, обычно после краниотомии пациент отдыхает как минимум месяц, прежде чем приступить к курсу лечения – другими словами, к радиации и химиотерапии. Прошло три недели, так что, несмотря на побег, Таг успевал к началу лечения. Но доктор Шумвей проинформировал его, что, учитывая, от какой травмы он «пострадал», – доктор был очень дипломатичным, – вряд ли лечение начнется на следующей неделе.
Теперь Тагу потребуется больше времени на восстановление, и это раззадорило мой гнев еще больше. Я хотел избавиться от рака. Хотел, чтобы Таг побыстрее начал лечение. Его эта задержка никоим образом не расстроила. Он просто выглядел смирившимся. Мрачным. Неуверенным в себе. Таг смотрел на Милли с таким голодом и раскаянием, что мне было трудно на него злиться. Но я справлялся.
– Вы все поедете ко мне домой. По крайней мере, на несколько дней, – настоял я, придя к единственному решению из ситуации.
Мы приближались ко въезду в Леван и выезду из Миллса – выезду, который мог похвастаться только парочкой брошенных машин, отбившимися от стада коровами и искусственным водоемом, на который было жалко смотреть. Шоссе не затрагивало Леван, и попасть туда можно было через единственный выезд, находившийся в паре миль от города, если только не ехать через Нифай. Забавно, Леван был просто точкой на карте, крошечной песчинкой, но там находились Джорджия с Кэтлин, и я внезапно испытал невероятную тоску по городу, который однажды ненавидел.
Я поймал взгляд Тага в зеркале, но он не отвернулся, а продолжил пялиться. Затем поднял голову с колен Милли и занял сидячую позицию.
– Вы все поедете ко мне домой, – твердо повторил я.
Таг повернулся к Милли, но она уже кивнула.
– Ладно, – с легкостью согласилась она, и я наконец-то смог выдохнуть.
Генри единственный, кто улыбался.
– Вы знали, что среднестатистический жокей весит от сорока восьми до пятидесяти трех килограммов? – спросил он. Видимо, ему не терпелось снова прокатиться на лошади. – Но жокей должен быть сильным, – добавил мальчик. – Потому что среднестатистическая скаковая лошадь весит пятьсот пятьдесят килограммов и может бежать со скоростью шестьдесят пять километров в час.
Я вжал педаль газа и помчал домой, оставляя среднестатистическую скаковую лошадь среди клубов пыли.
Глава 22
Первые три дня в доме Моисея и Джорджии я не выходил из своей комнаты. Джорджия приносила еду, которая не лезла мне в горло, и большую часть времени я проводил во сне. Но на четвертый день мне уже не сиделось на месте, и я чувствовал себя досадно бодрым. К тому же я не мог вечно прятаться в комнате над студией Моисея. Хоть и хотелось. Генри выделили одноместную кровать в детской – Кэтлин по-прежнему спала в колыбели в комнате родителей, – а Милли заняла гостевую комнату на первом этаже. Дом был большим, уютным, и я любил его обитателей, но намеренно избегал их.
Тем утром Моисей демонстративно зашел в комнату с картиной Давида и Голиафа и поставил ее на мольберт рядом с моей кроватью. Затем кинул мне на колени огромную Библию и открыл на абзаце, подчеркнутом красным карандашом.
– Давид убивает великанов. А не великаны Давида, – рявкнул он. – Прочти ее.
И с этими словами он ушел.
Я взял книгу, оценивая ее вес в своей ладони, шелковистые на ощупь страницы. На обложке были вытеснены золотые буквы – Кэтлин Райт – прабабушка Моисея, в честь которой назвали его дочь. Судя по всему, Моисей читал ее Библию. Меня это удивило, но он явно потратил время, чтобы найти ту часть писания, которую хотел показать мне. Я вернулся к нужной странице и прочел подчеркнутый абзац.
Когда Филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу Филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи и поразил Филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид Филистимлянина пращою и камнем, и поразил Филистимлянина и убил его; меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на Филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его.
Моисей подчеркнул ту часть, где Давид побежал навстречу Голиафу. Пчелка-работяга, этот Давид. Похоже, он тоже наслаждался битвами. Я вздохнул и закрыл книгу. Не особо она меня вдохновила. Я понял, чего добивался Моисей, но в глубине души я испытывал сомнения и очень хотел бы, чтобы он просто меня выслушал. Моисей любил видеть, а не слушать, но мог бы и снизойти до этого хоть раз.
За моим окном раздавались голоса Генри и Джорджии. Окна выходили на круглый загон, в котором Джорджия неторопливо выгуливала Сакетта. Довольный Генри сидел у коня на спине и болтал без умолку, словно это его любимое занятие, а не то, с чем у него обычно возникают проблемы. Джорджия настоящий профессионал своего дела, и я восхищался этим маленьким чудом, – что Генри здесь и пользуется благами моей дружбы с Джорджией и Моисеем. Хоть один плюс. Я не все испортил. Все не так плохо.
Но в основном все было плохо. Включая мой запах. Мне нужно было как можно скорее принять душ. Вдобавок к кровати Моисей установил большую раковину и туалет над своим рабочим местом, но не душ. Ради него мне придется выйти из своей конуры, и откладывать это нельзя.
Проскользнув в дом через гараж, я остановился и прислушался. Наверху кто-то был – Моисей, судя по топоту, – но первый этаж пустовал. Гостевая ванная примыкала к комнате, в которой спала Милли, но ее кровать была аккуратно заправлена, а сама она куда-то ушла. Выдохнув с облегчением, я запер дверь ванной и начал мыться.
Но когда я вышел, Милли уже поджидала меня, чинно сидя на кровати и сложив руки на коленях.
– Хорошо пахнешь, Давид, – улыбнулась она, и эти слова натолкнули меня на воспоминание.
Милли протянула мне руку, как в вечер нашего знакомства, и ждала, пока я пожму ее.
– Привет. Я Амелия. И я слепая.
Я не мог ей отказать и, взяв ее руку, сказал свою реплику:
– Привет. Я Давид. И я не слепой.
Я не отпускал ее ладонь, а Милли не отстранялась. Я погладил пальцем ее шелковую кожу, не сводя глаз с наших рук. Господи, как же я ее люблю! Мне хотелось запереть дверь, толкнуть Милли на кровать и просто забыть обо всем. Хотя бы временно. Как же я этого хотел…
– Теперь, когда мы снова представились друг другу, возможно, ты согласишься со мной поговорить, – предложила она.
– Я не хочу говорить, Милли, – прошептал я.
Она наклонила голову вбок, услышав страсть в моем голосе. Оду. Чертову оду, которая по-прежнему звучала между нами, как песня на беспрерывном повторе.
Милли медленно встала и прижалась ко мне телом. Я почувствовал ее дыхание на своей шее, легкую трель мелодии, которую не мог выкинуть из своей головы, из своего сердца. Я поднял руку к ее лицу и приподнял его за подбородок, пока губы Милли не оказались в сантиметре от моих. А затем поцеловал ее. Легонько. Нежно. Отчаянно пытаясь не превратить нашу песнь в симфонию, оду с барабанной оркестровой аранжировкой.
Милли ответила тем же, но не попыталась увеличить темп. Наши губы соприкасались и сливались друг с другом, отдаляясь лишь для того, чтобы повторить все сначала. Когда я приоткрыл ее губы и вкусил влажную сладость ее рта, мне потребовались все силы, чтобы не застонать. А затем мы упали на кровать – ее бедра в моих руках, моя рубашка в ее кулаках, – и поцелуй достиг неминуемого, хоть и неожиданного, крещендо.
Тогда Милли меня оттолкнула.
– Давид, перестань, – прошептала она, когда я продолжил тянуться к ее губам.
Я прижался к ней лбом, чтобы обуздать себя, и подавил ругань от боли – кожа по-прежнему была еще слишком нежной. Милли взяла мое лицо в руки и провела по нему пальцами, словно пыталась прочесть мои эмоции.
– Нам не обязательно говорить. Но ты не можешь целовать меня, а потом снова уйти. Ты не можешь так поступать со мной, Давид.
В ее голосе слышалась сталь, хоть и обитая бархатом, и я понял, что она говорит серьезно.
– Вряд ли мой уход будет зависеть от меня, – сказал я, скатываясь с нее и пялясь в потолок.
– Ты знаешь, что я не это имела в виду, здоровяк.
Милли села и поджала под себя ноги, продолжая держать меня за руку, как всегда, когда мы находились близко друг к другу, – этот контакт был для нее важен. Да. Я знал, что она подразумевала. Я убрал себя из ее жизни. И Милли спрашивала, сделаю ли я это снова.
– Люди не выживают с такой болезнью, как у меня, – прошептал я.
Милли сразу же помотала головой в знак возражения. Это немного меня рассердило.
– Со стороны, наверное, это кажется романтичным. Ты будешь заботиться обо мне. Но в этом не будет ничего романтичного; это будет болезненно и безобразно. Я уже не буду тем мужчиной, в которого ты влюбилась. Я буду мужчиной, который борется со смертью и все равно умирает.
Милли напряглась, ее рука сжалась на моей рубашке. Хорошо. Значит, она прислушалась.
– Мне будет дерьмово, и из-за этого я буду постоянно злой, как черт. И тогда ты задумаешься: что ты делаешь? Я потеряю форму. Ты же любишь мои бугорки, помнишь? Я уже потерял волосы. Я не смогу быть сильным ради тебя или Генри. И когда ты пройдешь через этот ад и все потеряешь, я все равно умру! Я все равно умру, Милли, а ты останешься ни с чем. Без Давида, без Тага. Без моей песни. Только с горем, – констатировал я без всяких эмоций. Но Милли была готова.
– Некоторые люди стоят того, чтобы из-за них страдали. Я сильная. Я готова к этому. Вместо того чтобы жалеть меня из-за испытаний, которые подкинула мне жизнь, радуйся, что я сильная. Я справлюсь. Я с тобой. Не лишай меня этого, Давид.
– Я не хочу проводить наши последние дни вместе в виде овоща. Не хочу, чтобы ты кормила меня с ложечки и держала мою руку! Не хочу забывать твое имя. Не хочу, чтобы ты смотрела, как я страдаю!
– Но я и не буду. Преимущество слепой девушки, – парировала она, но в ее голос просочилась злость. – Мне вовсе не придется смотреть, как ты страдаешь, не так ли?
Я выругался и встал, стряхивая ее руку. Мне не хотелось с ней спорить. Я направился к двери. Теперь я понимал, почему Милли предпочитала всюду ходить пешком. Если ты куда-то идешь, значит, ты не заперт в ловушке. А я чувствовал себя именно так.
– Когда ты уже поверишь, что достоин любви? – с нарочитым спокойствием крикнула она мне вслед, но ее голос дрожал от едва сдерживаемой ярости.
Я замер и снова повернулся к ней. Милли пыталась пойти за мной, и я не сомневался, что, если я выйду из дома, она возьмет свою трость и мне придется играть в Марко Поло на улицах Левана, чтобы она не потерялась. Мне было необходимо, чтобы Милли меня отпустила, но она явно не собиралась этого делать.
– Милли…
– Нет! – рявкнула она. – Ты считаешь, что недостоин любви, потому что ты уже не Таг, «сексуальный парень»! – Милли насмешливо показала кавычки, вспоминая наш разговор, когда она играла мои аккорды. – Ты считаешь, что недостоин любви, потому что ты болен. Ты считаешь, что недостоин любви, потому что не можешь быть сильным все время! Будто, если ты не можешь заботиться обо мне двадцать четыре часа в сутки, значит, ты недостоин любви.
– Дело не в этом! – возразил я, качая головой и все отрицая.
– В этом, черт побери! – закричала Милли, топая ногой.
Она подошла к декоративному туалетному столику, на котором в идеальном порядке стояли ее вещи, и, в редком проявлении своего темперамента, смела все на пол. Косметику, фен, стопку белья – все это полетело в разные стороны.
– Милли, прекрати, черт возьми! Ты же навредишь себе, солнце!
– НЕТ! – крикнула она. – Дело не во мне! Если я хочу раскидать вещи, то сделаю это. Я не инвалид! Я не принцесса! Я взрослая женщина и могу закатить истерику, если у меня подходящее для этого настроение! – Она яростно покачала пальцем передо мной. – И я не жду, что ты уберешь за мной, когда я закончу!
Я не знал, что на это ответить, поэтому просто молча наблюдал, как она теряет самообладание. Из-за меня.
– Ты знаешь, что, потеряв зрение, я долгое время чувствовала себя виноватой? За то, что причинила боль своим родителям. Затем папа ушел из семьи, и мое чувство вины увеличилось в десять раз. Я винила себя, что маме пришлось изменить всю свою жизнь, чтобы подстроиться под мою слепоту. Генри был еще ребенком, к тому же со своими проблемами. А я сделала все еще хуже! Из-за меня наша семья разрушилась! Так я говорила себе долгое, долгое время.
Я в точности знал, каково это – страдать от чувства вины. Оно снедало меня, когда исчезла Молли. Пожирало живьем. Да и сейчас меня мучило. Но Милли не ждала, что я поддержу разговор. Ее трясло от злости, и я рассудительно решил помолчать.
– Не знаю, в какой момент все изменилось. Может, из-за гимнастики. Может, из-за музыки и танцев. Может, из-за того, что мама заболела, и в кои веки она зависела от меня. И я справилась, Давид. Я справилась! Я была сильной и достойной любви. Всегда! Просто я этого не понимала. – Милли выразительно ударила себя в грудь и повторила: – Я достойна любви. Даже слепая.
В моем горле возник такой большой комок, что я тихо застонал, пытаясь сделать вдох. Незрячие глаза Милли наполнились слезами, которые скользнули по ее щекам. Она нетерпеливо смахнула их.
– И все равно, я бы никогда не просила тебя полюбить меня, Давид. Я просила о поцелуе, потому что очень его хотела. Но о любви просить бы не стала. Моя гордость бы не позволила. Мое самоуважение не потерпело бы такого. Но ты сам подарил мне свою любовь. Сам ее предложил. Ты все равно в меня влюбился! И я достойна этой любви, – повторила она, вновь повышая голос.
– Так и есть.
Мое сердце подскочило к горлу, и я подошел ближе к Милли. Услышав мои шаги, она отошла и выставила руку, не давая мне приблизиться.
– Нет. Пока нет, – твердо сказала она, но кричать перестала. – Я понимаю это чувство, Давид, правда. Но любовь не может быть односторонней. Не может один человек только отдавать, а другой – только брать. Если ты действительно любишь меня, то должен доверять мне.
Я никому не доверял так, как ей, даже Моисею.
– Я доверяю тебе, Милли.
– Нет, не доверяешь. И не считаешь, что ты достоин любви.
Я не мог дышать. Не мог пошевелиться. Только слушать.
– Ты думаешь, что недостоин моей любви, потому что не можешь быть все время сильным, – твердо повторила она. – И не думаешь, что я достаточно сильная, чтобы поддержать тебя, когда ты выбьешься из сил. Ты мне не доверяешь.
– Это не имеет никакого отношения к моей вере в тебя. Я знаю, кто ты, Милли. – Я с трудом подбирал слова для выражения своих чувств, чтобы она поверила в искренность моих слов. – Я знаю, что ты позаботишься обо мне. Ты предлагаешь мне поверить в чудо, но оно уже случилось. Ты – мое чудо! Тот факт, что мы встретились, что я нашел любовь своей жизни. Это чудо, Милли! Я безумно признателен за это. Мало кому везет так, как мне. Но мы встретились. Это чудо, которое мне удалось не проморгать. И это чудо, что ты ответила мне взаимностью.
Ее лицо сморщилось, и она наконец-то потянулась ко мне. Я тут же подошел, но Милли уперлась руками в мою грудь, прямо у сердца, и не дала мне обнять ее. Она провела по моим плечам и спустилась к ладоням. Затем взяла одну в свои руки и подняла к губам. Ласково, нежно поцеловала меня в центр ладони, словно могла одним поцелуем облегчить нашу боль. Дальше Милли прижала ее к своей щеке и на секунду замерла в таком положении, словно черпала у меня силу, несмотря на ее предыдущие слова. Милли опустила мою руку по своей шее, мимо утонченных ключиц, и прижала к груди.
– Большинство людей думает, что в мире нет ничего интимнее секса, – тихо произнесла она.
Я вздрогнул от понимания, что она моя, что я прикасаюсь к ней там, куда больше никто не прикасался. Но я не сгибал пальцы, не поглаживал ее и не тянулся свободной рукой, чтобы взять ее за вторую грудь. Я просто ждал, чувствуя биение ее сердца кончиками пальцев, и Милли наградила меня, продолжив:
– Я думала, что, когда я займусь с тобой любовью, когда позволю тебе увидеть меня целиком и сама познаю каждую скрытую часть тебя, когда мы произнесем эту клятву нашими телами и губами… я думала, это будет самым интимным поступком в нашей жизни.
– Милли? – прошептал я.
Я не знал, к чему она ведет, но в ее словах слышалась грусть, словно она приняла окончательное решение насчет меня, насчет нас.
– Но это не так. Секс не самое интимное, что может происходить между возлюбленными. Даже если он прекрасен. Даже если он идеален, – Милли сделала глубокий вдох, словно вспомнила, насколько идеально это было. – Самое интимное, что мы можем сделать, это позволить любимым увидеть нас в худшие времена. Когда мы на самом дне. Когда мы слабее всего. Люди становятся по-настоящему близкими, когда все не идеально. И я не уверена, что ты готов к такой близости со мной, Давид.
Она замолчала, позволяя своим словам звонко раскатиться по воздуху, и я легонько сжал ее грудь, разминая ее, нуждаясь в ней. Но я не знал, как дать Милли то, чего она хочет. У нее перехватило дыхание, и она уткнулась в мою грудь, словно ее боль боролась с удовольствием.
– Я не знаю как, – признался я и убрал руку, чтобы случайно не навредить ей в моем раздраженном состоянии.
Милли быстро вернула мою руку на место, на сей раз прижимая ее к сердцу.
– Я расскажу тебе как. Держись за меня. Доверяй мне. Используй меня. Полагайся на меня. Обопрись на меня. Позволь мне оберегать тебя. Позволь мне любить тебя. Целиком. С раком и всеми твоими страхами. В болезни и в здравии. В горе и в радости. Целиком. И я отвечу тем же.
– Я не знаю, смогу ли я победить его, Милли, – выдавил я и внезапно заплакал.
Сначала я обрадовался, что Милли меня не видит, но затем она подняла ладони к моим щекам и почувствовала слезы. Я напрягся, но не отстранился. Она встала на цыпочки и притянула мое лицо к себе, прижимаясь к нему дрожащими губами, чтобы утешить, успокоить, признать мой страх. Не просто страх, а мой глубочайший страх. Я не знал, смогу ли я победить в этой борьбе. Скорее всего, нет. Я почувствовал на языке слезы Милли, а она наверняка почувствовала мои. И затем сказала в сантиметре от моих губ:
– Ты не обязан победить его, Давид. Просто позволь нам бороться вместе с тобой.
Я обнял ее и крепко прижал на секунду, не находя в себе сил на ответ. Вновь обретя голос, я все равно не выпустил ее из своих объятий.
– Сдаваться запрещено, – прошептал я.
– Как и винить себя, – тихо ответила Милли.
– Амелия значит «трудолюбивая».
Не знаю, почему мне вдруг это вспомнилось. Пока она держала меня, я думал о том, до чего же она сильная.
– Верно, – Милли трепетно улыбнулась. – Так что, ты согласен немного потрудиться ради меня?
Глава 23
Я услышал какой-то грохот внизу и настороженно замер, чувствуя легкую злость. Кэтлин недавно уснула, и я очень не хотел, чтобы ее будили. У нее начали расти зубы, из-за чего она стала раздражительной и более чем несчастной. Затем я услышал Милли – она говорила на повышенных тонах и даже показалась мне сердитой, – и я прислушался. До меня донесся басовитый голос Тага и крик еще более рассерженной Милли. Я подошел к вершине лестницы и уловил обрывки ее фраз. Она говорила на одном дыхании и изливала все накопившиеся эмоции. Затем дверь в спальню закрылась, и голоса притихли. Я начал спускаться, впервые за неделю чувствуя проблеск надежды. Не знаю, как она это сделала, но Милли удалось заманить Тага в комнату. Все наконец-то близилось к развязке.
Генри ворвался в дом с именем Милли на устах, и я спрыгнул с оставшихся ступенек, чтобы перехватить его:
– Генри, стой!
Мальчик подскочил и обернулся, удивившись истошности моего голоса. Я никому не позволю прервать то, что происходит за той дверью.
– Не заходи туда. Милли с Тагом. Нам нужно дать им побыть вдвоем какое-то время.
Генри перевел взгляд с меня на закрытую дверь и медленно кивнул. Я достал нам из холодильника холодную колу, закинул руку ему на плечи и повел мальчика на улицу. Мы сели на веранде, закинув ноги на перила, и наблюдали за Джорджией, попивая свои напитки. Я любил наблюдать за Джорджией в процессе работы.
– Аксель никогда не катался на лошади, – заметил Генри, явно вспоминая прошлый вечер, когда Аксель с Майки подогнали пикап Тага, поскольку не знали, где его припарковать в Солт-Лейке, когда все в таком подвешенном состоянии.
– Ага. Ты показал ему, как это делается?
Я знал, что Генри немного покрасовался перед ними, но хотел дать ему возможность поговорить об этом. Таг не спустился, чтобы встретить друзей. Чудо, что он вообще согласился поговорить с Милли.
– Да. Я учусь у него, а он у меня, – кивнул Генри. – Я – часть команды.
Пришла моя очередь кивать. Таг собрал вокруг себя удивительных людей. И круче всего в них было то, как они относились к Генри.
– В команде нет «я», – внезапно произнес мальчик серьезным голосом, словно повторяя то, что слышал в школе или в зале.
– Нет.
– В «Команде Тага» тоже нет «я», – добавил он.
– Нет.
– А мы – «Команда Тага»?
Я начал было объяснять, что такое «Команда Тага», – бренд, бойцы, зал, – но затем остановился.
– Да. Мы «Команда Тага».
– Потому что мы любим его?
– Да.
У меня снова сдавило горло от эмоций. Как же я устал от них. Но Генри умел подкрасться исподтишка со своими очевидными фактами и рассказать их так, чтобы они казались очень глубокими. В Вегасе Милли, как могла, объяснила ему состояние Тага, и после этого он попросил меня сводить его в парикмахерскую, чтобы его тоже остригли. Честно говоря, я не знал, почему ему пришла в голову эта идея. Я просто решил, что он сделал Тага своим кумиром. Но Милли была поражена, когда узнала о его решении. Судя по всему, оно далось мальчику нелегко. Теперь я понял, что таким образом Генри хотел оказать Тагу моральную поддержку, показать, что он – часть команды.
Я наблюдал, как Джорджия перепрыгивает через забор и идет к нам, радуясь, что у меня тоже есть ее моральная поддержка.
– В Амелии есть «я», – просто сказал Генри, словно это сводило на нет весь спор о «я» в команде.
Я громко хохотнул от облегчения, и Генри поднял голову, глядя на меня с любопытством.
– Приятель, ты так хорошо справлялся! Я думал, что ты хочешь меня вдохновить, – фыркнул я, по-прежнему хохоча. Это было приятно.
– В Генри нет «я», – тоскливо произнес он.
– И в Моисее, – добавил я, никак не переставая смеяться. – Мы с тобой самоотверженные.
– В Джорджии есть «я», – продолжил Генри, когда она присоединилась к нам на веранде.
– Ага, мне ли не знать. Только о себе и думает! – пошутил я, потянув Джорджию за руку, чтобы она подошла ближе. Она обняла меня за шею и ласково поцеловала в губы.
– Где Милли? – спросила она, игнорируя мой подкол.
– С Тагом, – ответил Генри. – И мы даем им побыть вдвоем.
Джорджия перевела на меня взгляд и вскинула брови.
– Да? – спросила она с надеждой.
– Ага. И Милли с ним не нежничала, – тихо добавил я. Но Генри все равно услышал.
– Пугливых бойцов не бывает, – повторил он, как попугай. – Так говорит Таг. И еще он говорит, что Амелия борется каждый чертов день.
– И хвала Господу за это! – сказала Джорджия, напомнив мне мою прабабушку Кэтлин. Они обе были девушками из леванской глубинки, которые много лет жили по соседству. Так что, наверное, это не удивительно.
– Аминь, – согласился я.
– Мухаммед Амели, – пошутила Джорджия. – Порхает как бабочка…
– Жалит как пчела, – закончили мы с Генри.
– Пойду загляну к Кэтлин, – сказала Джорджия, уходя от нас.
Я знал, что она будет подслушивать в гостиной, но не стал выводить ее на чистую воду, надеясь, что она потом доложит о ситуации. Генри тоже встал и пошел к загону, чтобы пообщаться с Сакеттом, который побежал навстречу, чтобы поприветствовать его.
Боковым зрением я увидел какое-то пульсирующее мерцание, как над черной поверхностью в жаркий день. Моя шея нагрелась, но, вместо того чтобы воспротивиться, я поднял стены, из любопытства отвечая на зов. На этот раз это была не Молли.
Я узнал ее, хоть и видел до этого всего раз. Она показала мне кружево. Просто развевающееся кружево. А затем исчезла. Но я все понял, и впервые с того дня, как Таг пропал, тиски на моем сердце немного ослабли.
Я поменял комнату, отсиживаясь в разных частях дома моего лучшего друга. Но на этот раз я не прятался. Я восстанавливался. Надеялся. Может, в этом все дело. Я просто позволил себе надеяться.
Никто не стучался. Никто не приносил еду и не просовывал записки под дверью. Даже Генри. Мы с Милли знали, что о нем позаботятся, поэтому с чистой совестью заперлись вдвоем в комнате.
Снаружи стемнело, и на небе показались звезды. Милли их не видела, но я рассказал ей, что они ярко светят за большим эркерным окном гостевой комнаты. Рассказал ей, как в детстве спал под этими звездами на батуте на заднем дворике нашего дома в Далласе. Рассказал ей, как спустя десять лет мы с Моисеем лежали под ними в лодке, плывущей по реке Нил в Африке. Я взглянул на это безграничное небо, и меня вновь охватило это знакомое чувство. То же чувство, что и в детве. Я не казался себе незначительным под этими звездами. Я чувствовал себя гигантом, будто небеса вращались вокруг меня. Я был больше, чем звезды. Больше и ярче, и весь мир принадлежал мне. Я был таким огромным, что мог полностью затмить звезду большим пальцем, закрыть часть неба одной ладонью. Какая сила. Какое величие. Тогда я был не Давидом, а Голиафом.
И пока я лежал с Милли, глядя на мигающие звезды над крошечным городком, который никогда не был мне домом, меня вновь охватило это чувство. Я не незначительный. Я не несущественный. Мне хотелось исчезнуть, но лишь для того, чтобы рак исчез вместе со мной. Но звезды нашептывали, что это невозможно. Люди не могут исчезнуть. Мы меняемся. Уходим. Движемся дальше. Но никогда не исчезаем. Даже когда думаем, что хотим этого.
Милли не смеялась. Не дразнила меня из-за замашек Бога. Она просто слушала, пока я водил пальцами по гладкой коже ее спины, обводил изгиб талии, линию ноги, закинутой на меня. А затем я положил руку на ее поясницу и прижал к себе, и Милли ахнула, произнося мое имя. И я снова почувствовал себя Богом.
Не знаю, который был час, когда мы наконец решили поговорить. Мы долго спали и проснулись с урчащими животами и сухостью во рту. Но мы все равно не вышли из комнаты, а просто пошли в ванную и попили воду из-под крана, чтобы утолить жажду. Затем Милли прижалась ко мне своими влажными и холодными губами, капли с ее подбородка стекли мне на грудь, и все началось сначала. Где-то перед рассветом я попытался встать, выбираясь из объятий моей спящей красавицы, но она проснулась и, запаниковав, резко села и протянула ко мне руки.
Ее страх вызвал у меня грусть, потому что я сам поселил его в ней.
– Тише, Милли. Я никуда не ухожу, обещаю. Я сейчас вернусь, – прошептал я, целуя ее в лоб и приглаживая волосы. – Ложись обратно. Клянусь, я больше никогда от тебя не уйду. По крайней мере, специально. Больше никогда.
Милли кивнула и снова легла на подушку, но, когда я вернулся через пару минут, ее глаза были открыты, словно она ждала, прислушиваясь. Ее тело было полностью спрятано под одеялом, одна рука подпирала голову.
– Куда ты ходил? – спросила она.
– Твой могучий охотник добыл нам мясо. И хлеб. И сыр, – басовито произнес я, изображая пещерного человека.
– И «Миракл Уип»[19]? – перебила она.
– Фу, мерзость.
– Ты знаешь, что я его люблю.
– И «Миракл Уип», – кивнул я, вручая ей тарелку с тостом, политым соусом, как она любит.
Пока Милли ела свой бутерброд, я слопал три и открыл банку содовой, на секунду прислушиваясь к шипению пузырьков – одному из любимых звуков Милли.
Когда мы доели, я вернулся на кухню и поставил тарелки в раковину, спрятал продукты в холодильник и скрутил упаковку от тостов. В эту секунду я заметил ключи от своего пикапа на столе и задумался на минуту. Подхватив их, я вышел из дома, открыл машину и вернулся обратно меньше чем за минуту, радуясь, что внутри было по-прежнему тихо и Милли не пошла за мной следом.
Она одновременно чистила зубы и расчесывалась, надев мою футболку, и выглядела как мое прекрасное спасение, даже в темноте. Я сел на кровать и зачарованно наблюдал за ней, но она услышала мои шаги даже сквозь шум воды из крана. Она знала, что я вернулся.
Милли запрыгнула на кровать и умостилась, а я уже хотел было снять с нее мою футболку и скинуть с себя джинсы, но некоторые беседы требовали одежды, и эта – как раз одна из них. Я подполз к Милли сзади и обнял ее, прижимая к своей груди. Затем прошептал ей в волосы:
– Милли, ты выйдешь за меня?
– Что? – ахнула она.
– Ты выйдешь за меня и позволишь мне стать братом Генри? Я хочу, чтобы ты стала частью «Команды Тага».
Я пародировал предложение Генри, стараясь быть милым, но мое сердце подскакивало к горлу, а ладони, сжимавшие футболку, вспотели. Хорошо, что я ее не снял.
– По статистике, спортсмены, у которых есть семьи, более выносливые, более целеустремленные и в целом более работоспособны, чем неженатые спортсмены.
Я повторил за Генри почти слово в слово, но Милли молчала, и я не видел ее лица.
– Я собирался сделать тебе предложение еще месяц назад и купил кольцо. Оно по-прежнему лежало в бардачке моей машины, – спешно объяснил я. Теперь оно было в кармане моих джинсов и дожидалось, когда Милли мне ответит.
– Знаю. Ты уже говорил, – прошептала она.
– На кассетах? – спросил я, вспоминая.
– Да.
– Если бы ничего этого не произошло и я бы сделал тебе предложение две недели назад, до всего этого бардака, что бы ты ответила? – спросил я с раздувающимся сердцем в груди.