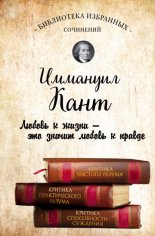Женщины Цезаря Маккалоу Колин
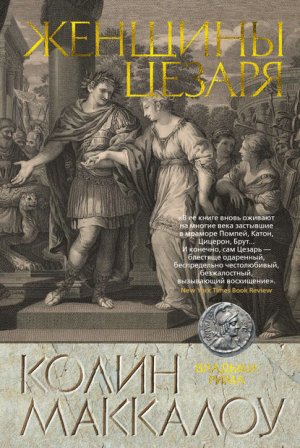
– Конечно нет! – возразил раздраженно Цицерон. Метелл Сципион и впрямь был туповат. – Я согласен с Бибулом: в данный момент народ недоволен. Поэтому мы не можем позволить, чтобы апелляцию Рабирия рассматривали немедленно. Единственный способ помешать этому – аннулировать lex regia de perduellionis царя Тулла Гостилия. Поэтому сегодня утром я созову сенат и предложу издать указ, предписывающий трибутным комициям аннулировать этот закон. Это не займет много времени, о чем я позабочусь. Затем я сразу же созову трибутные комиции. – Цицерон закрыл глаза, вздрогнул. – Но боюсь, что я вынужден буду воспользоваться senatus consultum ultimum, чтобы обойти закон Дидия. Мы не можем ждать семнадцать дней, необходимых для ратификации. Не можем мы позволить и contiones.
Бибул нахмурился:
– Я не претендую на такое отменное знание законов, как ты, Цицерон, но, безусловно, действие senatus consultum ultimum не распространяется на трибутные комиции. Если только трибутные комиции не созваны в связи с Катилиной. Мы, конечно, знаем, что суд над Рабирием – это все из-за Катилины, но единственные из голосующих в комициях, кому тоже все известно, – это сенаторы, а их будет недостаточно, чтобы добиться перевеса во время голосования.
– Senatus consultum ultimum действует так же, как диктатор, – твердо сказал Цицерон. – Он заменяет все обычные функции комиций и государства.
– Плебейские трибуны наложат вето, – сказал Бибул.
– В период действия senatus consultum ultimum вето недействительно.
– Что ты хочешь этим сказать, Марк Туллий? Что я не могу наложить вето? – спросил Публий Сервилий Рулл спустя три часа в трибутном собрании.
– Уважаемый Публий Сервилий, в Риме сейчас введен senatus consultum ultimum, а это значит, что действие вето трибуната временно приостанавливается, – сказал Цицерон.
Собралось очень мало народа, поскольку многие завсегдатаи Форума предпочли пойти на Марсово поле – посмотреть, что два Цезаря делают с Гаем Рабирием. Но те, кто остался в пределах померия, чтобы полюбоваться, как Цицерон справится с атакой Цезаря, были не только сенаторы и приверженцы фракции Катула. Вероятно, более половины собравшихся – человек семьсот – принадлежали к противной стороне. И среди них, как заметил Цицерон, стояли Марк Антоний со своими братьями, молодой Попликола, Децим Брут и не кто иной, как Публий Клодий, занятый болтовней с любым, кто готов его слушать. И всюду они сеяли беспокойство, мрачные взгляды, ворчание.
– Погоди, Цицерон, – сказал Рулл, отбросив формальности, – при чем тут senatus consultum ultimum? Да, существует такой декрет, но он имеет отношение только к восстанию в Этрурии и к деятельности Катилины. Он не влияет на обычные функции трибутных комиций! Мы здесь собрались, чтобы рассмотреть законопроект, предусматривающий аннулирование lex regia de perduellionis царя Тулла Гостилия, а это не имеет никакого отношения ни к восстанию в Этрурии, ни к Катилине! Сначала ты говоришь нам, что хочешь воспользоваться твоим senatus consultum ultimum, чтобы изменить обычную процедуру собрания! Ты хочешь отказаться от contiones, ты намерен обойти закон Дидия. А теперь ты заявляешь нам, что законно избранные плебейские трибуны не могут воспользоваться своим правом вето!
– Именно, – сказал Цицерон, вздернув подбородок.
Со дна комиция ростра казалась внушительным сооружением, возвышавшимся почти на десять футов над уровнем Форума. Ростра была достаточно большой, чтобы на ней могли уместиться человек сорок. Этим утром там стояли Цицерон и его двенадцать ликторов, а также городской претор Метелл Целер и шесть его ликторов, преторы Отон и Косконий с двенадцатью ликторами и три плебейских трибуна – Рулл, Ампий и еще один из фракции Катула, Луций Цецилий Руф.
Дул холодный ветер. Этим, наверное, объяснялся тот факт, что Цицерон, закутанный в складки своей тоги с пурпурной полосой, выглядел совсем маленьким. Хотя он считался величайшим оратором в Риме, ростра не соответствовала его стилю – так, как отвечали ему куда более уютные подмостки сената или суда, и он, к несчастью, вполне сознавал это. Цветистая, откровенная, почти фиглярская манера Гортензия подходила к ростре куда больше. Цицерон не смог бы довести свое выступление до Гортензиевых масштабов. Он чувствовал бы себя неудобно. К тому же не было времени, чтобы блеснуть красноречием. Ему оставалось лишь продолжать сражение.
– Praetor urbanus, – крикнул Рулл Метеллу Целеру, – ты согласен с тем толкованием, которое старший консул дает действующему сейчас senatus consultum ultimum, относящемуся к восстанию в Этрурии и заговору в Риме?
– Нет, трибун, я не согласен, – убежденно ответил Целер.
– Почему?
– Я не согласен ни с чем, что препятствует плебейскому трибуну осуществлять свои права, данные ему народом Рима!
Когда Целер произнес это, сторонники Цезаря стали громко выражать свое одобрение.
– Значит, – продолжил Рулл, – ты считаешь, что senatus consultum ultimum, действующий в данный момент, не может запретить трибуну воспользоваться правом вето на этом собрании нынешним утром?
– Да, я так считаю! – крикнул Целер.
Поскольку волнение в толпе нарастало, Отон подошел ближе к Руллу и Метеллу Целеру.
– Марк Цицерон прав! – громко провозгласил он. – Марк Цицерон – величайший юрист наших дней!
– Марк Цицерон – говно! – ответил ему кто-то.
– Диктатор Говно! – завопил новый голос. – Диктатор Говно!
– Цицерон – говно! Цицерон – говно! Цицерон – говно!
– Тихо! Я призываю вас к порядку! – заорал Цицерон, начиная бояться толпы.
– Цицерон – говно, Цицерон – говно! Диктатор Говно!
– Тихо! Тихо!
– Порядок будет восстановлен, – ответил Рулл громогласно, – когда плебейским трибунам разрешат осуществлять свои права без вмешательства старшего консула! – Он прошел к краю ростры и посмотрел вниз, в колодец. – Квириты, я предлагаю издать указ, предписывающий исследовать природу senatus consultum ultimum, которым наш старший консул так удачно пользуется последние несколько дней! Из-за этого senatus consultum ultimum умерли люди! Теперь нам говорят, что из-за него плебейские трибуны не могут использовать свое право вето! Нам говорят, что плебейские трибуны – опять ничто, как во времена Суллы и его законов! Неужели сегодняшняя катастрофа – это прелюдия еще к одному Сулле в лице этого краснобая, который пытается навязать нам свой всесильный senatus consultum ultimum? Он размахивает им, как волшебной палочкой! Фьють! – и любые препятствия исчезают! Введи senatus consultum ultimum – и можешь заковать в цепи и заставить молчать людей, которых ты не приговорил к смерти! Лишить римлян права собираться в своих трибах, чтобы проводить законы или накладывать на них вето! Совсем запретить судебные процессы! Пять человек умерли без суда, еще одного человека сейчас судят на Марсовом поле, а наш Диктатор Говно, наш старший консул, использует свой гнилой senatus consultum ultimum, чтобы извратить правосудие и всех нас сделать рабами! Мы правим миром, но Диктатор Говно хочет править нами! Я имею право вето, которое мне дали римляне, но Диктатор Говно заявляет, что у меня нет такого права! – Он резко повернулся к Цицерону, зло глядя на него. – Что еще ты приготовил для нас, Диктатор Говно? Меня отправят в Туллианскую тюрьму и свернут мне там шею без суда? Без суда, без суда, без суда, БЕЗ СУДА!
Кто-то в комиции подхватил эти слова, и потрясенный Цицерон увидел, что даже фракция Катула присоединилась к кричавшим.
– Без суда!
Эти слова настигали его снова, снова и снова…
Но насилия не было. Вспыльчивые Гай Пизон и Агенобарб давно бы уже ввязались в драку, но вместо этого они стояли ошеломленные. Квинт Лутаций Катул в ужасе смотрел на них и на Бибула, осознав наконец, какого масштаба достиг протест против казни заговорщиков. Не понимая, что делает, он протянул правую руку к Цицерону на ростре, как бы приказывая ему замолчать, отступить.
Цицерон так быстро шагнул вперед, что чуть не упал. Он протянул вперед руки ладонями вниз, призывая к тишине. Когда шум утих настолько, что его могли услышать, старший консул облизнул губы и сглотнул.
– Praetor urbanus! – громко крикнул он. – Я согласен с тем, что ты главный в толковании законов! Пусть будет принято твое мнение! Senatus consultum ultimum не влияет на право вето плебейского трибуна в деле, не имеющем ничего общего с восстанием в Этрурии и с заговором в Риме!
Пока он, Цицерон, жив, он не перестанет бороться. Но в этот момент Цицерон понял, что проиграл. Онемевший и беспомощный, Цицерон принял предложение, которое Цезарь велел выдвинуть Руллу. Он не знал, почему дальше все пошло так легко. Рулл даже согласился с отменой предварительных обсуждений и семнадцатидневного периода ожидания, согласно lex Caecilia Didia. Но неужели эти идиоты в толпе не понимают, что если senatus consultum ultimum не распространяется на право вето, то не может он также отменить ни contiones, ни семнадцатидневного периода ожидания? О да, конечно, во всем происходящем заметна рука Цезаря – зачем же иначе Цезарю потребовалось быть судьей на слушании апелляции Рабирия? Но чего именно добивается Цезарь?
– Не все против тебя, Марк, – сказал Аттик, когда они шли по улице Альта-Семита к великолепному дому Аттика, расположенному на самом верху Квиринала.
– Но слишком многие против, – печально сказал Цицерон. – О Тит, мы ведь должны были избавиться от тех несчастных заговорщиков!
– Я знаю.
Аттик остановился. Огромное пространство ничем не занятой земли открывало замечательный вид на Марсово поле, изгиб Тибра, Ватиканскую долину и холм за ней.
– Если суд над Рабирием все еще идет, мы увидим его отсюда.
Но покрытое травой поле у септы уже опустело. Какой бы ни оказалась судьба Рабирия, она была решена.
– Кого ты послал послушать обоих Цезарей? – спросил Аттик.
– Моего раба Тирона. В тоге.
– Рискованно для Тирона.
– Да, но я ему доверяю. Он даст мне всеобъемлющий отчет. Я не могу сказать так о ком-нибудь еще, кроме тебя. Ты нужен мне был в трибутных комициях. – Цицерон хмыкнул – в его смешке звучала боль. – Трибутные комиции! Какой фарс!
– Ты должен признать, что Цезарь умен.
– Признаю! Но зачем ты мне говоришь это сейчас, Тит?
– Его условие: наказание в центуриях будет изменено. Вместо казни – ссылка и штраф. Теперь, когда им не придется смотреть, как Рабирия выпорют и обезглавят, я думаю, центурии проголосуют за его осуждение.
Теперь остановился Цицерон:
– Они этого не сделают!
– Сделают. Суд, Марк, суд! Люди вне стен сената не обладают настоящим политическим чутьем. Они понимают политику, когда она влияет на их шкурные интересы. Поэтому они не имеют понятия, насколько опасно было бы для Рима судить заговорщиков на Форуме. Зато соображают другое: когда казнят римлян – пусть даже признавшихся предателей! – без суда и права на апелляцию, это угрожает им лично.
– Мои действия спасли Рим! Я спас свое отечество!
– И многие согласны с тобой, Марк, поверь мне. Подожди, пока страсти улягутся, и ты увидишь. А в данный момент эти страсти работают на настоящих мастеров, от Цезаря до Публия Клодия.
– Публия Клодия?
– Да, да, именно так. Он набирает себе сторонников, разве ты не знал? Конечно, он специализируется на привлечении низкого сословия, но он также пользуется некоторым влиянием и у среднего класса, – сказал Аттик.
– Но он даже еще не в сенате!
– Через двенадцать месяцев он там будет.
– Должно быть, помогут деньги Фульвии.
– Так оно и есть.
– Почему ты так много знаешь о Публии Клодии? Через твою дружбу с Клодией? И кстати, почему ты дружишь с Клодией?
– Клодия – одна из тех женщин, которых я называю профессиональными недотрогами. При виде мужчины они неровно дышат, дрожат, надувают губки. Но как только мужчина попытается посягнуть на их добродетель, они с криком убегают к дураку-мужу. Поэтому они предпочитают общаться с мужчинами, которые не представляют опасности для их целомудрия. Например, гомосексуалистами вроде меня.
Цицерон судорожно сглотнул, тщетно стараясь не покраснеть. Он не знал, куда девать глаза. Впервые он слышал от Аттика это слово. Впервые Аттик признал, что это относится к нему.
– Не смущайся, Марк, – засмеялся Аттик. – Сегодня необычный день, вот и все. Забудь, что я сказал.
Теренция не была многословной. И все слова, которые она использовала в своей краткой речи, были исключительно из тех, что дозволены женщинам, занимающим ее положение.
– Ты спас отечество, – резко заключила она.
– Нет, пока мы не победим Катилину.
– Как ты можешь думать, что вы не победите Катилину?
– Ну, мои армии определенно сейчас не в форме! Гибрида только и думает что о своей подагре. Рекс очень удобно устроился в Умбрии. Одни боги знают, что сейчас делает в Апулии Метелл Критский, а Метелл Целер подкладывает дрова в костер Цезаря здесь, в Риме.
– К новому году все закончится. Подожди и увидишь.
Больше всего Цицерону хотелось сейчас уткнуться в грудь жены и плакать, пока от слез не заболят глаза. Но он понимал, что ему не позволят этого. Поэтому он прикусил дрожащую губу и глубоко вдохнул, боясь взглянуть на Теренцию, чтобы она не заметила подозрительного блеска его глаз и не высказалась по этому поводу.
– Тирон уже сообщил тебе о случившемся в септе? – спросила она.
– Да. Оба Цезаря вынесли Рабирию смертный приговор, продемонстрировав при этом фанатичную приверженность интересам своей узкой фракции, самую постыдную в истории Рима. Лабиену позволили выступить с обличительной речью. Он даже притащил туда актеров в масках Сатурнина и его дяди Квинта. Оба выглядели похожими скорее на девственных весталок, нежели на предателей, каковыми они являлись. И еще с ним были два сына дяди Квинта. Обоим за сорок, а они плакали, как малые дети, потому что, видите ли, Гай Рабирий лишил их tata! Аудитория громко выражала им симпатию и бросала цветы. Ничего удивительного! Блестящее представление! Оба Цезаря предложили скандировать: «Иди, ликтор, свяжи ему руки! Иди, ликтор, привяжи его к столбу и выпори его! Иди, ликтор, распни его на несчастливом дереве!»
– Но Рабирий подал апелляцию.
– Конечно.
– И завтра утром ее будут рассматривать в центуриях. Согласно правилам Главции, как я слышала. Но состоится только одно слушание из-за отсутствия свидетельских показаний. – Теренция фыркнула. – Если отсутствие свидетелей само по себе не может сказать присяжным, что обвинение – сплошная чушь, то я вообще теряю веру в римское благоразумие!
– А я уже потерял в него веру, – криво улыбнулся Цицерон, вставая и чувствуя себя очень старым. – Если ты извинишь меня, дорогая, я не буду есть. Я не голоден. Уже скоро солнце зайдет. Лучше я пойду и увижусь с Гаем Рабирием. Я буду его защищать.
– Вместе с Гортензием?
– И с Луцием Коттой, надеюсь. Он хорош для затравки и особенно хорошо работает с Гортензием.
– Ты, конечно, будешь выступать последним.
– Естественно. Часа полтора должно быть достаточно. Если Луций Котта и Гортензий согласятся взять себе меньше часа.
Но когда Цицерон явился к приговоренному в его роскошный, похожий на крепость дом, он обнаружил, что у Гая Рабирия были другие планы организации своей защиты.
Пережитый день состарил беднягу еще больше. Он весь трясся и моргал слезящимися глазами, усаживая Цицерона в удобное кресло в большом, великолепном атрии. Старший консул оглядывался по сторонам, точно деревенщина, впервые попавший в Рим. Сможет ли он позволить себе такое убранство в своем новом доме, когда найдет денег, чтобы купить его? Комната словно просила, чтобы ее скопировали в консульской резиденции. Чуть поубавить помпезности – и все. Потолок в доме Рабирия был покрыт золотыми звездами, усыпанными драгоценными камнями. Стены украшены золочеными панелями. Колонны тоже покрыты золотом, и даже вытянутый неглубокий имплювий выложен золотыми пластинами.
– Нравится мой атрий? – спросил Гай Рабирий, похожий на ящерицу.
– Очень, – признал Цицерон.
– Видишь ли, я не устраиваю приемов.
– Это достойно сожаления. Хотя я понимаю, почему ты живешь в крепости.
– Гости – напрасная трата денег. Я храню свое состояние на стенах. Это надежнее, чем в банке, – если живешь в крепости.
– А рабы не пытаются снять немного золота?
– Только если хотят угодить на крест.
– Да, это их останавливает.
Старик сжал руками львиные головы на концах подлокотников своего позолоченного кресла.
– Я люблю золото, – проговорил он. – Очень приятный цвет.
– Да.
– Значит, ты хочешь меня защищать?
– Да, хочу.
– И сколько ты будешь мне стоить?
У Цицерона чуть было не сорвалось с языка: «Лист золота размером десять на десять было бы неплохо», но он лишь улыбнулся в ответ:
– Я считаю твое дело таким важным для будущего Республики, Гай Рабирий, что намерен защищать тебя бесплатно.
– Стало быть, так.
И это – вся благодарность за бесплатную помощь величайшего адвоката Рима! Цицерон проглотил и это.
– Как все мои коллеги-сенаторы, Гай Рабирий, я знаком с тобой много лет, но я многого о тебе не знаю, – он прокашлялся, – кроме… э… э… того, что можно назвать слухами. Мне нужно задать тебе несколько вопросов, чтобы подготовить мою речь.
– Никаких ответов не будет, так что прибереги силы. Сочини сам.
– Основываясь на слухах?
– Ты имеешь в виду мое участие в делах Оппианика в Ларине? Ты защищал Клуенция.
– Но я не упомянул тебя, Гай Рабирий.
– И хорошо сделал. Оппианик умер задолго до суда над Клуенцием. Как можно было узнать, что происходило на самом деле? Ты очень хорошо сплел кружева лжи, Цицерон, вот почему я не против, чтобы ты защищал меня. Нет-нет, совсем не против! Тебе удалось внушить присяжным, что Оппианик убил больше своих родственников, чем, по слухам, сделал Катилина. И все это совершалось им ради наживы! Однако у Оппианика не было золотых стен в доме. Интересно, да?
– Не знаю, – тихо сказал Цицерон. – Я никогда не был в его доме.
– Я владею половиной Апулии. Я – безжалостный человек. Но я не заслуживаю ссылки за поступок, который Сулла заставил совершить меня и еще пятьдесят других парней. По крыше курии Гостилия плавала и более важная рыба, чем я. Много имен. Таких как Сервилий Цепион и Цецилий Метелл. Большинство сидящих на передней скамье были там.
– Да, я понимаю.
– Ты хочешь выступить последним, перед голосованием присяжных?
– Я всегда так делаю. Думаю, первым будет Луций Котта, потом – Квинт Гортензий, а третьим – я.
Но старик возмутился.
– Только трое? – ахнул он. – О нет! Хочешь захватить всю славу себе, да? У меня будет семь защитников. Семерка – мое счастливое число.
– Судьей при рассмотрении твоей апелляции, – медленно и четко произнес Цицерон, – назначен Гай Цезарь, и согласно правилам Главции состоится только одно слушание. Ни один свидетель не изъявил желания дать показания, так что нет смысла проводить два слушания. Так говорит Гай Цезарь. Цезарь дает два часа на обвинение и три часа на защиту. Но если должны будут выступить семь защитников, каждый из нас успеет только разговориться, когда уже придется заканчивать!
– Чем меньше у тебя времени, тем острее должен быть твой язык, – твердо сказал Гай Рабирий. – В этом беда всех вас. Мне нравится слушать ораторов. Но две трети слов, которые вы произносите, лучше не произносить вообще. Это касается и тебя, Марк Цицерон. Болтовня, болтовня.
«Я хочу уйти отсюда! – подумал Цицерон. – Хочу плюнуть ему в глаза и сказать ему: ступай, найми себе Аполлона. И зачем я подкинул подобную идею Цезарю, приведя в качестве примера неподсудности эту ужасную старую дырку в заднице?»
– Гай Рабирий, пожалуйста, измени свое решение!
– Не изменю. Ни за что! Я хочу, чтобы меня защищали Луций Лукцей, младший Курион, Эмилий Павел, Публий Клодий, Луций Котта, Квинт Гортензий и ты. Соглашайся или не соглашайся, Марк Цицерон, но будет так. Семерка – мое счастливое число. Все говорят, что я проиграю, но я знаю, что не проиграю, если в команде моих защитников будет семь человек. – Старик хрюкнул. – Даже лучше, если каждый из вас будет говорить только одну седьмую часа! Хе-хе!
Цицерон встал и молча ушел.
Но семерка действительно была счастливым числом Рабирия. Цезарь был идеальным судьей, он очень добросовестно проследил за тем, чтобы защита отвечала всем требованиям Главции. У них было три часа. Лукцей и молодой Курион благородно отдали часть своего времени, чтобы Цицерон и Гортензий имели по полчаса. Но в первый день слушание началось поздно и рано закончилось, так что Гортензию и Цицерону пришлось завершить защиту Гая Рабирия в девятый день этого ужасного декабря, последний день службы Тита Лабиена плебейским трибуном.
Собрания в центуриях зависели от погоды, потому что там не было крытого помещения, чтобы защитить квиритов от палящего солнца, дождя или сильного ветра. Переносить пекло было намного хуже, но в нынешнем декабре – хотя в действительности стояло лето – погода была сносная. Решение о переносе собрания обычно принимал председательствующий магистрат. Некоторые настаивали на проведении выборов (судебные процессы в центуриях были очень редки), какой бы дождь ни лил. Наверное, поэтому Сулла перенес выборы с более дождливого ноября на традиционно сухой квинтилий, в самый разгар лета.
Оба дня слушания апелляции Гая Рабирия оказались идеальными: чистое солнечное небо, легкий прохладный ветерок. Это должно было расположить жюри – четыре тысячи человек – к милосердию. У подателя апелляции был такой жалкий вид! Он стоял, кутаясь в тогу и дрожа, – замечательная имитация параличного дрожания. Руки, как когти, вцепились в ликтора, приставленного к нему для поддержки. Но настроение жюри было ясно с самого начала, и Гай Лабиен отличился – выступил в качестве обвинителя один и справился за два часа, в заключение продемонстрировав актеров в масках Сатурнина и Квинта Лабиена. Два его кузена громко проплакали весь процесс. В толпе слышались голоса, которые нашептывали первому и второму классам, что их право на суд находится под угрозой, что осуждение Рабирия научит чересчур активных деятелей вроде Цицерона и Катона впредь поступать осмотрительно. Осуждение Рабирия напомнит сенату, что он имеет право только распоряжаться финансами, улаживать споры и заниматься внешнеполитическими вопросами.
Защита очень старалась, но быстро поняла, что присяжные не хотят даже слушать – не говоря уже о том, чтобы плакать от жалости, глядя на маленького старого Гая Рабирия, ухватившегося за свою опору. Когда на второй день слушание началось вовремя, Гортензий и Цицерон знали: чтобы Гая Рабирия оправдали, им необходимо быть на пике. К сожалению, ни одному из них это не удалось. Подагра, бич многих любителей вволю поесть и выпить, не оставляла Гортензия. Кроме того, он вынужден был заканчивать свое путешествие из Мизены со скоростью, которая очень не нравилась большому пальцу его ноги. Свои полчаса он говорил, не сходя с места и тяжело опираясь на палку, что совсем не способствовало красноречию. После этого Цицерон выступил с самой неудачной речью в своей карьере. Он был сильно ограничен во времени и к тому же сознавал: сейчас ему необходимо защитить собственную репутацию, так что Рабирий отошел на второй план.
Таким образом, до окончания дня оставалось еще немало времени, когда Цезарь объявил жеребьевку, какая из младших центурий в первом классе получит прерогативу голосовать первой. Только тридцать одна сельская триба могла участвовать в жеребьевке. Та триба, которая вытягивала жребий, голосовала первой. Затем все приостанавливалось. Ждали, пока сосчитают голоса этой первой проголосовавшей центурии и объявят результат ожидавшему собранию. Обыкновенно этот результат влиял на общее настроение. Поэтому многое зависело от того, какой трибе достанется жребий и каков будет результат. Если это окажется Корнелия, триба Цицерона, или Папирия, триба Катона, – жди неприятностей.
– Clustumina iuniorum!
«Триба Помпея Великого – хороший знак», – подумал Цезарь, покидая трибунал и направляясь в септу, чтобы занять место у правых мостков, по которым голосующие будут подходить к корзинам и опускать туда свои покрытые воском деревянные таблички.
Прозванная «овчарней», потому что напоминала загон для овец, септа представляла собой лабиринт проходов, отделенных перегородками, которые можно было передвигать для нужд данного собрания. Центурии всегда голосовали в септе. Иногда и трибы проводили там свои выборы – если председательствующий магистрат чувствовал, что в колодце комиция нужное количество голосующих не поместится, но не хотел использовать для этого храм Кастора.
«Вот здесь решается моя судьба, – спокойно подумал Цезарь, подходя к странного вида сооружению. – В итоге приговор будет таким, какой вынесет Клустумина. Я чувствую это нутром. LIBERO – оправдание, DAMNO – обвинение. DAMNO! Должно быть DAMNO!»
В этот важный момент он заметил Красса, с озабоченным видом прохаживавшегося у входа. Хорошо! Если бы это не волновало обычно пассивного Красса, тогда все пропало бы. Но он нервничал, явно нервничал.
– Когда-нибудь, – сказал Красс подошедшему Цезарю, – какой-нибудь деревенский пастух с краской в руке подойдет ко мне, поставит на мою тогу ярко-красное пятно и скажет мне, что я не могу проголосовать второй раз, если попытаюсь. Они метят овец, так почему не пометить римлян?
– И вот об этом ты сейчас думал?
Красс еле заметно поморщился в знак удивления:
– Да. Но потом я подумал, что метки на римлянах – это не по-римски.
– Ты прав, – сказал Цезарь, отчаянно стараясь не засмеяться, – хотя это могло бы помешать трибам проголосовать несколько раз, особенно этим городским мошенникам из Эсквилины и Субураны.
– А какая разница? – спросил Красс. – Овцы, Цезарь, овцы. Голосующие – это овцы. Бя-а-а!
Цезарь бросился внутрь, давясь от смеха. Это отучит его верить, что люди – даже такие близкие друзья, как Красс, – относятся к этой процедуре серьезно!
Приговор был – DAMNO. Попарно центурии прошли по коридорам, по двум мосткам, чтобы опустить свои таблички с буквой «D». Помощником Цезаря по контролю за голосованием был его custos Метелл Целер. Когда оба они были уверены, что окончательный вердикт действительно окажется DAMNO, Целер поставил вместо себя Коскония и ушел.
Последовало долгое ожидание. Неужели Целер забыл о зеркале? Или солнце зашло за облако? Или его сообщник на Яникуле заснул? Давай, Целер, скорее!
– Тревога! Тревога! Неприятель! Тревога! Тревога! Неприятель! Тревога! Тревога!
Как раз вовремя!
Так закончился судебный процесс и рассмотрение апелляции старого Гая Рабирия. В жутком смятении голосующие ринулись искать спасения за Сервиевой стеной, чтобы там вооружиться, распределиться по воинским центуриям и отправиться на сборные пункты.
Но Катилина с армией так и не пришел.
Если Цицерон не торопился, идя на Палатин, то у него были веские причины для этого. Гортензий ушел, как только закончил свою речь. Его, стонущего, унесли в паланкине. Менее богатый и родовитый, Цицерон не мог себе позволить такую роскошь, как паланкин. С неподвижным лицом он ждал времени голосования своей центурии, сжимая в руке табличку с буквой «L» – LIBERO. В этот ужасный день не так уж много оказалось голосующих с табличкой, на которой стояла буква «L»! Даже собственную центурию он не смог убедить голосовать за оправдание. Теперь Цицерон знал мнение людей первого класса: тридцать семь лет – не такой уж большой срок, чтобы можно было оправдать человека за совершенное некогда убийство.
Боевой клич показался ему чудом, хотя, как и все другие, он почти ожидал, что Катилина обойдет армии, выставленные против него, и налетит на Рим. Несмотря на это, Цицерон не торопился. Смерть внезапно показалась ему предпочтительнее той судьбы, которую, как он теперь понимал, уготовил ему Цезарь. Когда-нибудь – когда Цезарь или какой-нибудь плебейский трибун сочтет, что время пришло, – Марк Туллий Цицерон будет стоять там, где стоял сегодня Гай Рабирий, и его обвинят в измене. Самое большее, на что он мог надеяться, – что его обвинят в maiestas, а не в perduellio. Ссылка и конфискация имущества, вычеркивание его имени из списка граждан Рима. Его сын и дочь будут опозорены. Цицерон проиграл больше чем битву. Он проиграл войну. Он – Карбон, а не Сулла.
«Но, – сказал себе Цицерон, когда наконец поднялся по бесконечным ступеням на Палатин, – я не должен мириться с этим. Я не должен позволить Цезарю или кому-нибудь еще считать меня сломленным человеком. Я спас отечество. И я буду утверждать это, пока не умру! Жизнь продолжается. Я буду вести себя так, словно ничто мне не угрожает. Даже думать об этом не стану».
Итак, на следующий день Цицерон весело приветствовал Катула на Форуме. Они пришли туда послушать первое выступление новых плебейских трибунов.
– Благодарю всех богов за Целера! – произнес он, улыбаясь.
– Интересно, – проговорил Катул, – Целер спустил красный флаг по собственной инициативе или Цезарь приказал ему сделать это?
– Цезарь приказал? – тупо переспросил Цицерон.
– Соображай, Цицерон! Соображай! В намерения Цезаря вовсе не входило предавать Рабирия казни. Это испортило бы сладкую победу. – Катул, осунувшийся и усталый, выглядел больным и старым. – Я боюсь! Цезарь – как Улисс, его жизненная энергия так сильна, что поражает всех, кого касается. Я теряю auctoritas. И когда совсем лишусь его, мне останется только умереть.
– Ерунда! – воскликнул Цицерон, стараясь подбодрить союзника.
– Не ерунда, а неприятный факт. Ты знаешь, я думаю, что мог бы простить этого человека, если бы он не был так уверен в себе. Если бы только Цезарь не был таким надменным, таким невыносимо самонадеянным! Мой отец был Цезарь, и я вижу некоторые его черты в этом Цезаре. Но только слабые отголоски. – Катул поежился. – Этот намного умнее, и у него нет сдерживающих начал. Он вообще без тормозов. И я боюсь.
– Жаль, что сегодня не будет Катона, – сказал Цицерон, чтобы сменить тему. – Метеллу Непоту не с кем будет соревноваться на ростре. Странно, как братья Метеллы вдруг начали поддерживать популистские идеи.
– В этом вини Помпея Магна, – презрительно отозвался Катул.
Поскольку Цицерон симпатизировал Помпею с тех самых пор, как они вместе служили у его отца Помпея Страбона в Италийской войне, он мог бы выступить в защиту отсутствующего победителя. Но вместо этого он вдруг ахнул:
– Смотри!
Катул обернулся и увидел, как Марк Порций Катон идет по открытому пространству между Курциевым озером и колодцем комиция. И под тогой у него была туника. Присутствующие уставились на Катона, разинув рты. И вовсе не потому, что он впервые надел тунику. От самого лба до основания шеи, с обеих сторон лица видны были длинные малиновые полосы, морщинистые и сочившиеся.
– Юпитер! – взвизгнул Цицерон.
– О-о, как я его люблю! – воскликнул Катул и почти побежал ему навстречу. – Катон, Катон, зачем ты пришел?
– Потому что я – плебейский трибун, а сегодня первый день моего срока, – ответил Катон своим обычным громким голосом.
– Но твое лицо! – возразил Цицерон.
– Лица залечиваются, а неправильные действия – никогда. Если меня не будет на ростре, чтобы сразиться с Непотом, он переступит все границы.
И под аплодисменты Катон поднялся на ростру и занял свое место среди остальных девяти членов трибуната, чтобы вступить в должность. Он не обращал внимания на приветственные возгласы. Он во все глаза смотрел на Метелла Непота. Человек Помпея. Подлец!
Поскольку плебейских трибунов выбирал не весь народ Рима, а только плебеи и поскольку эти трибуны служили интересам плебеев, плебейское собрание было не столь официальным, как трибутные или центуриатные комиции. Поэтому собрание началось и закончилось краткой церемонией – без ауспиций и чтения молитв. Эти опущения значительно добавили плебейскому собранию популярности. У всех было хорошее настроение. Никаких скучных литаний, никаких болтунов-авгуров, которых приходится терпеть.
Народу пришло много. С прежними плебейскими трибунами простились довольно мило. Лабиену и Руллу достались все лавры. После этого началось само собрание.
Первым взял слово Метелл Непот, что никого не удивило. Катон решил быть оппонентом. Тема выступления Непота была злободневной – казнь граждан без суда; речь – великолепной. Оратор переходил от иронии к метафоре, потом к гиперболе.
– Поэтому я предлагаю провести плебисцит, такой мягкий, милосердный и ненавязчивый, что, вероятно, все присутствующие согласятся со мной и сделают мое предложение законом! – сказал Непот в заключение длинной речи, которая заставляла аудиторию то плакать, то смеяться, а порой и задуматься. – Никаких смертных приговоров, никаких ссылок, никаких штрафов. Коллеги, все, что я предлагаю, – чтобы любого, кто казнит римских граждан без суда, навсегда лишать права выступать на публике! Разве это не справедливо? Разящий голос умолкает навсегда, у безъязыкого нет больше власти над массами! Вы согласны со мной? Вы согласны заткнуть рты чудовищам, одержимым манией величия?
Марк Антоний руководил аплодисментами, которые, как лавина, обрушились на Цицерона и Катула. Только голос Катона смог перекрыть их.
– Я налагаю вето! – выкрикнул он.
– Чтобы защитить собственную шею! – презрительно сказал Непот, когда рев стих и все могли слышать, что последует. Он посмотрел на Катона сверху вниз нарочито удивленно. – Да от нее, кажется, немного и осталось, Катон! Что случилось? Ты забыл заплатить шлюхе или это ей пришлось приплатить тебе, чтобы у тебя что-то шевельнулось пониже пупка?
– Как ты можешь называть себя аристократом, Цецилий Метелл? – спросил Катон. – Ступай домой, Непот, ступай домой и прополощи хорошенько свой рот! Почему на священном собрании римлян мы должны слушать отвратительные инсинуации?
– А почему мы должны подчиняться сомнительному сенаторскому декрету, дающему кое-кому право казнить людей, которые намного больше римляне, чем сами палачи? Я никогда не слышал, чтобы прабабка Лентула Суры была рабой или что у отца Гая Цетега свиной помет за ушами!
– Я отказываюсь состязаться с тобой в вульгарности, Непот! Ты можешь заниматься пустословием и кричать тут хоть до следующего декабря, пока не охрипнешь, – это ничего не изменит! – орал Катон. Полосы на его лице стали темно-красными. – Я налагаю вето на твое предложение, и что бы ты ни говорил, это ничего не изменит!
– Конечно, ты налагаешь вето! Если бы ты не сделал этого, Катон, ты никогда больше не выступил бы перед публикой. Ведь именно ты уговорил сенаторов Рима стать варварами! Неудивительно! Говорят, твоя прабабка была необразованной дикаркой. Вполне подходящая пара для глупого старика из Тускула! Для старика, которому следовало оставаться в Тускуле и чесать за ухом у своих свиней, а не ехать в Рим и чесать там за ухом у своей красотки!
«Ну, если это не спровоцирует сейчас драку, – думал Непот, – то ничто на земле не сможет вызвать ее! На его месте я бы уже дрался на кинжалах, врукопашную. Плебеи глотают оскорбления, как собаки блевотину, а это значит, что я побеждаю. Ударь меня, Катон, ну, дай мне в глаз!»
Катон не сделал ни того ни другого. С героизмом стоика – и только он один знал, каких усилий это потребовало, – он повернулся и отошел вглубь ростры. На миг толпе захотелось выразить неодобрение при виде столь трусливого поступка, но Агенобарб опередил Марка Антония и начал неистово аплодировать этой великолепной демонстрации самоконтроля и презрения.
Луций Кальпурний Бестия спас победу Непота, начав очень остроумную атаку на Цицерона и его senatus consultum ultimum. Плебеи были в восторге, и собрание прошло энергично и очень оживленно.
Когда Непот решил, что аудитория уже пресытилась казнью римских граждан, он сменил тему.
– Кстати, о некоем Луции Сергии Катилине, – начал он дружеским тоном. – От меня не ускользнул тот факт, что на военном фронте абсолютно ничего не произошло. Катилина и его так называемые противники рассеяны по Этрурии, Апулии и Пицену, отделенные друг от друга многими ласкающими приятно-безопасными милями. А кого же имеем мы? – спросил он, подняв правую руку с растопыренными пальцами. – Мы имеем Гибриду и его больной палец. – Он загнул один палец руки. – У нас еще есть Мелок Метелл из козлиной ветви. – Еще один загнутый палец. – Да, есть царь, Рекс, доблестный противник… кого? Кого? О, никак не могу вспомнить!
Остались незагнутыми большой палец и мизинец. Но выступающий не стал дальше перечислять и всей ладонью хлопнул себя по лбу:
– О-о, как я мог забыть моего собственного брата? Предполагалось, что он будет там, но он приехал в Рим, чтобы принять участие в акте справедливости! Думаю, мне надо простить его, озорника.
Эта реплика заставила выйти вперед Квинта Минуция Терма.
– К чему ты клонишь, Непот? – спросил он. – Какая беда случилась на этот раз?
– Беда? – Непот театрально отпрянул. – Терм, Терм, пожалуйста, не разводи костер под своей задницей, чтобы не закипеть! С таким именем тебе лучше подходит что-нибудь тепленькое, дорогой мой! – щебетал он, хлопая ресницами под общий хохот плебеев. – Нет, мой сладкий, я просто хотел напомнить нашим замечательным плебеям, присутствующим здесь, что у нас есть армии, чтобы сразиться с Катилиной – когда они отыщут его. Север нашего полуострова – большая территория, там легко можно заблудиться. Особенно учитывая утренний туман в верховьях Тибра. Трудно даже найти место, чтобы опорожнить свои порфирные ночные горшки!
– У тебя есть какие-нибудь предложения? – грозно спросил Терм. Он героически старался подражать Катону, но Непот стал посылать ему воздушные поцелуи, и толпа захохотала.
– У меня есть предложение! – весело ответил Непот. – Я вот тут стоял и смотрел на лицо Катона – pipinna, pipinna! – и перед моими глазами вдруг мелькнуло другое лицо. Нет, уважаемый, не твое! Вон, видишь, там? Вон тот отважный человек, на цоколе, четвертый от края, среди бюстов консулов? Красивое лицо, по-моему! Такие светлые волосы, такие красивые голубые глаза! Не такие огромные, как у тебя, конечно, но все равно неплохие.
Непот поднес ладони рупором ко рту и крикнул:
– Эй, там, гражданин! Да, ты, в заднем ряду, как раз около бюстов консулов! Ты можешь прочитать имя? Да, правильно, этот, с золотыми волосами и голубыми глазами! Кто это? Помпей? Который Помпей? Ты сказал Manus? Magus? O-o, Magnus! Спасибо, квирит, спасибо! Его имя – Помпей Магн!
Терм сжал кулаки.
– Не смей! – зло крикнул он.
– Чего не сметь? – невинно спросил Непот. – Хотя признаю, что Помпей Магн смеет все. Разве найдутся ему равные в сражении? Думаю, нет. И сейчас он в Сирии, закончив все свои битвы, готовится возвратиться домой. Восток покорен, и Гней Помпей Магн – победитель. А про козлиных Метеллов и «царственных» Рексов такого сказать нельзя! Хотел бы я пойти на войну с кем-нибудь из них, а не с Помпеем Магном! Каких пустяковых противников они, должно быть, повстречали, чтобы претендовать на триумфы! Да я был бы настоящим героем, если бы отправился в поход с ними. Я мог бы быть как Гай Цезарь и прятать мои редеющие волосы под венком из дубовых листьев!
Непот поприветствовал Цезаря, стоявшего на ступенях курии Гостилия с венком на голове.
– Я предлагаю, квириты, провести небольшой плебисцит. Согласны ли вы достойно встретить Помпея Магна и дать ему специальное поручение – уничтожить причину, по которой мы все еще терпим этот бесконечный senatus consultum ultimum? Я имею в виду – надо бы вернуть домой Помпея Магна, чтобы он покончил с тем, с кем представитель козлиной ветви не может даже начать, – с Катилиной!
И опять раздавались приветственные возгласы, пока Катон, Терм, Фабриций и Луций Марий не наложили вето и на последнее предложение.
Председатель коллегии, и потому ответственный за созыв собрания, Метелл Непот решил, что сказанного и сделанного достаточно. Вполне удовлетворенный, он распустил собрание и ушел, держась за руки со своим братом Целером. По дороге он жизнерадостно принимал аплодисменты развеселившихся плебеев.
– А тебе понравилось бы, – спросил Цезарь, присоединяясь к ним, – ходить лысым, когда твое родовое имя означает «кудрявый»?
– Твой tata не должен был жениться на Аврелии Котте, – ответил Непот, не смущаясь. – Никогда не встречал ни одного Аврелия Котту, у кого к сорока годам голова не была бы похожа на яйцо.
– Знаешь, Непот, до сегодняшнего дня я и не предполагал, что у тебя такой талант демагога. Там, на ростре, ты показал настоящий стиль. Они ели у тебя с руки. И мне так понравилось твое выступление, что я даже простил тебе выпад по поводу моих волос.
– Должен признаться, я ужасно повеселился. Однако у меня ничего не получится, пока Катон на все налагает вето.